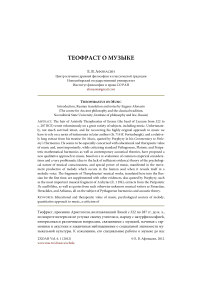Теофраст о музыке
Автор: Афонасин Евгений Васильевич
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Рубрика: Переводы
Статья в выпуске: 1 т.6, 2012 года.
Бесплатный доступ
Преемник Аристотеля Теофраст из Эреса (глава Ликея с 322 по 287 г. до н. э.) изучал самые разнообразные науки, включая музыкальную теорию. К сожалению, большая часть его работ не дошла до наших дней, поэтому сведения о его оригинальном подходе к музыке приходится восстанавливать на основе ряда позднейших свидетельств (fr. 714 ff. Fortenbaugh) и относительно большой выдержки из трактата О музыке в составе Комментария Порфирия к Гармонике Птолемея. Теофраста прежде всего интересовал образовательный и терапевтический потенциал музыки и, критикуя как стандартную «пифагорейскую» математическую гармонику, так и современные ему акустические теории, он предложил новый качественный подход к музыке, основанный на переосмыслении доступных в то время эмпирических наблюдений и крайне проблематичную (ввиду почти полного отсутствия свидетельств) теорию психологического происхождения музыкального сознания. Фрагменты музыкальных сочинений Теофраста, которые впервые переводятся на русский язык в этой работе, дополнены другими свидетельствами, также сохраненными Порфирием, такими как важнейший музыкальный фрагмент Архита (fr. 1 DK), выдержками из перипатетического трактата О слышимом, и цитатами из трактатов о музыкальной теории и акустике таких иначе неизвестных авторов, как Панетий Младший, Гераклид Младший и Элиан.
Образовательная и терапевтическая роль музыки, психологические истоки мелодии, критика количественного подхода к анализу музыки
Короткий адрес: https://sciup.org/147103324
IDR: 147103324
Текст научной статьи Теофраст о музыке
Теофраст, преемник Аристотеля, возглавлявший Ликей с 322 по 287 гг. до н. э., по широте интересов не уступал своему учителю и, наряду с натурфилософией, интересовался различными вопросами, связанными с музыкой, начиная с гармоники и акустики и заканчивая наблюдениями о социальной значимости музыкальной культуры. К сожалению, его специальные работы о музыке до нас
ΣΧΟΛΗ Vol. 6. 1 (2012) © Е. В. Афонасин, 2012 не дошли. Осталась лишь небольшая выдержка в составе «Комментария к Гармонике Птолемея» Порфирия. Кроме того в античной литературе (греческой, латинской и арабской) сохранилось несколько свидетельств о его воззрениях по поводу музыки. Все они приведены во втором томе собрания фрагментов Теофраста (Fortenbaugh 1992, II, 560–580).1 Кроме того, интересно его детальное сообщение об использовании тростника для изготовления язычков для авлов (О растениях IV 6).
Теофрасту принадлежало по крайней мере три работы о музыке (фр. 714): собственно О музыке, не менее двух книг (упоминается Диогеном Лаэртием 5.47, Плутархом, Застольные беседы 1.5.2, 623а и Порфирием, Комм. к Птолемею 61.16), О музыкантах (по свидетельству Диогена Лаэртия 5.49 и Шахрас-тани, О религиях и сектах 337.16) и О гармонике, в одной книге (Диоген Лаэртий 5.46). Кроме того, ему, возможно, принадлежала книга О ритмах (фр. 264), в которой что-то могло быть сказано о музыке.
Теофраст считался авторитетным специалистом в области музыкальной теории. В этой связи примечательно свидетельство Плутарха (О том, что жизнь по учению Эпикура не может быть приятной, 13, 1095е = фр. 715). Лучшими знатоками музыкальной теории оказываются перипатетики, в то время как эпикурейцы предпочитают музыку речам о ней:
«Что скажешь, Эпикур? Утром ты отправляешься в театр послушать играющих на кифаре и авле, однако на пире, где Теофраст рассуждает о созвучиях, Аристоксен об изменениях (μεταβολαί), а Аристотель о Гомере, с негодованием и отвращением закрываешь уши руками? Не окажется ли скиф Атей искушенней их [эпикурейцев] в музыке, – тот самый, который, выслушав игравшего на пиру пленного авлета Исминия, клялся, что с большим удовольствием он внимал бы ржанию своей лошади… Какие авл и кифара, настроенные на песню, или хора “далекоразносящийся голос из опытных уст” так порадовали Эпикура и Метродора, и какие рассуждения о хоре, постановке, проблемах, связанных с авлом, ритмах и гармонии [порадовали] Аристотеля, Теофраста, Дикеарха и Иеронима?» (Далее у Плутарха идет список типичных проблем).
Как показывает следующий фрагмент, о созвучиях Теофраст действительно рассуждал.
Фр. 717. Порфирий, Комментарий к Гармонике Птолемея, 96.21–3 (Düring):
«Созвучие кварты пифагорейцы называли συλλαβή, квинты – δι’ ὀξειᾶν, октаву же называли συσθήμα, как и Теофраст говорил – ἁρμονία».2
Сохранилось одно сообщение Теофраста о музыкантах.
Фр. 718. Афиней, Пирующие софисты 1.40 22с5–8:
«Согласно Теофрасту Адрон из Катании был первым авлетом, который начал ритмично двигаться во время игры. Поэтому у древних танцевать называлось σικελίζειν (то есть вести себя на сицилийский манер)».
Эмоциональное воздействие музыки занимало Теофраста особо.
Фр. 719А. Плутарх, Застольные беседы 1.5.2. 623А:
«Однако Соссий, похвалив их [других участников диалога], заметил, что неплохо поступит тот, кто начнет с того, что сказал о музыке Теофраст. “Недавно, – начал он, – я читал книгу. И в ней он выделяет три источника музыки: печаль, радость и божественное вдохновение (ἐνθουσιασμός). Ведь каждая из этих эмоций изменяет голос и отклоняет его обычное звучание”».
Фр. 719В. Элий Фест Афтоний, О метрах 4.2:
«Теофраст… выделяет тройственную силу этих [эмоций]: вожделение (vo-luptatem), гнев (iram) и божественное вдохновение (enthusiasmon), как бы одержимость священным безумием, как его называют греки».
Фр. 720. Филодем, О музыке 3.35 (реконструкция Sedley):
«Так как по Теофрасту (ритмы не очень) содействует воспитанию добродетели, да и то разве что у детей, и в равной мере могут способствовать несдер-жанности,3 и кажется было бы лучше (или: ему бы лучше) рассудить, что некоторые пороки скорее уходят по естественным причинам, а мелодия способна вызывать телесные движения, и грациозность движений создает упорядоченность…».
Фр. 721А. Филодем, О музыке 3.37 (реконструкция Sedley):
«…я не говорю, что ничто из этого не годится для серьезных занятий, но подходит лишь для отдыха и наслаждения, хотя также и не полагаю, что все это подражательной (миметической) природы. Иначе я одновременно уничтожил бы и свое мнение. Кроме того, утверждение Теофраста о том, что неразумно считать, будто музыка вообще не движет и не настраивает (гармонизирует) душу, вряд ли доказывает, что мое мнение далеко от истины…»
Фр. 721В. Сенсорин, О дне рождения 12.1:
«Нет ничего невероятного в том, что между нашим днем рождения и музыкой существует связь. Касается ли она одного голоса, как говорит Сократ,4 или, согласно Аристоксену,5 голоса и телесных движений, или же, этих первых и кроме того движения души, как думает Теофраст, определенно, что в ней много божественного и она существенно влияет на движение [наших] душ».
Фр. 722. Хранилище мудрой литературы (§iwan al-hikma, Depository of Wisdom Literature ), глава о Теофрасте, речение 11:6
«Он (Теофраст) сказал: пение – это добродетель в речи, неясная для души и не могущая ясно выразить свою внутреннюю сущность. Поэтому душа выражает ее (добродетель) в мелодиях, влекущих за собой сердечные волнения и потакающих разным соблазнам».7
Фр. 723. Там же, речение 12:
«Он (Теофраст) сказал: музыке причастна лишь душа, не тело. И она отвлекает душу от благополучной жизни, как наслаждение пищей и питьем иногда подобает лишь телу, не душе».
Фр. 724. Там же, речение 13:
«Он (Теофраст) сказал: если бы добродетель хоть в какой-то мере ассоциировалось со слушанием музыки, ей был бы причастен и олень, так как оленям очень нравится звучание музыкальных инструментов».
Фр. 725. Там же, речение 14:
«Он (Теофраст) сказал: души охотнее внимают тайным мелодиям, а не явным, смысл которых им понятен».
Теофраст согласен с тем, что музыка определенного типа может производить терапевтический эффект.
Фр. 726А. Аполлоний, Удивительные истории 49, 1–3:
Фр. 726В. Афиней, Пирующие софисты 14.18 624аb:
«О том, что музыка исцеляет, сообщает и Теофраст в книге О божественном вдохновении (энтузиазме), говоря, что люди излечиваются от ишиаза, если над больным местом играть на авле мелодию фригийским ладом (ἁρμονία)».
Фр. 726С. Авл Геллий, Аттические ночи 4.13.1–2:
«Многие верят и давно замечено, что если во время усиления боли при ишиасе начнут играть на авле [или свирели: tibicem] нежную мелодию, то боль уходит, как я недавно обнаружил это записанным в книге Теофраста».
Наконец, Порфирий приводит длинную выдержку из специального сочинения Теофраста о музыке. Теофраст по-прежнему занят психологическими вопросами, связанными с музыкой, и его позиция во многих отношениях уникальна в современной ему музыкальной литературе. Большая часть выдержки посвящена полемике с теми музыковедами, которые считают, что высота – это количественная характеристика звука и что именно в силу этой «исчислимости» душа способна понять и оценить звук, воспринять его как музыкальную ноту. Теофраст считает, что музыкальность звука не определяется одними количественными характеристиками и стремится показать, что многие вопросы, связанные с музыкальными созвучиями, лучше анализировать, исходя из качественных характеристик звука и особенностей его эмпирического восприятия. Все эти возражения направлены против пифагорейской гармоники, однако ближе к концу выдержки критикуется и позиция эмпирически ориентированных музыковедов («гармоников»), хотя, должно быть, не Аристоксена.
Как замечает Баркер,10 истоки этой позиции Теофраста можно усмотреть в теории музыканта Дамона, пифагорейца и учителя Перикла (DK 37), который считал, что музыка возникает из душевных движений,11 и, как Сократ у Платона и сам Теофраст (фр. 726 А–С), одобрял музыкальную терапию.12 Однако ясно, что Теофраст идет далее Дамона, Сократа, Платонова Тимея (особ. 47с), и даже за пределы Аристотелевой Политики (1340a сл.). «В душевном движении, очищающем от зол через эмоциональное переживание» (заключительная фраза фрагмента) он видит не просто свойство музыки, но ее «единую» природу. Очевидно, эта мысль запомнилась античным комментаторам, которые, как мы только что видели, в один голос приписывают рассуждения о психологической природе музыки именно Теофрасту. Сохранившиеся фрагменты (в особенности выдержка из его трактата О музыке, к которой мы переходим) ясно показывают его полемическую стратегию и, к нашему величайшему сожалению, ничего не говорят о какой-либо особенной позитивной теории. Конечно, мы не можем поручиться, что она вообще была, иначе как объяснить то обстоятельство, что, не считая кратких доксографических сообщений, музыкальные работы Теофраста не нашли никакого отражения в античной литературе и никак не повлияли на развитие музыкальной теории, а Порфирий, единственный человек, заинтересовавшийся его трактатом, счел необходимым выписать лишь полемический аргумент? О чем же тогда писал Теофраст в своих специальных работах о музыке, таких как остальная часть трактата О музыке, Гармоника и, возможно, О ритмах? Либо, что маловероятно, они также представляли собой развернутый полемический аргумент против «математиков» и «гармоников», либо, вслед за Баркером, можно предположить, что, изучая психофизический аспект музыкальных феноменов, он мог развивать подход, близкий к тому, что нашел выражение в гармонике Аристоксена. Для этого ему было достаточно принять (вместе с Аристоксеном), что гармоника описывает музыку не по сути, но лишь так, как она воспринимается на слух. «Ему, – по меткому замечанию Баркера (Barker 2007, 437), – лишь нужно было признать, что принципы, раскрывающиеся в результате такого рода исследования и управляющие отношениями и формами организации на феноменальном уровне, носят не автономный, а производный характер, и что слышимые мелодии – это лишь внешние проявления тех безмолвных танцев, которые душа исполняет на своей внутренней сцене, и что для описания этой хореографии потребуется совсем другой язык».
Фр. 716. Порфирий, Комментарий к Гармонике Птолемея, 61.16–65.15:
-
(61) Возможно, со мною многие согласились бы, но я не буду перечислять имена тех, чьими сочинениями не располагаю. Их всех заменит Теофраст, доказавший абсурдность этой доктрины13 посредством многочисленных и сильных, как мне кажется, аргументов во второй книге своего трактата О музыке.
Сделаем из него выписку, полагая, что этого будет достаточно для исправле-ниия тех, кто принимает сторону Птолемея:
«Ведь душевное движение, производящее мелодию, очень точное, когда она [душа] желает выразить его голосом: она изменяет его и, преобразуя даже неразумный [голос],14 меняет его, как ей вздумается.15 Некоторые решили ее точность возвести к числам, утверждая, что точность интервалов находится в соответствии с пропорциями между числами.16 Так они считают, что отношение октавы – это двойка (2 : 1), квинты – один с половиной (3 : 2), а кварты – один с третью (4 : 3).17 Аналогично, для остальных интервалов, как и для всех чисел, имеются пропорции, им соответствующие. (62) Поэтому музыка – это [наука] количественная, ведь таковы в ней производимые различения.
Так говоря, они кому-то могут показаться смышленее «гармоников» (τῶν ἁρμονικῶν), ориентирующихся на чувственное восприятие, так как выносят суждение о пропорциях на основе умных чисел.18 Однако они не поняли, что если различие [в высоте звуков] – это количество, то оно же возникает и как различие в количестве (παρὰ τὸ ποσότητι διάφορον),19 и должно быть мелодией или частью мелодии. Так, если цвет количественно отличается от цвета, как это и должно быть, то это же верно и для мелодии или части мелодии,20 если только мелодия и интервал исчислимы (ἀριθμός) и если мелодия и присущее ей различие существуют благодаря числу. Но если бы каждый интервал был множеством, а мелодия складывалась из различно звучащих нот (ἐκ διαφορῶν φθόγγων), то мелодия была бы такой, как она есть, в силу своей исчислимости. И тогда, если она ничем не отличается от числа, все исчислимое было бы причастно мелодии, поскольку оно [причастно] числу. Если же цвету, хотя и с некоторыми отличиями, количество присуще так же, как и нотам, то нота будет одним, а с ней связанное количество – совсем другим.21 Но если нота – это нечто отличное от числа,22 то высокие и низкие ноты взаимно различаются или как ноты, или как количества (ὡς τῷ πλήθει).
Если они отличаются количеством и более высокий звук таков потому, что движется большими числами (τῷ πλείονας ἀριθμοὺς), в то время как более низкий – меньшими, тогда что еще могло бы стать отличительной характеристикой (τὸ ἴδιον) звука? Ведь каждый звук схватывается либо как высокий, либо как низкий. Каждый звук выше одного и ниже другого, так что количество одного меньше, а другого – больше, и каждый поэтому есть число. Если это удалить, тогда что из оставшегося сохранит его как звук? Но если один звук выше или ниже другого, [то] звук обладает количеством, а если он обладает чем-то еще, то он перестанет быть звуком. Однако если ноты различаются между собой как высокие и низкие, нам больше не нужно количество, так как присущие им от природы внутренние различия будут достаточны для создания мелодии, и знание различий станет возможным. И различия теперь будут определяться не количествами, но свойствами самого звука, как и в случае с цветом. Ведь цвет как таковой не отличается количественно от другого цвета как такового.23 Количества могут быть равными, ведь если смешать равные части белого и черного, мы не скажем, что белых чисел больше, чем черных, или черных больше, чем белых. Не будет их больше, если горькое [смешать] со сладким, ведь каждое распространится в равной мере, и количество будет равномерно распределено в соответствии с качеством каждого. Так что высокий звук не составляется из более многочисленных [частей], или не движется большими числами,24 как и более низкий. Ведь о последнем можно рассудить так же, как и о первом, так как некая величина (μέγεθος) свойственна и низкому звуку.
-
(63) Ясно это становится и если рассмотреть силу звучания при пении.25 Ведь чтобы издать высокий звук понадобится некоторое усилие, равно как и для того, чтобы пропеть низкий. В первом случае приподнимают грудную клетку и вытягивают дыхательное горло, с силой его сужая, а в другом случае расширяют дыхательное горло, за счет чего оно делается короче, так как расширение приводит к укорачиванию. Подобным же образом и в случае с авлами: нужно с силой дунуть в более узкий, или более широкий, чтобы наполнить [трубку].26 Авлы это демонстрируют даже лучше, ведь более высокая нота получается с меньшим трудом, так как она извлекается благодаря вышерасположенным дырочкам,27 тогда как более низкая нота требует большего усилия: ведь если движимый вдохом воздух проходит через всю трубку, то насколько она длиннее, настолько же сильнее требуется вдох. Для струн в каждом из этих случаев наблюдается равенство: насколько туже натяжение более тонкой струны, настолько же толще должна быть та, чье натяжение кажется более сла-бым.28 Так что, насколько звук более тонкой струны сильнее, настолько же звук другой тяжелее (βαρύτερος).29 Ведь от большего происходит более полный и объемный звук.30
Разве могли бы какие-либо ноты оказаться созвучными, если бы не достигалось равенства?31 Ведь избыточное не смешивается, и то, что свыше меры, оказывается излишком, заметным в смеси. Поэтому к сильным элементам в смеси следует примешивать большее количество слабых, чтобы достичь равновесия силы.32 Так что если имеется созвучие, то должна быть и соразмерность в том, из чего оно возникает. Но если более высокая нота движется большими числами (πλείους ἀριθμούς), тогда каким же образом достигается созвучие? И если, как они утверждают, более высокая нота (ὁ ὀξύτερος φθόγγος) слышится на большем расстоянии, поскольку перемещается дальше в силу остроты ее движения (διὰ τὴν τῆς κινήσεως ὀξύτητα) или потому, что рождается из множе-ственности,33 то она никогда не будет созвучной более низкой ноте, ни когда слышится одна (ведь созвучие состоит из двух нот), ни когда она выпадает (ведь по причине этого незаметного выпадения ее точно уже не слышно), ни, что важнее всего, когда они слышатся обе. Ведь высокий звук более порывистый (σφοδρότερός) и способен перемещаться на большее расстояние, поэтому он подавляет (φθάνει) и побеждает (κατισχύει) низкий звук, завладевая нашим слухом даже тогда, когда более низкий звук не уступает ему по силе. Но когда возникает созвучие, очевидно, при определенном равенстве двух нот, то равенство это достигается по силе при различии их качественных характеристик. Ведь более высокий звук по природе своей лучше слышен, даже если он не сильнее [других звуков], и потому воспринимается на большем расстоянии, нежели более низкий. (64) Точно так же белый цвет заметнее других цветов, как и все остальное более броское, и не потому, что одно по природе меньше другого, или что оно не движется равными числами, но потому что восприятие сосредотачивается на одном более, нежели на другом по причине его несходства с окружением.34 Так что и низкий звук достигает [ушей], однако слух быстрее улавливает более высокий – в силу его особенностей, а не по причине количества, которое он содержит (οὐ διὰ τὸ ἐν αὐτῷ πλῆθος). И если уж высо- кий звук проходит большее расстояние, то это не потому, что он движим большими числами, но благодаря его форме (τὸ σχῆμα), так как высокий звук совершает больше движений вверх и вниз по сравнению с низким, перемещающимся более ровно.35
Можно показать это же и на примере инструментов. Звучание тех, что имеют рог [как горн] или бронзовый раструб,36 оглашает всю округу, так как звук от них одинаково распространяется во все стороны. Теперь, если прикоснуться к грудной клетке во время произнесения высокого звука, а затем низкого, то можно почувствовать рукой больше движения при произнесении низкого звука.37 Если же прикоснуться к панцирю черепахи, рогу или ручке инструмента38 и ударить сначала по тонкой струне, а затем по той, что производит низкий звук, то больше движения в резонаторе (τὸ κύτος, полости) почувствуется опять же в случае, когда удар наносится по струне, производящей низкий звук. Ведь низкий звук распространяется во всех направлениях (πέριξ), а высокий – в том, куда его направляет источник.39 И если насколько далеко вперед движется высокий звук, настолько же во все стороны распространяется низкий, то он не будет движим меньшими числами, как это видно на примере авлов. Более длинный авл звучит ниже, и требуется [вдохнуть] больше воздуха, чтобы он весь пришел в движение. Но не скоростью отличается высокая нота, ведь тогда она первой привлекала бы слух, и созвучие не возникло бы. Если же оно возникает, то они движутся с равной скоростью.40 Так что отнюдь не какие-то неравные числа придают смысл (λόγον ποιοῦσιν) различиям [в высоте звучания], но сами звуки, в силу их природных особенностей, естественным образом согласующиеся друг с другом.41
Но и не интервалы, как говорят некоторые,42 являются причиной различий [в высоте звучания] и, следовательно, их началами (ἀρχαί), так как если их пропустить (παραλειπομένων), то различия все же останутся. А если нечто появляется, когда что-то другое пропущено, то это нечто не может быть причиной его существования в качестве действующей [причины], но лишь – в качестве не препятствующей.43
Немелодичное не есть причина мелодичного,44 ведь мелодичное не появилось бы, если бы немелодичное не было отвергнуто, как нечто не могло бы стать предметом познания (ἐπιστημονικόν), если бы ему противоположное, невежество познающего (ἀνεπιστῆμον τοῦ ἐπιστήμονος), не было отвергнуто. Как невежество для познающего [субъекта] не есть причина, понятая как сущая, но лишь не препятствующая – как устранимая, так и интервалы для мелодии – не действующая причина, но не препятствующая.45 (65) Если некто начнет петь, непрерывно заполняя и промежуточные положения,46 то произ- носимый звук разве не будет немелодичным? Немелодичное звучание возникнет, если их не отбросить, и не потому, что их удаление создает мелодию, но потому, что если бы их не удалили, то они бы ей препятствовали.
Поэтому весьма полезно для [образования] мелодии то, что они [интервалы] избегаются47 и позволяют нам обнаружить ноты, согласующиеся (συνηρμοσμένους) друг с другом. Именно эти ноты есть причины мелодии, а удаленные интервалы, если сделать их явными, станут причиной немелодичного звучания, и именно его причинами их можно назвать, а не мелодичного звука. Так что причинами мелодического звучания не являются ни интервалы, которые его губят, если становятся явными, ни числа, в силу отличия одной ноты от другой количественными характеристиками.48 И низкие ноты оказались в одном отношении равными высоким, а в смысле затраченной работы равными в противоположном отношении.49 Ведь люди, произносящие высокий звук, трудятся не меньше тех, кто издает низкий, однако усилия они прилагают в противоположных направлениях (εἰς τοὐναντίον).
Природа музыки едина: она в душевном движении, очищающем от зол через эмоциональное переживание. И если бы это была не она, то она не была бы природой музыки.50
Дополнение 1.
Панетий Младший о делимости интервалов, ВЫСОТЕ ЗВУЧАНИЯ И ГРОМКОСТИ ЗВУКА
Закончив выписку из трактата Теофраста о музыке, Порфирий приводит следующую цитату из иначе неизвестного математика и музыковеда Панетия,51 вероятно, полагая, что его рассуждение о необходимости качественного анализа созвучий дополнит Теофраста (Комм. к Гармонике Птолемея 65.21 – 67.10):
Панетий Младший в своем трактате «О пропорциях и интервалах в геометрии и музыке» (Παναιτίῳ τῷ νεωτέρῳ ἐν τῷ Περὶ τῶν κατὰ γεωμετρίαν καὶ μουσικὴν λόγων καὶ διαστημάτων)… пишет так:
«Говорить в музыке о полутоне (ἡμιτόνιον) – значит ошибочно употреблять слова. Полагающий, что интервал между высоким (ὀξέος) и низким (βαρέος) делится некой средней нотой (μέσῳ τινι φθόγγῳ), подобен тому, что говорит, что пополам делится интервал между белым и черным или горячим и холодным. Ведь наука, изучающая созвучия, занята не относительной громкостью нот,52 но их качественными характеристиками (ποιότης).53 И когда математики говорят, что октава определяется отношением два к одному, они не имеют в виду, что нота нета (νήτη) звучит в два раза громче ноты гипата (ὑπάτη), или наоборот. Тому есть свидетельство: если ударить по струнам сильно, а затем по одной струне сильно, а по другой слабее, то интервал будет тем же самым, хотя струна, по которой ударили сильнее, издаст более громкий звук (μείζονα ἦχον); так что ошибочно утверждать, будто интервал зависит от громкости звука. Значит, его определяют качественные характеристики. Но что же тогда означает выражение, что октава – это двойное отношение (2 : 1), кварта – сверхтретье (4 : 3), квинта – полуторное (3 : 2), октава и квинта – тройное, а двойная октава – четверное? Так как зрение не в силах судить (κρίνειν) об относительных величинах (τὰ σύμμετρα τῶν μεγεθῶν), если только не найти для них какую-нибудь меру, посредством которой относительные (величины) могли бы быть естественным образом измерены,54 и чувство осязания не в силах судить об относительном весе, если только не найти весы, позволяющие судить о тяжести, абсурдно было бы полагать, что слух, чувство более слабое, чем зрение, может без какого-либо канона в качестве меры (χωρὶς μέτρου τινος καὶ κανόνος) судить о созвучии интервалов. Ведь те, кто концентрируется на восприятии, как будто прислушиваясь к звуку за закрытой дверью,55 подобны тем, которые выносят суждение об относительных величинах без какого-либо средства измерения, тем самым далеко отступая от истины».
Далее, возможно, продолжая пересказывать Панетия, Порфирий делает два важных замечания. Во-первых, о делении интервалов музыканты говорят лишь в смысле специальной измерительной процедуры: «Так что когда утверждают, что октава – это двойное отношение, имеют в виду не то, что одна нота – это удвоение другой ноты, но то, что струны, которые звучат в октаву, находятся в этом отношении».56 Во-вторых, пифагорейцы и их преемники давно и подробно изучили различные созвучные интервалы, и даже явление резонанса («когда ударяют по одной струне, а другая естественным образом созвучно движется»), при помощи инструмента, называемого каноном («именуемого так потому, что он есть критерий для слуха при количественном изучении созвучий»), доказав, в частности, что тон (9 : 8) не делится пополам.57
Так что, заключает он, и при качественном анализе интервалов и с точки зрения математической теории канона полутон – это неправильное словоупотребление, подобное «полугласному» или «полуослу» (мулу). Ведь, так говоря, мы же не подразумеваем половину гласной или половину осла?
Д ОПОЛНЕНИЕ 2 .
Скорость распространения звуковой волны и высота звучания
Начиная, по крайней мере, с Архита все античные авторы согласны с тем, что звук возникает при соударении (πληγή) твердого тела или «выдоха» с воздухом. Однако как он передается? Еще в трактатах Аристотелевского корпуса (прежде всего, О слышимом) отмечается, что звуковая волна (позволю себе несколько анахронистических терминов) перемещается не так, как твердое тело: при распространении звука частицы воздуха не перемещаются, и то, что создает звук, представляет собой пульсации в неподвижной и эластичной среде. Что определяет высоту звука? Если бы, как это утверждали Архит (фр. 1, см. ниже), а затем Платон (Тимей 67а и 80а) и автор Проблем Аристотелевского корпуса (IX.3 и др.), более высокие звуки распространялись быстрее медленных, то было бы невозможно объяснить, почему два звука разной высоты, изданные на одном расстоянии от слушателя, достигают его ушей одновременно? Заметим, что эта ошибочная теория регулярно повторялась древними авторами и, в особенности, позднеантичными комментаторами, хотя правильное решение вопроса было предложено уже в пс.-Евклидовом Делении канона (текст см. выше в этом номере журнала): неизвестный автор этого трактата замечает, что, быстро осциллируя и многократно соударяясь с воздухом, струна производит серию ударов по воздуху, слышимых как непрерывный звук (см. также п. 3 ниже). Чем быстрее движется струна, тем выше звук, который она производит, так что высота звука напрямую зависит от частоты колебания струны. Примечательно, что, признавая связь высоты звука с частотой колебания струны, автор трактата О слышимом тем не менее считал, что более высокие звуки распространяются быстрее более низких. Рассмотрим это подробнее.
1. Архит о связи скорости движения звуковой волны с высотой звучания
Фрагмент трактата Архита Тарентского «О математике», Порфирий, Комм. к Гармонике Птолемея 56.21–57.27, пер. А. В. Лебедева, с необходимыми исправлениями:
«… Из [звуков], попадающих в [слуховое] ощущение, те, что приходят от ударов быстро и <сильно>, кажутся высокими, а те, что медленно и слабо, кажутся низкими. Так, если взять палку и ударять ею вяло и слабо, то от удара получится низкий звук, а если быстро и сильно – то высокий. Мы можем судить не только по этому, но и по тому, что когда мы говорим или поем и нам нужно издать громкий и высокий звук, то мы достигаем этого сильным выдохом, <а когда тихий и низкий – то слабым>. То же и в случае с метательными снарядами: пущенные сильно летят далеко, [пущенные] слабо – близко, так как летящим сильно воздух поддается больше, а летящим слабо – меньше. То же окажется и с голосами: движущиеся от сильного выдоха окажутся громкими и высокими, а от слабого – тихими и низкими. Мы можем воочию убедиться в этом и на основании следующего неопровержимого факта: одного и того же [человека], говорящего громко, услышим даже издалека, а [говорящего] тихо [не услышим] даже вблизи. То же и с авлами: когда выдыхаемый изо рта воздух попадает в ближние ото рта дырочки, то вследствие большой силы он издает более высокий звук, когда в дальние – более низкий, откуда ясно, что быстрое движение производит высокий звук, а медленное – низкий. То же самое наблюдается и в ромбах (τοῖς ῥόμβοις), которые приводят в движение (κινουμένοις) в мистериальных обрядах: когда ими вращают (κινούμενοι) медленно, они издают низкий звук, когда быстро – высокий. То же и с тростниковой трубкой (κάλαμος): если подуть в нее, зажав нижнюю часть, она издаст <низкий> звук, если же зажать посередине или в любом другом месте, то она издаст высокий звук, так как одинаковая [по силе] струя воздуха, пройдя большое расстояние, вылетает слабой, а меньшее – сильной». Развив дальше тезис о том, что движение голоса измеряется интервалами, он подытоживает сказанное так: «Итак, то, что высокие звуки движутся быстрей, а низкие – медленней, нам стало очевидным на основании многих [аргументов и примеров]».
Подробный анализ этого фрагмента и обсуждение вопроса о его аутентичности см. Huffman 2005, 104 ff. Примечательно, что Архит напрямую связывает не только скорость распространения звука с высотой звучания, но и высоту звука – с его громкостью: по его представлению низкий звук распространяется медленнее и всегда тише высокого. Кроме того, он ничего не говорит о среде, в которой распространяется звук: для него выдох – это такой же удар одного тела о другое, как и в случае с брошенным снарядом. Хотя отсюда не обязательно следует, что Архит думал, будто звук – это своего рода «снаряд из воздуха». Эти погрешности, впоследствии исправленные Платоном (Тимей 67а и 80а) и Аристотелем (О душе 420а, О рождении животных 786b), равно как и архаичность терминологии, указывают на аутентичность фрагмента, а очевидное стремление Архита убедить читателей в своей правоте при помощи многочисленных примеров позволяет, вслед за Хаффманом, предположить, что он здесь предлагает скорее новый, нежели общепринятый в пифагорейской среде (как это иногда утверждается) взгляд на вещи. Примечательно так же, что в длинном списке примеров, которые приводит Архит, отсутствует указание на струнные инструменты, а значит и любую форму пифагорейского «канона». Напротив, другие авторы в подобном контексте не упоминают «ромб» – довольно простую конструкцию, используемую как в культовой практике, так и в качестве игрушки, и представляющую собой деревянный или металлический отвес, прикрепленный к тонкой веревке (Климент Александрийский, Про-трептик 2.17.2; Афиней, Пирующие софисты 636а, Палат. антология 6.309; Huffman 2005, 159, Barker 1989, 41, n. 51, Mathiesen 1999, 172). Для теории Архита это хороший пример: если быстро вращать «ромбом», он издает свистящий звук, причем высота звучания явно зависит от скорости вращения. Говоря о тростниковой трубке (κάλαμος), Архит возможно имеет в виду сиринг (Huffman 2005, 161), который в греческом варианте представлял собой набор трубок одинакового диаметра, заполненных в нужной пропорции воском: заполненная наполовину трубка издавала звук, вдвое более высокий, нежели пустая. Наконец, важно помнить, что Архит (по крайней мере, в цитируемом Порфирием тексте) дает скорее качественные, нежели количественные оценки и, апеллируя к опыту и чувственному восприятию, не упоминает ни измерительных процедур, ни точных пропорций (хотя о них идет речь во фрагменте из его сочинения «О музыке», также цитируемом Порфирием, 92.9 сл. = фр. 2 DK; ср. свидетельство о его учении 14 DK = Птолемей, Гармоника 30.9 сл.).
2. О распространении звуковой волны в трактате О слышимом
Порфирий (Комм. на Гармонику Птолемея, 67.24 сл.) цитирует текст, который он приписывает Аристотелю. Начинается он так (хотя, скорее всего, это не начало трактата):
«(800a) Все голоса (φωνάς) и звуки (ψόφους) возникают при соударении тел или воздуха с телами, и не потому, что воздух приобретает некоторую форму
(τῷ τὸν ἀέρα σχηματίζεσθαι), как думают некоторые, но потому что он движим подобным образом, сокращаясь, растягиваясь и схватываясь при соударении, в результате толчка, произведенного выдохом или струнами.58 Ведь когда выдох, сталкивающийся с воздухом, ударяет ближайший к нему воздух, это тотчас приводит [этот] воздух в движение, в свою очередь и подобным же образом толкая вперед воздух, прилегающий к нему [и так далее], и таким способом звук распространяется повсюду, оставаясь тем же в тех пределах, в каких распространяется движение воздуха».59
Звук распространяется как пульсация, передающаяся «подобным образом» через более или менее неподвижную среду. Когда нечто ударяет о воздух, на границе удара (о чем см. п. 3 ниже) возникает напряжение, которое «схватывается» со следующим фрагментом воздуха и «с силой» передается ему и так далее до тех пор, пока это движение не затухает. О «форме» звука говорит, как мы видели, Теофраст (Порфирий, 64.4–19; ср. так же Проблемы XI.16, 20 и 23), однако возражение автора трактата направлено против тех, кто, подобно Архиту, сравнивают движения звукового сигнала с полетом снаряда. Далее неизвестный автор трактата (которым мог быть, например, преемник Теофраста Стратон)60 рассуждает о качественных характеристиках звука, таких как его отчетливость, гулкость, надтреснутость и т. д., в зависимости от, во-первых, его источника (800аb) и, во-вторых, особенностей окружающей среды и других сопутствующих обстоятельств (801а и далее). Однако детальный разбор этого текста следует отложить до подходящего случая. Автора трактата интересует в основном человеческий голос, что не мешает ему сделать несколько уникальных наблюдений по поводу музыкальных инструментов, таких как салпинг и фригийский авл. Правильно описывая процесс передачи звука, автор еще не может различить между скоростью распространения звуковой волны и свойствами самого звука, такими как его высота и тембр. Так, сначала (801а6–10) говоря, что «когда дыхательные пути короткие, выдох делается быстро и удар по воздуху получается сильнее» и поэтому голос у таких людей выше, «из-за высокой скорости, с которой перемещается звук», он затем (803а5–12) замечает, что «быстрота дыхания делает голос высоким, а сила – жестким. Поэтому одни и те же люди не только иногда говорят высоким голосом, а иногда низким, но и иногда мягким, а иногда жестким»,61 добавляя, что мнение, будто твердость горла делает голос твердым, ошибочно: «Это обстоятельство играет свою роль, но главная причина – это воздействие выдоха, произведенного легкими с усилием».
3. Гераклид Младший об источнике звука и музыкальном интервале
Скорее пересказывая и добавляя свои пояснения, нежели цитируя, Порфирий сообщает следующее (Комментарий к Гармонике Птолемея, 30.1–31.21):
«Гераклид (Ἡρακλείδης)62 так пишет об этом в своем Музыкальном введении (ἐν τῇ Μουσικῇ εἰσαγωγῇ): “Пифагор, по словам Ксенократа,63 открыл, что и музыкальные интервалы не возникают отдельно от числа: ведь они есть слияние количества с количеством”. Так он исследовал условия возникновения для созвучных и несозвучных интервалов и всего настроенного и расстроенного.64 И, обратившись к вопросу о происхождении звука, сказал: “Для того чтобы, благодаря равенству, послышалось нечто созвучное, должно быть произведено некое движение”.65 Но ведь движение не возникает без числа, равно как и число без количества.66 Бывает, по его словам, два типа движения: перемещение (φορά) и изменение, причем перемещение бывает двух видов: круговое и прямолинейное (ἡ μὲν ἐν κύκλῳ, ἡ δ' ἐπ' εὐθύ). Совершая круговое движение одни перемещаются с места на место, как Солнце, Луна и остальные звезды, а другие остаются на одном месте, как конусы и сферы, вращающиеся вокруг своей оси. Имеется также и несколько видов прямолинейного движения, о которых сейчас говорить нет необходимости.
Положим, как он говорит, что движение, присущее звукам (ἡ περὶ τοὺς φθόγγους), – это перемещение с места на место, ведущее по прямой [от источника звука] до органа восприятия. Как только снаружи произведен удар, звук от удара движется до тех пор, пока не достигнет органа восприятия. Достигнув его, он производит движение в органе слуха и создает в нем ощущение.67 Удар, как он говорит, представляет собой не временной интервал, но располагается на временной границе между прошлым и будущим.68 Ведь он возникает не тогда, когда некто только собирается нанести удар, и не когда он его уже нанес, но как раз между прошлым и будущим, словно разрез и разграничение во времени (οἱονεὶ τομή τις τοῦ χρόνου καὶ διορισμός). Как, по его словам, линия, рассекающая плоскость, не принадлежит ни одной из плоскостей, но является границей для них обеих, так и удар есть “сейчас” (τὸ νῦν), а не во времени прошлом или будущем. Однако, по его словам, вероятно удар длится некоторое время, неощутимое в силу слабости слуха, как это случается и с органом зрения. Ведь если мы возьмем конус с одной белой или черной точкой и начнем его вращать, то нам покажется, что конус опоясывает окружность цвета этой точки, а если на вращающемся конусе будет белая или черная линия, то вся поверхность конуса приобретет цвет этой линии. Точка не кажется одной частичкой окружности, а линия – поверхности: зрение в этом случае нас подводит. То же самое случается, по его словам, и со слухом, причем слух смущается даже сильнее зрения.
Ведь если натянуть струну и ударить по ней, позволив ей издать отзвук (ἀπηχεῖν), то послышится звук, а струна будет продолжать, вибрируя, двигаться туда и обратно на одном месте так, что ее движение лучше воспринимается зрением, нежели слухом.69 С каждым производимым ей ударом по воздуху до слуха доходят все новые и новые звуки. Но в таком случае, как он говорит, ясно, что каждая из струн издает несколько звуков. Итак, если каждый звук порождается ударом, а удар возникает не во времени, но на границе времени (οὐκ ἐν χρόνῳ ἀλλ' ἐν ὅρῳ χρόνου), то становится ясно, что между звучащими ударами должны быть моменты тишины, причем определенной длительности (σιωπαὶ ἂν εἴησαν ἐν χρόνῳ). Но слух не воспринимает эти моменты тишины, поскольку она не способна произвести в нем движения (διὰ τὸ μὴ εἶναι κινητικὰς τῆς ἀκοῆς), а также потому, что интервалы (τὰ διαστήματα) слишком малы, чтобы быть услышанными. Так звуки, сливаясь, производят впечатление единого звучания, длящегося определенное время”».70
4. Элиан об относительной высоте звука
Закончив выписку из Гераклида, Порфирий (32,1 сл.) кратко вспоминает о сочинении псевдо-Архита «О мудрости»71 и Демокрите,72 а затем приводит большую цитату из второй книги Комментария некоего Элиана (Αἰλιανός) к Тимею Платона (33.16–37.5, ср. также 96.7–15):73
«Звуки (φωναὶ) отличаются друг от друга высотой и низостью [напомню: букв. «остротой и тяжестью»] звучания. Рассмотрим же, каковы основные причины различий между нотами (φθόγγοι). Основная причина всякого звука – это движение. Ведь если звук – это подвергнутый удару воздух (ἀὴρ πεπληγμένος), то удар (πλῆξις) – это движение. Если же он есть [подвергнутый удару] орган восприятия, как утверждают эпикурейцы, – когда от звука к органу восприятия передается пара-звук (παραφωνῆς) при посредстве неких истечений (ῥευμάτων),74 – то и в этом случае причиной восприятия оказывается движение».
Затем, ссылаясь на труд предшественников, «которые сначала исследовали явления», Элиан предлагает знакомый нам ответ: «Быстрое движение есть причина высокого звучания, а медленное – низкого, и каждый может это проверить, изучив явления и прибегнув к помощи чувственного опыта».
Далее следует набор стандартных примеров, впрочем, не лишенный интересных деталей. В случае с авлами, две трубки одинакового диаметра звучат пропорционально отношению (κατὰ λόγον) их длин: чем длиннее трубка, тем ниже она звучит, «так как вдох проходит через меньшую трубку и ударяет окружающий воздух быстрее, а через большую движется медленнее, толкая вперед содержащийся в ней воздух». То же самое наблюдается и в случае с сирингами.
Напротив, если рассмотреть так называемый фригийский авл и сравнить его с греческим, то есть взять трубки одинаковой длины, но различного диаметра, то мы обнаружим, что трубка большего диаметра издает более высокий звук. «И в целом, трубки у фригийских авлов меньше диаметром, чем у грече- ских и издают более низкий звук». Это объясняется, согласно Элиану, тем, что движение воздуха по узкой трубке более затруднено по сравнению с широкой. Это сообщение не очень понятно. Известно, что фригийский авл отличался тем, что его левая трубка была существенно длиннее правой и заканчивалась раструбом, обычно изготавливаемым из рога (Barker 1984, 272 и 267 n. 31). Комментируя текст, Баркер (Barker 1989, 232, сн. 101) отмечает, что это уникальное сообщение Элиана должно быть отражает тот факт, что узкая цилиндрическая трубка позволяет легче извлекать низкие гармоники. Наконец, по словам Элиана, теория может быть проверена при помощи лишь одной трубки: через ближайшую к мундштуку дырочку дыхание проходит быстрее и получается более высокий звук, и напротив, закрыв верхние дырочки и открыв нижнюю, мы получим самый низкий звук.
Затем Элиан описывает треугольную арфу, тригон, называемый также самбукой (τὸ τρίγωνον, ὃ δὴ καλεῖται σαμβύκη, см. Barker 1984, 292–293. См. Иллюстрации, Рис. 13), представляющую собой треугольник со струнами (обычно, четырьмя) разной длины. Струны делали одинаковой толщины, говорит Элиан, «так как важность различия в толщине еще не поняли». Более длинные струны издавали более низкий звук. Объясняется это тем, что, изогнувшись в результате удара, более толстая струна позже достигает неустойчивого равновесия (ἀντίστασις) и позже возвращается в исходное положение (ἀποκατάστασις), «а значит воздух, ударяемый медленно, производит низкий звук» (ср. рассуждение Гераклида о возникновении непрерывного звука из серии дискретных ударов, выше). Затем, замечает Элиан, поняли, что того же эффекта можно добиться, изменив толщину струны.
Закончив обсуждение техники извлечения звуков разной высоты, Элиан переходит к интервалам и созвучиям (35.13 и далее). Стандартным образом, оказывается, что интервалом (διάστημα) называется расстояние между высокой и низкой нотой. Причем, в определенных случаях две одновременно извлекаемые ноты образуют созвучие (συμφωνία), которое характеризуется наиболее полным слиянием и смешением двух разных звуков,75 ни один из которых не преобладает над другим76 и не демонстрирует свою собственную способность (35.34: τὴν ἰδίαν…δύναμιν). Действительно, говорит Элиан (35.29), если взять определенные количества вина и меда и смешать их в нужной пропорции (συμμετρίᾳ), то возникнет нечто третье, не вино и не мед (οἰνόμελι).
На этом первая часть цитаты заканчивается. Порфирий замечает, что далее, в связи с пифагорейскими музыкальными пропорциями, Элиан объясняет, как именно может быть измерено движение, отвечающее за образование высоких и низких нот (36.12–37.5):
«Следует пояснить смысл утверждения, что одно движение находится по отношению к другому в сверхтретьем, двойном или каком ином отношении. Если два тела движутся неодинаково и одно из них, в течение равного промежутка времени, движется в два раза быстрее другого, то расстояние (διάστημα), пройденное более быстрым телом, будет в два раза больше, нежели расстояние, пройденное другим… Вот что значит двигаться в два раза быстрее».
И напротив: «Если одно расстояние, скажем, десять стадиев, пройдено более быстрым телом за два часа, а более медленным за четыре часа, тогда отношение времени, в течение которого более медленное тело прошло десять стадиев ко времени, в течение которого это же расстояние прошло более быстрое тело, то есть отношение четырех к двум, будет отношением скорости быстрого тела к скорости медленного».
«Так как временные отрезки по своей природе непрерывны (οἵ τε χρόνοι τῆς τῶν συνεχῶν φύσεώς εἰσιν), равно как и расстояния, пройденные движущимися телами, то есть величины (τὰ μεγέθη) относятся к роду непрерывных вещей, то ясно, что сравниваемые друг с другом временные отрезки однородны (ὁμογενεῖς),77 так же как и пройденные расстояния, – как прямые линии [однородны] прямым линиям, а окружности кругов другим окружностям. Но деление непрерывных вещей может быть продолжено неопределенно долго (εἰς ἄπειρον), причем некоторые из них соизмеримы (σύμμετρα), а некоторые несоизмеримы (ἀσύμμετρα): соизмеримые могут быть выражены числовыми про-порциями,78 а для несоизмеримых такой пропорции не отыскать. Это же следует уразуметь и в отношении скоростей, а именно, что некоторые из них соизмеримы, а некоторые – нет. Когда отношение скоростей соизмеримо, одна скорость относится к другой как число к числу».
Список литературы Теофраст о музыке
- Щетников, А. И., пер. (2009) «Теон Смирнский. Изложение математических предметов, полезных при чтении Платона», ΣΧΟΛΗ. Философское антиковедение и классическая традиция 3: 466-558.
- Barker, A. (1984) Greek Musical Writings I, The Musician and his Art. Cambridge.
- -(1984) Greek Musical Writings I, The Musician and his Art. Cambridge.
- -(1985) 'Theophrastus on pitch and melody', in Theophrastus of Eresus: on his Life and Work, eds.W. Fortenbaugh et al. New Brunswick and Oxford: 289-324.
- -(1989) Greek Musical Writings II, Harmonic and Acoustic Theory. Cambridge.
- -(2007) The Science of Harmonics in Classical Greece. Cambridge.
- Düring, I. (1932) Porphyrios Kommentar zur Harmonielehre des Ptolemaios. Gothenburg.
- -(1934) Ptolemaios und Porphyrios über die Musik. Gothenburg.
- Fortenbaugh, W. W., et al., eds. (1992) Theophrastus of Eresus: Sources for his Life, Writings, Thought and Influence, 2 vols. Leiden.
- Gottschalk, H. B. (1968) 'The De audibilibus and Peripatetic acoustics', Hermes 96: 435-60.
- -(1980) Heraclides of Pontus. Oxford.
- -(1998) 'Theophrastus and the Peripatos', in Ophuijsen and Raalte (1998): 281-98.
- Huffman, C. A. (2005) Archytas of Tarentum: Pythagorean, Philosopher and Mathematician King. Cambridge.
- Levin, F. R. (2009) Greek Reflections on the Nature of Music. Cambridge.
- Ophuijsen, J. M., van and M. van Raalte (eds.) (1998) Theophrastus: Reappraising the Sources. New Brunswick and London.
- Sicking, C. M. J. (1998) 'Theophrastus on the nature of music', in van Ophuijsen and van Raalte (1998): 97-142.
- Wehrli, F. (1953) Heracleides Pontikos, Die Schule des Aristoteles, IV. Basel.