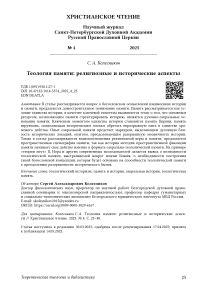Теология памяти: религиозные и исторические аспекты
Автор: Сергей Александрович Колесников
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теоретическая теология и библеистика
Статья в выпуске: 4 (115), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается вопрос о богословском осмыслении взаимосвязи истории и памяти, предлагается домостроительное понимание памяти. Память рассматривается как условие единства истории, в качестве ключевой гипотезы выдвигается тезис о том, что основным ресурсом, позволяющим памяти структурировать историю, являются духовносакральные основания памяти. Ключевым моментом единства истории становится память Церкви, память верующих, позволяющая историческим эпохам обретать неразрывную нить в единстве храмового действа. Опыт сакральной памяти предстает маркером, выделяющим духовную близость исторических локаций, опытом, преодолевающим разорванную мозаичность истории. Также в статье рассматриваются взаимоотношения религиозной веры и памяти, предлагается пространственная сценография памяти, так как история методик пространственной фиксации памяти начинает свое действо именно в формате сакральнотеологической памяти. На примере «теории мест» П. Нора и других современных исследователей делается вывод о возможности теологической памяти, выстраиваемой вокруг имени Божия, о необходимости построения такой богословской концепции, которая будет основана на способности теологической памяти к преодолению разорванности исторического бытия.
Теологический историзм, память и история, сакральная история, теологическая память
Короткий адрес: https://sciup.org/140313066
IDR: 140313066 | УДК: 1(091):930.1:27-1 | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_4_25
Текст научной статьи Теология памяти: религиозные и исторические аспекты
Введение: сакральные скрепы истории и памяти
Актуальность темы сакральной памяти определена в первую очередь тем, что память, являя себя экзистенциально-дивным прорывом духа в онтологию мироздания (или, в формулировке А. Бергсона, особым «вниманием к жизни» [Бергсон, 1992, 269]), тем самым принимает на себя высочайшую степень ответственности за порождение современной мнемо-гносеологии. Я. Ассман в «Культурной памяти» отмечает, что «вокруг понятия воспоминания складывается новая парадигма наук о культуре» [Ассман, 2004, 12], и это — констатация качественно иного понимания роли памяти в осмыслении как культуры, так и бытия в целом. Актуализация проблематики усиливается с учетом того состояния, в котором память сегодня становится смыслообразующим центром человеческого познания, и в первую очередь — память историческая. Приоритет памяти как онто- и культурологического инструментария познания формируется не только и не столько в силу возрастающих количественных объемов памяти — в разных «инкрустациях»: исторических, технических, digital humanities и прочего, и это объяснимо, так как человечество помнит и вспоминает о себе/о мире все больше и больше, — но и с изменением качества памяти, ведь на авансцену познания выходит стремление прежде всего раскрыть, «что» и «как» вспоминают.
Определение П. Нора о том, что «память — не воспоминание, но общая экономия и управление прошлым в настоящем» [Нора, 1999, 84], стало классическим, однако современность требует глубинного постижения «экономико-управленческого» потенциала мнемоники, выяснения фундаментальных оснований, определяющих сущность памяти. Представляется, что все более насущной становится уже не мнемо-«эконо-мика» с ее количественным мониторингом внешних «контуров», а скорее иконо-мия (а с другой стороны — акривия, выяснение верного «использования») памяти в меняющихся культурно-исторических условиях. Икономия памяти — с акцентом на oiKovopia, домостроительство памяти (как и на фонетико-онтологически родственное понятие elkov, «образ» — с разворачивающимся спектром метафизических смыслов) — выводит к концепции «доброй памяти», в основании которой лежит духовное осмысление «символических фигур прошлого» (Я. Ассман). Домостроительное понимание памяти позволяет увидеть прошлое как креационный проект по формированию единого, органичного в своих концептуальных перспективах процесса.
Именно указанные аспекты определяют методологию нашей статьи: в основе лежат методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, историко-сравнительный метод, а также метод моделирования, позволяющий создать духовно-гносеологическую модель сакрально-исторической памяти.
Важное место в рассмотрении обозначенной проблемы занимает историографическое разворачивание осмысления исторической памяти. Здесь можно отметить таких зарубежных исследователей, как П. Нора, П. Хатон, Р. Коллингвуд, М. Хальбвакс, Я. Ассман и мн. др. Но не меньший вклад в развитие историографии проблемы исторической памяти внесли и отечественные исследователи, в том числе сформировавшиеся в дореволюционный период, такие как Н. М. Карамзин, С. М. Соловьев, В. О. Ключевский, Н. Ченцов, о. П. А. Флоренский и иные выдающиеся историки-теоретики.
Необходимо отметить, что еще И. Г. Дройзен в «Историке» концептуализировал преемственность памяти как связующего звена исторических эпох: «Наша задача может заключаться только в том, чтобы понять воспоминания и предания, остатки и памятники прошлого так, как понимает слушающий говорящего, чтобы попытаться узнать путем исследования из тех имеющихся еще у нас материалов то, чего хотели те люди, которые формировали, действовали, трудились, что волновало их Я, что они хотели высказать в таких выражениях и отпечатках своего бытия» [Дройзен, 2004, 71], и здесь определяющим становится именно экзистенциально-икономический характер памяти. Современность требует от памяти уже не только связующих способностей, но и темпорально-реанимирующих качеств. Например,
П. Хаттон считает, что «искусство памяти было источником восстановления потерянных миров» [Хаттон, 2004, 17], а показательным «трендом» новейшей мнемоники становятся понятия им-меморации — отмечается даже «шквал иммемораций гражданского общества» [Нора, 1999, 131], ком-меморации (Е. Руниа постулирует: «тему коммеморации можно встретить повсюду», с требованием повышенного серьезного отношения к этому явлению [Runia, 2007, 313]), но все эти синтезирующие префиксы восходят к истолкованию памяти как органического «метаболизма» времени. Даже современные технические фиксаторы памяти предстают, в той или иной степени, как структуры единства культурно-исторической памяти: «Если печатная пресса представляет собой источник умножения способов конструирования, то радио следует за событием и определяет характер его освещения, в то время как телевидение дает изображения, которые останутся в памяти и обеспечат придание единообразия общественному воображению» [Veron, 1981, 267]. И разрывы мнемо-исторической сенсорики, клиповость, фрагментарность воспринимаются как негативные факторы, как формы, снижающие гносеологическую эффективность и онтологическую значимость памяти.
За поисками в памяти ресурсов единения истории необходимо увидеть то, что и позволяет памяти выступать в качестве основного ресурса по упрочению «цепи времен», а именно — духовно-сакральные основания памяти. Симулякры им-меморации, презентованные в современном типе позитивистского познания, не представляют прочную аргументацию следствий, по которым память способна выполнить свое хроно-метаболическое призвание. Новейшие концепции, представляющие память в виде материалистических «мест», мнемотопов, стремящихся обнаружить память то на «поверхности бездн» (Ж. Бодрийяр), то в самих безднах археологики знания, где происходят скорее не раскопки, а похороны памяти, — не дают приемлемого ответа на вопрошание о возможности единой памяти, о «стреле памяти», которая пронизывает и связывает единую историю.
Выверенным пониманием роли памяти как фактора, обеспечивающего органику исторического процесса, на наш взгляд, является религиозно-сакральное истолкование памяти. Ведь память Церкви — это и есть то «место», которое свидетельствует о существовании неразрывной связи поколений, обретающих смысл экзистенции в пребывании в сакральной памяти, в непрекращающейся активации — во все тех же, в своих глубинных основаниях не меняющихся форматах, в вековом мерцании храмовых свечей — сакральной памяти, христианской памяти. Память Церкви есть пример памяти единого «тела» — даже М. Хальбвакс не мог не отметить: «мистическая мысль является коллективной» [Хальбвакс, 2007, 254], — памяти «органов» этого коллективного «тела» друг о друге как осуществления того самого духовно-гносеологического метаболизма, который и может стать, при внимательном изучении, порталом к пониманию объединяющего функционала памяти.
Память верующих, позволяющая историческим эпохам обретать неразрывную нить в единстве храмового действа, способна обнаружить интеграционные элементы мнемоники, ведь вера теснейшим образом связана с проблемой памяти. Например, Р. Коллингвуд проводил сопоставительный анализ между верой и историческим знанием: «Мы верим на основании простых исторических свидетельств, что в Древней Греции были великие живописцы, но эта вера — не историческое знание, потому что их творения исчезли и у нас нет никакой возможности воскресить их художественный опыт» [Коллингвуд, 1980, 193], но этот анализ не включает важного аспекта: разрыв между верой и историческим знанием снимается в сакральной памяти. Религиозность, сакральность «генетически» предназначены для сшивания всевозможных разрезов, прорех, «ран» — в том числе и исторических. Конечно, вера и историческое знание различны по своим задачам, но едины в принципиальном — в обращении к прошлому, к которому они прикасаются через сакральную память. При этом вера предлагает истории не ограничиться только прошлым, но и делится с историей в формате сакральной памяти своим опытом обращенности к будущему. Соединение исторического и религиозно-сакрального ресурса становится условием онтологического и культурного единства, целостного восприятия времени.
Только при сохранении такой темпоральной целостности представляется возможным единство мировоззрения, способного к сопряжению разных хроно-типов понимания, о которых говорил И. Г. Дройзен. Мировоззрение, принявшее сакральное истолкование истории, получает возможность понять, что такое историческое «мы», причем это едино-историческое «мы» способно преодолеть как темпоральные преграды, так и реально-материалистические. Я. Ассман подчеркивал важность как можно более раннего подключения к сакрально-историческому «мы»: «В ходе пасхального Седера ребенок учится говорить „мы“, включаясь в историю и память, которые создают и наполняют содержанием это „мы“» [Ассман, 2004, 13], и вместе с тем культурнохронологическая общность «мы» с момента активации духовно-исторического ресурса приобретает качественно иной — метафизический! — масштаб. Соединение памяти и истории посредством сакральности расширяет функциональный спектр постижения как памяти, так и истории, ведь в этом случае и память, и история получают язык общения, коммуникативную нарративность.
Опыт соединения земного и небесного, живого и мертвого, заложенный в основании сакральности, научает память и историю новым формам взаимодействия, ведь «memoria живых об умерших не исчерпывается каким-либо одним ее видом, а, подобно многообразию самой жизни, являет себя в разных формах» [Арнаутова, 2003, 28]. Сакральность обеспечивает памяти осуществление «группообразующей функции» (Ю. Е. Арнаутова), ведь функционал группового взаимодействия живых и мертвых — есть один из ведущих принципов сакральности: « memoria являла собой своего рода модус реального присутствия физически отсутствующих лиц — как тех, кого от круга участвующих в memoria людей отделила сама смерть, так и тех, кого отделяло только дальнее расстояние» [Эксле, 2007, 253]. Опыт сакральности по преодолению границ, разрывов времени и пространства уникален, и аналоги этого интеграционногруппового функционала по эффективности вряд ли можно обнаружить в иных концептуальных построениях.
Специфика органического единства памяти и истории в сакральном «регистре» обусловлена еще и формированием своеобразных взаимоотношений между мнемоникой и хронологией, которые И. Г. Дройзен характеризовал как «содружество»: «складывается содружество тех, которые хотят обобщить идеей святого все то, во что они верят, чем живут, образуется товарищество, которое направлено главным образом на то, чтобы знать и сохранять как цель, как энергию и истину их союза самое лучшее всех идеальных сил, а именно идею святого, каковая целиком и полностью не выражается ни в одном индивиде» [Дройзен, 2004, 348]. Память позволяет привнести в изучение истории эмоциональный «ингредиент» — содружество как форму сопряжения исторических эпох при их изучении. Эмоция дружественности, возникающая между историками святости, превращается в связующую нить, способную объединить хронологические этапы. «Коллективный мистицизм» в своей глубине выражен как эстафета памяти, не вступающая в конфликт с историчностью, как некая пра-память, способная гармонизироваться с историческими трансформациями.
Эпохи в освещении сакральной памяти обретают качества соработников, соратников в исполнении промыслительного исторического процесса. Сакральная память может выступать как своеобразный духовный пароль, позволяющий увидеть «свое» в каждой исторической эпохе. Неслучайно еще Н. Ченцов обнаруживал в запоминании апостольских символов особую мнемотехнику, предоставляющую возможность открывать родственность, союзничество разных исторических периодов: «Если бы случайно встретился в войске какой-нибудь сомнительный человек, то, спросив у него символ, сейчас можно было бы узнать, неприятель ли это, или свой. Потому-то, конечно, апостолы и завещали не писать символа ни на бумаге, ни на пергамене, но хранить его в памяти верующих, чтобы никому нельзя было узнать его из письменного изложения, которое, пожалуй, могло бы иногда попасть и в руки неверных, а всякий знал бы его из предания апостольского» [Ченцов, 1869, 13]. Опыт сакральной памяти предстает маркером, выделяющим духовную близость исторических локаций, опытом, преодолевающим разорванную мозаичность истории.
Мнемоническая система «свой-чужой» работает и в формировании историконациональной целостности, но только в том случае, если основаниями национальной идентичности выступают религиозные смыслы. Ж. Ле Гофф подчеркивал религиозносакральный фундамент памяти, определяющей, например, чувство национального единства иудеев: «Целое семейство слов, в основе которых лежит корень „Zkar“ (Захария, Zkar-y — „Яхве помнит“), превращает иудея в человека традиции, которого связывают с его Богом память и взаимные обязательства (Childs)», и поэтому «еврейский народ — это по преимуществу народ памяти» [Ле Гофф, 2014, 100]. Мнемо-национальная специфика выступает как антитеза по отношению к концепции, представляющей нации как нереалистичные образования, как «воображаемые сообщества» (Б. Андерсон), а сакральная память как раз и есть ресурсное воплощение принципа «а realibus ad realiora», преодолевающего постмодернистскую «воображаемость».
Именно сакральная память, память о всепроникающем сакральном, преодолевает противопоставленность исторического и мнемонического и формирует качественно иную реалистичность исторического процесса, придавая ему сверх-историческую параметрику. Сшивание хроно-«лоскутов» скрепами сакральной памяти являет многомерное полотно истории в ее интеграции, в целостном понимании и в обретении смысла самой истории. Блуждание в разорванных свитках истории экзистенциальнонездорово, эпистемологически-болезненно, о чем, например, свидетельствует трагичный возглас О. Шпенглера о «рационалистичности, плоскостности, казуальности» историографии [Шпенглер, 1993, 63]. И крик этот, смятенный историографический стон, вызван именно ощущением опустошенности истории, чей смысл «вывалился» в прорехи разорванного исторического процесса.
В целом, выделяя научную новизну данного исследования, необходимо подчеркнуть определение мнемо-сакрального «мы», возникающего из рассмотрения религиозно-исторической памяти. Концепция сакрально-исторического «мы», духовного единства, закономерности построения такого исторического «мы», реализуемого и в конкретике исторического периода, и во взаимосвязанности всего исторического процесса, составляет ключевую сущность выявленного в ходе исследования знания. В результате обретения посредством сакральной памяти исторического «мы» (включающего в себя прежде всего литургические тональности!) и определяется обоснование новых знаний, полученных в ходе исследования. Сакральная память восстанавливает органическое единство истории, выстраивает текстуру и каркас исторического процесса, задает ориентиры его развития — и, как следствие, позволяет истории обрести подлинную реальность.
Сакральная память и реализм истории
Каким же образом сакральная память способна обеспечить реалистичность и непрерывность исторического процесса?
Память по своей сути является единственным экзистенциальным «инструментом», позволяющим сохранить уровень трезвения в восприятии мира. П. Рикёр настаивал: «у нас нет ничего надежнее памяти, чтобы подтвердить, что вещь существовала до того, как мы составили о ней воспоминание» [Рикёр, 2004, 25]. С нашей точки зрения, признание памяти как ресурса укрепления трескающейся реалистичности относится не только к вещественной эмпирии или к культурно-личностным типам реальности. Сами по себе и эмпирический, и социокультурный, и экзистенциальный типы реальности не способны обеспечить целостный смысл истории и выдержать натиск «археологического» подкопа, расщепляющего историю под маской «освобождения от диктата антропологических зависимостей» [Фуко, 2004, 52].
Зависимость истории, несомненно, существует, но это зависимость от смысла, от соответствия смыслу, как музыкальная фраза «зависит» от предзаданного метрического такта, пред-мотива. Блаженный Августин в «Исповеди» (кн. Х) чутко улавливал фонографический аспект воспоминания: «И сделать это я могу лишь потому, что оба слога уже отзвучали. Я, следовательно, измеряю не их, а что-то, что прочно закрепилось в памяти моей» [Блж. Августин, 1998, 679]. Тем самым, память обеспечивает реалистичность окружающего бытия, что в полной мере относится и к реалистичности истории. Но именно сакральная память, обладающая сверх-историческим инструментарием, способна обеспечить симфоническую общность истории, ведь религиозносакральная память обращена к духовному пониманию реальности, что обеспечивает целостность этой реальности.
Звучание связующей сакральной памяти определяет тональность восприятия истории, обретающей в своей связности подлинную реалистичность. У свящ. Павла Флоренского в «Иконостасе» представлена такая модель восприятия исторической реальности, которая определена, с одной стороны, связанностью прошлого и настоящего, а с другой, реалистичностью этой связи: сакральная память «есть радостная весть из родимых глубин бытия, забытая, но втайне лелеемая память о духовной родине» [Флоренский, 1993, 69]. Родственное ощущение истории, духовно-органическая взаимо-открытость исторических этапов друг другу, представленная в сакральном воспоминании, принципиальная мнемо-услышанность исторических эпох — все это, с нашей точки зрения, определяет специфику реализма сакральной памяти.
Э. Жильсон, говоря о принципиальных отличиях сакральной памяти, приводит пример исторической памяти Средневековья, когда «каждое сознание жило памятованием об историческом факте, о событии, по отношению к которому определялась вся предыдущая история и которым датировалось начало новой эры; об уникальном событии, о котором даже можно сказать, что оно было знаковой датой для Самого Бога: событии воплощения Слова и рождения Иисуса Христа» [Жильсон, 2011, 496]. И такое реалистичное памятование обращено к ключевым (к реальнейшим! — что может быть реальней, чем память Бога: «Во Христе Бог прощает наши грехи, изглаживая их. Даже когда говорится, что Бог более не „помнит“ наших грехов (Евр 8:12), смысл не психологический, а онтологический, поскольку все, чего Бог не „помнит“, перестает существовать» [Иоанн Зизиулас, 2012, 109]) фактам сакральной истории, воспроизводимым в сакральной памяти, причем духовная история являет в этом случае себя и в хронологических координатах, и в пространственной распахнутости духовно-родного топоса, т. е. обретает пространственные и временные характеристики, определяющие реализм сакральной историчности.
Реализм сакральной, или теологической, памяти нагляднее может быть проиллюстрирован обращением к пространственному «регистру» сакральной памяти. Теория «места памяти», сформулированная П. Нора, в случае сакральной памяти обретает весьма своеобразную сценографию, ведь история методик пространственной фиксации памяти начинает свое действо именно в формате сакрально-теологической памяти. Потребность в развернутых мнемо-ресурсах возникает при реализации масштабных теологических проектов, о которых, например, говорит Ф. Йейтс: существует «три различных типа систем мест, и все они относятся к искусной памяти. Первый тип в качестве системы мест использует космос^ Здесь мы видим сферы элементов, планет, неподвижных звезд и над ними — сферы девяти ангельских порядков. Что надлежит запоминать в соответствии с этим космическим порядком? В самой нижней части диаграммы расположены буквы „L. PA; L. P; PVR; IN“. Они обозначают места Рая, Земного Рая, Чистилища и Ада… запоминание таких мест входит в ведение искусной памяти. Называют эти сферы „воображаемыми местами“ (ficta loca). Для невидимых вещей Рая мы должны сформировать памятные места, в которые поместим хоры ангелов, престолы блаженных, патриархов, пророков, апостолов, мучеников. То же самое нужно сделать для Чистилища и Ада, представляющих собой „общие“ или объемлющие места, которые следует разделить на множество единичных мест, а эти последние запомнить в соответствующем порядке вместе с надписями на них» [Йейтс, 1996, 150]. Многообразие сакрально-теологической памяти требует множества мест памяти — космических, «воображаемых», объемлющих, — и наличие этих мест определяет реалистичность сакральной памяти. Память начинает выступать как способ подключения к местам сакральной реальности, как своеобразный трансфер, обеспечивающий перемещение от одного уровня сакральной топологии к другой. Память создает реализм «декораций», в которых являет себя сакральное, само пространство сакрального, в котором это сакральное обретает возможность реального проявления.
Пространственно-зрительный потенциал сакральной памяти верующего человека «позволяет ему собирать последовательность мгновений, которые в противном случае исчезли бы в небытии, и выстраивать длительность, подобно тому как зрение собирает в единое пространство протяженность материи» [Жильсон, 2011, 496]. Тем самым, по нашему мнению, сакральная память снимает проблему «мгновенности» истории, исчезновения протяженности исторического времени, о чем размышлял еще блж. Августин («Где же то время, которое мы называем долгим?» [Блж. Августин, 1991, 202]), придавая ей топосную наглядность, зримость, а следовательно, реалистичность. Показательно, что этимология русского слова «мгновение» уже содержит такую пространственную визуальность («мгновение» от русского «мигнуть», из древнерусского «мьгнути», русск.-церк.-слав. мьгнѫти), и мгновенность памяти тесно связана с этой зримостью, «мигающей» сценографичностью исторического времени. Длительность памяти соотносится с долготой исторического момента, что позволяет увидеть — сце-нографично, мгновенно-зримо — реальную пространственность сакральной истории.
Пространственность, презентованная сакральной памятью, дает возможность обнаружить топосы сакрально-теологической памяти, ту особую характеристику протяженности мест памяти, о которой говорил блж. Августин: «Св. Августин считает мир своего рода протяженностью, distensio, которая в своем развертывании подражает вечному настоящему Бога, всецело собранному в одну точку» [Жильсон, 2011, 495]. Сакральная память о сакральной истории формирует особый реализм длящейся в истории «вещи», если под вещью понимать то, что вкладывалось схоластическим реализмом, вещь как отголосок вечных сущностей, universalia ante rem (идею до вещи).
Сакральная память предлагает свою «техно-логию» (с корреляцией Tsxvn, согласно М. Хайдеггеру) моделирования длящейся реальной вещи, чьи проявляющиеся контуры визуализировал П. Рикёр: «Конституирование первого уровня есть конституирование длящейся вещи, такое же минимальное, как и объективность, осуществляющееся сначала по модели звука, который продолжает звучать, затем — по модели мелодии, которую впоследствии вспоминают» [Рикёр, 2004, 56]. Сакральная память активирует особый тип исторической реальности, восприятие которой возможно при запуске симфонического, т. е. при переходе «звука» исторического факта в «мелодию» сакрального смысла истории, формата восприятия этой реальности. Мнемоническое искусство-τέχνη созидает пространство мест сакральной памяти, сакральное восприятие реальности открывает мир как «длящуюся вещь» (Э. Гуссерль), вмещающуюся в эти места, а теологически подсвеченная память позволяет аргументировать результативность такого видения. Тем самым, сакральная память изменяет представление о материальной разорванности, дискретной вещности исторического мира, актуализируя его протяженно-единую вещность.
Диаметрально противоположным является процесс секуляризованной памяти, памяти вырезанной и разрезанной. П. Нора фиксирует сущность процесса перехода от сакральной памяти к памяти секулярной: «Сползание от мемориального к историческому, от мира, где были предки, в мир случайных отношений с тем, что нас сделало, переход от тотемической истории к истории критической — это и есть момент мест памяти» [Нора, 1999, 28]. Само появление разрывов памяти свидетельствует о разрушении целостности исторического мира, провалы забвения за пределами разрезанной памяти предстают «шрамами» рассеченного единства бытия Божия. «Археологические», в стиле М. Фуко, раскопки мнемоники, с нашей точки зрения, способны обернуться подкопами под фундаментальные основания памяти и обрушить саму структуру сакрального воспоминания в провалы секуляризованных пустот.
Структурированность сакральной памяти является системообразующим принципом (см., например, мысли Ф. Йейтс о «системе мнемонических мест» [Йейтс, 1996, 14]), в котором соблюдена четкая сакральная иерархичность. Восхождение по уровням сакральной памяти уподоблено духовному росту личности, раскрывающей для себя иерархично-вертикальное устройство бытия. Память в таком виде становится возрастающей памятью, перемещающейся по иерархическим «местам-сферам», связанным друг с другом «образом и подобием». П. Рикёр, рассматривая стадиальность памяти, настаивает на возможности «перехода от телесной памяти к памяти о местах» [Рикёр, 2004, 67], но сакральная память предлагает продлить этот переход — к памяти не только о местах, но и о сверх-топосных «сферах». Память «о некотором первообразе», который «пробуждает в сознании духовное видение» [Флоренский, 1993, 52] запускает процессуальность мнемо-иерархичности и преображает понятие «мест памяти»: теперь это уже не столько «места», привязанные к плоскостному уровню, сколько мнемо-многомерности, формирующие иеро-топографию памяти.
Сакральное памятование дает возможность аргументировать позицию, противоположную скепсису в отношении принципиальной возможности местообнаружения универсальной истории. Так, М. Хальбвакс настаивал на невозможности универсальной памяти: «История может представлять себя как универсальную память рода человеческого. Но универсальной памяти не существует. Любая коллективная память опирается на какую-то группу, ограниченную в пространстве и времени» [Хальбвакс, 2007, 19]. Однако — и это наше твердое убеждение! — существование Церкви как исторического и сакрального мнемотопоса демонстрирует и иной вариант рассуждения: Церковь как тело Христово существует в универсальной, вселенской сакральной памяти о «духовной родине» и в памяти о реальном воплощении Божественного в конкретику хронотопа. Память Церкви не ограничена в пространстве и времени, она являет пример перерастания этих границ уже на протяжении двух тысяч лет. Теологическая память, например, о пространственности Града Божьего придает реалистичность пространственности памяти исторической, соотносимой с ключевыми вехами христианской истории. Именно христианская Церковь сформировала представление о «местопамяти» — в частности, у Я. Ассмана есть определение Святой Земли как «мнемотопа» [Ассман, 2004, 64], которое формирует особый пространственный реализм существования сакральной памяти так же, как и способы перемещения памяти «между» сфер мироздания.
Понятие сакрального мнемотопа, его духовная реалистичность способны снять недоумение М. Хальбвакса, настаивавшего на несогласованности «миров сна и яви»: «Отсюда вытекает столь сильная несогласованность между миром сна и яви, что даже и не понять, как мы вообще можем в одном из них сохранять хоть малейшее воспоминание о том, что делали и думали в другом» [Хальбвакс, 2007, 47]. Сакральная память предлагает свой вариант сопряжения «небесного» и «земного» в реальности пространства мнемотопа, конфигурации которого определены мобильностью сакральной памяти, ее метаболической способностью перетекать из одного пространства в типологически иное. Реализм сакральной памяти, вспоминающей о Божественно значимых событиях, воплощается в подвижных контурах истории, открытых, родственных друг для друга. В этом случае история обретает свою универсальность, единство, внутреннюю открытость, но связующим компонентом выступает именно сакральная память, обладающая нужным языком, логосом, позволяющим высказать непрерывающуюся в «местах памяти» идею Бога.
Сакральная память в своей исторической реалистичности презентует герменевтико-языковую возможность проявления Божественного во вспоминаемой истории. Однако сама эта возможность обретается только при условии сопряженности между Божественным реализмом и логосно-эпистемологическим поимено-ванием, называнием-описанием этого реализма; сопряжением, которое для своей презентации требует специального эпистемологического «инструментария», обозначаемого как теология памяти.
Таким образом, в качестве промежуточного вывода можно считать, что в сакральной памяти моделируется родственное ощущение истории, духовно-органическая взаимосвязь исторических этапов, уникальная мнемо-акустика исторических эпох. Кроме того, в тео-памяти преображаются пространственные, иеро-топографические, и временные, мнемо-многомерные характеристики, определяющие реализм сакральной историчности, она снимает ситуацию исчезновения исторического времени и запускает особый тип исторической реальности, в основе которой лежит симфония «звука» исторического факта и «мелодии» сакрального смысла истории.
Теология памяти
Теология памяти и теологичность памяти — два взаимообусловленных фактора сакральной иммеморации.
Теология памяти предлагает догматическую оформленность представлений о сакральной памяти, теологичность памяти — ее внутреннюю обусловленность сакральным, привязанность к Божественному. Сфера различия внешних и внутренних свойств памяти встречается у П. Нора, для которого есть одна форма памяти — «память добровольная и обдуманная, переживаемая как долг и лишенная спонтанности, психологическая, индивидуальная и субъективная», и другая — «социальная, коллективная и всеобъемлющая» [Нора, 1999, 28]. Но теологическое понимание памяти уходит от противопоставлений памяти секуляризированной, диастазисная частица «не», онтологическое отрицание исключается из описаний сакральной памяти, стремящейся к органике «личного долженствования» и «коллективного обязательствования». Религиозный долг, определяющий индивидуальную память, раскрывает ее пределы в теологическом долженствовании, распространяющемся вовне, в «коллективную» историю, а всеобъемлющая историчность врастает личностной ответственностью в «субъективность» добровольной памяти.
Теология и теологичность памяти, «извне» и «изнутри», научают память той самой подлинно доброй воле, направленной к обнаружению соприсутствия Божественного в историческом воспоминании. В целом теологический историзм (см.: [Колесников, 2024; Колесников, 2023; Колесников, 2020а; Колесников, 2020б]) дидактически выверяет память в правильном направлении, обучает человеческое восприятие истории духовно-спасительному видению. Добрая память, основанная на христианском добротолюбии, —прежде всего открытая память, помнящая о просветленном, распахнутом мире, чья открытость воплощена в памяти о рае. Райские места памяти — «Сподобившиеся святости^ утверждают с уверенностью, что Божественное величие восседает на величайшем троне, перед которым стоят Херувимы, Серафимы и все остальные ангелы… С первостепенной необходимостью помнить о рае и аде как основном пункте применения памяти, несомненно, связан перечень добродетелей и пороков» [Йейтс, 1996, 79], — напрямую соотносятся с качествами и свойствами теологической памяти, предстающей как открытый выход к духовнонравственным добродетелям.
Сакральная память, структурированная теологическим каркасом, обретает соте-риологическое звучание, причем возникает определенная иерархичность, выраженная, в частности, Я. Ассманом в определении «холодная и горячая память» [Ассман, 2004, 70]. Правильная память, с христианско-теологической точки зрения, — память, выполняющая сотериологические задачи. Что и как вспоминать для приближения спасения выступает совместной духовно-педагогической задачей тео-историзма и сакральной памяти. Активация памяти, основанной на фундаменте религиозного опыта и вписанной в теологический ландшафт, а для современности — реанимация тео-форматов памяти в целом, становится важным вектором духовно-мнемического совершенствования. Возвращение на самых ранних этапах мнемо-воспитания «правил»
сакрального вспоминания, таких как поминание мертвых, память смертная, вспоминание святых в литургии, помин души и другие, определяет специфику тео-исторического мировосприятия. Ведь развернутое святоотеческое учение о памяти напрямую связано с пониманием истории как средства духовного совершенствования человека. И память включается в этот исторически-преображающий инструментарий: эффективность стяжания добродетелей, явленная в виде личностно-исторических задач, осуществляется в таких мнемо-форматах, как «а) преодоление злопамятства через прощение зла врагам и обидчикам, б) непрестанная память о Боге, в) память грехов, г) память смертная» [Шеховцова, Зенько, 2005, 18] . Правильная память о «последней» истории становится залогом спасения: «поминай последняя твоя, и во веки не согрешиши» (Сир 7:39); память выступает как основание страха Божия: «разнообразие наказаний, налагаемых в соответствии с различной природой грехов, множеств мест, в которых располагаются проклятые, их разнообразная мимика окажет памяти значительную услугу и предоставит множество мест» [Йейтс, 1996, 158]; память определяет онтологию узнавания благодати при встрече с ней: «когда надлежит острым и напряженным взором ума смотреть внутрь, чтобы узнавать входящих» (Исихий Синайский, «О трезвении и святости»)…
Показательно, что мировоззренческой особенностью сакральной памяти является открытость благодати, ведь «памятование не придет, доколе не придет всеутверждаю-щее действие Божественной благодати. В силу этого памятование сводится к исканию слияния нашей воли с волею и жизнью самого Бога. Это определение мы берем за основу: память как установка подвижническая или трезвения, и действие в памятовании благодати Божьей» [Софроний Сахаров]. Открытость сакральной памяти, выраженная в теологических формах, способна выступать антикризисным ресурсом в тех случаях, когда кризисные вызовы напрямую связаны с культурноисторическими реалиями. Опыт религиозной открытости — опыт восприятия Откровения! — усвоенный памятью, дает возможность личности духовно адекватно, трезвомысленно («Добротолюбие» (см. т. II) считает памятование одним из четырех способов христианского трезвения), реагировать на прессинг исторических изменений. П. Рикёр концептуализировал понятие «кризис памяти»: «Обретает резонность предположение о том, что способность вспоминать постигается в исторически определенных культурных формах. И наоборот, именно в той мере, в какой эти культурные формы всегда имеют четкие границы, они доступны концептуальной идентификации. „Кризис памяти“ представляет собой одну из этих форм, которые осмысляются литературной историей вкупе с феноменологией, понимаемой как герменевтика» [Рикёр, 2004, 546]. Но указанный кризис может быть преодолен активацией ресурса целостности сакральной памяти, способной преодолевать историческую разобщенность культурных форм. Способность вспоминать в формате тео-коммеморации преодолевает кризис памяти, возникший из-за секуляризации исторического процесса на разрезанные сегменты.
Антикризисно-терапевтическую роль сакральной памяти на примере Средневековья обозначал Ж. Ле Гофф: «Христианизация памяти и мнемотехники; разделение коллективной памяти на движущуюся по замкнутому кругу литургическую память и память светскую, в незначительной степени подчиненную хронологии; развитие памяти об умерших, прежде всего об умерших святых; роль памяти в обучении, одновременно объединяющем устную и письменную память; наконец, появление трактатов о памяти (artes тетопае) — таковы наиболее характерные черты метаморфоз, затронувших память в Средние века» [Ле Гофф, 2013, 99]. Но подобный связующий регистр теологической памяти — памяти и мнемотехники, личности и хронологии, живого и умершего, устного и письменного — продолжает проявляться и в иные эпохи, преодолевая разорванность исторического времени в целом. Тысячелетнее существование библейской традиции, «исторически и теологически укорененной в истории», обосновывают сверхисторичность и витальность «религий воспоминания» (О. Эксле). Даже М. Хальбвакс признает способность теологической памяти преодолевать разделенность истории: «В работе религиозной памяти догматика играет ту же роль, что в памяти вообще — те коллективные воспоминания, которые постоянно присутствуют в наличии или в непосредственной доступности для сознания и свидетельствуют о соглашении, установленном однажды или несколько раз между членами группы относительно даты, природы, а также и реальности тех или иных фактов прошлого» [Хальбвакс, 2007, 247]. Религиозная догматика, теология выступают как антикризисная мемория, придающая согласованность и гармоничность — а главное, смысл! — мировоззрениям, разделенным веками.
Именно теологически структурированная память оптимально «работает» в тех режимах, которые П. Рикёр обозначал как «внутримировость внутримировых ситуаций», которые на протяжении сакральной истории «наблюдали, испытывали, изучали. Эти ситуации включают в себя мое собственное тело и тела других, жизненное пространство, наконец, горизонт мира и миров, в рамках которых что-то происходило» [Рикёр, 2004, 63]. Теологическая память предстает как «методика» вхождения в метафизику сверх-историчной «внутримировости», как опыт открытия Царства Божия внутри каждого — невзирая на историко-культурные маркеры — через память. Вспомнить всё — не только беллетристический слоган, — это сверхзадача теологической памяти, о грандиозности которой знал еще блж. Августин, восклицавший: «Велика сила памяти, Господи, беспредельна величина этой сокровищницы!» [Блж. Августин, 1991, 161]. Сила памяти реализуется как результативная связь исторических этапов, а для сакральной памяти этот ресурс приобретает еще большее величие: блж. Августин неслучайно включает в пафос понимания силы памяти именование Бога, т. к. теологическая память выступает в виде одного из самых эффективных ресурсов, позволяющих заговорить о Боге, обратиться к Богу, активировать режим Бого-славия. Пространство памяти, место теологической памяти обладает такой «акустикой» — внутримировой акустикой! — которая максимально адаптирована к общению с сакральным. И память приобретает величественность именно в свете обращенности к Божественному, в стремлении и возможности обнаружить соприсутствие Божественного в истории.
Теологическая память выступает своеобразным рубежом-порталом, взаимно значимым мнемо-переходом между человеческим и Божественным. В секулярной мнемонике М. Хальбвакса это свойство религиозной памяти воспроизводить сакральный опыт прошлого описывается как свойство памяти находиться «по ту сторону» (со всеми аллюзиями ницшеанской «по-ту-сторонности») общественного: «не следует воображать, что это действительно воскресение прошлого, что общество якобы извлекает из своей памяти полуизгладившиеся формы древних религий, делая их составными частями нового культа. Просто кое-что из них сохраняется за пределами общества или же в тех его частях, которые менее всего подвержены воздействию утвердившейся религиозной системы, вне „памяти“ общества как такового, хранящего лишь то, что включено в его нынешние институты, — то есть в других группах, в большей мере сохранивших свой прежний характер, то есть частично еще пребывающих среди обломков прошлого» [Хальбвакс, 2007, 224]. В этой фразе сконцентрированы ключевые параметры концепции «разорванной» памяти и истории: здесь и отказ от сакрального воскрешения, и принципиальная не-соотнесенность исторических этапов, и де-сакрализация духовности, настаивающая на позитивистской культо-вости, и разломанное прошлое… Но даже под напластованиями секуляризованных интерпретаций сакральной памяти проявляется ее важнейшее качество — способность хранить и передавать открытые Божественным присутствием истины различным этапам человеческой истории. Некая «замороженность», консервация религиозных смыслов, постулируемая Хальбваксом, на самом деле являет себя совсем в иных презентациях, если описывать сакральную память как ритмично воскрешаемый портал, функционалом которого и является сохранение/перенос сакрального опыта из одной исторической ситуации в другую. Это не замороженная память, не обломки случайно уцелевшей, забытой «общественностью» памяти — это пра-память, неизбывное воспоминание о сакрально-трансцендентном, о подлинно-человеческом, до-адамиче-ском и одновременно о грядущем, апокалипсическом призвании человека.
Теологическая память, выстраиваемая вокруг живого, «незаконсервированно-го» имени Божия, формирует свою теологическую концепцию, основанную на способности такой памяти к преодолению разорванности бытия. П. Рикёр писал о связующем тео-функционале сакральной памяти: «Память наделяется Божественной способностью, той способностью, которую сообщает абсолютное господство искусства, занятого согласованием астрального и земного порядков» [Рикёр, 2004, 98]. Теология памяти как раз и есть иерархическая упорядоченность взаимоотношений человеческой памяти и области сакрального. Вместе с тем сложность теологии памяти заключается в том, что иерархическая упорядоченность мнемо-отношений человеческого и сакрального сосредоточена как в проявленности этой упорядоченности, так и в ее потаенности. Показательно высказывание П. Хаттона о мисте-риальности памяти: «Мнемонические схемы были предназначены не только для того, чтобы сохранить космологические теории, но и чтобы их скрыть» [Хаттон, 2003, 9]. И это уже не «полу-память», «недо-память» Хальбвакса, это ресурс потаен-ности памяти, который определяет ее величественность и сокрыто-потенциальную мощность. Память в теологическом регистре способна утаивать от исторической конкретики определенные смыслы — керигма памяти составляет ее подлинную мудрость — но потаенность генетически подразумевает перспективу-горизонт воспоминания и даже расширение этих горизонтов.
Теологическая призванность вовлекает мнемонику в область богословских дискуссий. Иллюстрацией может служить, например, фрагмент из книги Ф. Йейтс «Искусство памяти», где показан один из фрагментов такой борьбы вокруг памяти между рамизмом, методикой запоминания как системно-упорядочиваемым действием, но вместе с тем как «особый способ внутреннего иконоборства, имеющего много общего с иконоборством внешним», и контр-рамизмом, обращенным к церковной традиции запоминания (подр. см.: [Йейтс, 1996, 334–360]). Религиозно-пафосный вывод фрагмента — «В Англии разыгралось сражение за память. Война велась внутри душ, и ставка была огромна» [Йейтс, 1996, 348] — вполне оправдан: память органично включает в себя теологические аспекты, а потому обоснованно вводится в контекст богословских размышлений.
Именно память можно рассматривать как основание религиозного миропредставления, как точку зарождения теологического восприятия мира, а также именно в области памяти начинает осуществляться противостояние богословского и секуляризированного мировоззрений. П. Нора называл это противостояние дистанцией, разделяющнй религиозно-теологический и секуляризированный типы памяти: «Дистанция между памятью целостной, диктаторской и не осознающей самое себя, спонтанной, все организующей и всемогущей, памятью без прошлого, которая вечно возвращает наследие, превращая прошлое предков в неразличимое время героев, в начало мира и мифа, — и нашей, которая есть только история, след и выбор» [Нора, 1998, 18]. Секуляризация культуры отзывалась и секуляризацией памяти. Можно определить четкий вектор «де-теологизации памяти» (П. Рикёр): активная фаза этого процесса начинается, как утверждает Ф. Йейтс, с Петра Равеннского, который в своем мнемо-трактате «Phoenix, sive artificiosa memoria» (1491) «секуляризовал и популяризировал память, сделав упор исключительно на мнемотехнике» [Йейтс, 1996, 147]. Отказ памяти в ее теологическом потенциале может также рассматриваться как одна из причин девальвации памяти, оскудения величия памяти, утраты памятью звена, связующего ее с сакрально-церковной традицией, которая на протяжении столетий вносила свой вклад в расширение возможностей памяти.
Ведь, например, даже у М. Хальбвакса можно встретить аналитику процесса влияния Церкви на развитие «количества воспоминания»: «Как только Церковь убеждается, что это свидетельство не сталкивается с прочими, а подкрепляет их, что этот новый взгляд на церковное учение лучше проясняет все его части, — она принимает его; но при этом она старается связать новое воззрение со своей системой, что возможно лишь при условии его постепенной очистки от многих первоначальных черт» [Хальбвакс, 2007, 256]. Очищение памяти, кристаллизация воспоминания, которое Хальбваксом воспринимается, очевидно, негативно, в теологии памяти может быть определено как мнемическая соборность, как церковно-коллективная память, наглядно выраженная, в частности, в «Libri memoriales», книгах памяти, которыми являются «литургические тексты из монастырей и церквей, лежавшие обычно на алтаре во время богослужения. Их содержание представляло собой списки поминаемых на литургии людей (не только умерших, но и ныне здравствующих): членов монашеской общины, членов конвента, имена благодетелей — дарителей и попечителей. К Libri memoriales относили также и necrologii — в календарном порядке (по дням смерти) составленные поминальные книги» [Арнаутова, 2003, 20]. Ресурс памяти, представленный в литургическом освещении, обогащается памятью смертной, открытой связью через религиозное представление о смерти настоящего и прошлого, живого и не-живого. Литургическая память позволяет не просто вспоминать, но и поминать, тем самым преодолевая смерть как забвение.
Литургика памяти, по нашем глубокому убеждению, в теологическом контексте представлена как сложная и многоуровневая система. Запоминание литургического «алгоритма», последовательности службы уже есть особый уровень мнемических усилий, направленных на выработку системы приемов, сохраняющих в религиозносакральной памяти порядок основных литургических этапов. Но и сама память в христианско-теологическом понимании есть сложный процесс соположения памятования о внешнем мире, помнящего субъекта и незабывающего Бога. Так, блж. Августин выводил intelligentia из memoria и соотносил память со Второй Ипостасью Троицы, Богом-Сыном, происходящим от Бога-Отца. Таким образом, с христианско-теологической точки зрения память выступает как «условие взаимосвязи между Богом и человеком» [Иванова, 2016, 342]. В литургии теологические аспекты памяти представлены максимально ярко, «теологи и историки всегда признавали, что одной из целей литургии является напомнить о религиозном прошлом и заставить его присутствовать в настоящем посредством своеобразного драматического представления. Ни одна литургия не составляет исключения из этого правила. Литургический год — это мемориал. Годовой цикл ритуалов превратился в поминовение национальной или религиозной истории» [Delacroix, 1922, 15-16]. Литургия как форма воспоминания, сакрально-теологического поминовения предстает как результат очищения памяти от внешности, вещности, открывает качественно иные формы мнемического соприсутствия Божественного и человеческого…
В качестве вывода по данному разделу необходимо обозначить духовногносеологическую специфику сакральной памяти, выражающуюся в том, что сакральная память обладает сотериологическим звучанием, именно в этой тональности спасения формируется модель «правильной памяти», способной выполнять антикризисно-терапевтические задачи. Кроме того, теологическая память являет собой «методологию» преображения сверх-историчной «внутримировости», выступает религиозным опытом открытия Царства Божия внутри каждого исторического периода и исторического субъекта, формирует духовную задачу «вспомнить все», исполнимую только в случае принятия ресурса литургической памяти.
* * *
В заключение необходимо отметить, что Бог и историческая память человечества соединены бесконечным пространством вопрошания: с одной стороны — вопрошающего у своей памяти явленности сакральных откровений и призваний человека, а с другой — Божественным истребованием с человеческой памяти соответствия христианским заповедям. Именно через область памяти лежит путь к спасению, а потому религиозная мнемоника обретает сотериологическое звучание, ведь «человек прейдет, вместе с этой ненадежной устойчивостью его памяти, которая тоже исчезнет в небытии, если Бог не поддержит и не укрепит ее» [Жильсон, 2011, 496]. Вопрошание памятью и спрашивание с памяти — вот те направления, которые определяют контуры органического единства сакральной памяти, ее теологической структуры и реально-исторического воплощения. Многоликость памяти обретается в ее духовносакральном освещении, только «в памяти прежде всего ищется Бог» [Рикёр, 2004, 139], и это есть главная задача личной и исторической памяти, ищущей единственно верный ответ в бесконечности вопрошающих воспоминаний.