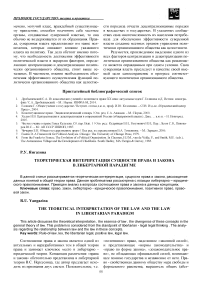Теоретическая интерпретация сущности права и закона в либертарной парадигме
Автор: Янгазина Р.У.
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Теория и история права и государства. История учений о праве и государстве
Статья в выпуске: 4 (38), 2014 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматривается теоретическая интерпретация, сущности права и закона, расхождение данных понятий в общей теории права. Данная проблематика рассмотрена с позиции либертарно - юридического правопонимания. Приведен анализ в вопросах соотношения права и закона в данных концепциях.
Право, закон, либертарно - юридическое правопонимание, позитивное право, правовой закон
Короткий адрес: https://sciup.org/142233699
IDR: 142233699
Текст научной статьи Теоретическая интерпретация сущности права и закона в либертарной парадигме
Соотношение права и закона является одной из актуальных и неразработанных тем в общей теории права и занимает ключевое место в либертарно -юридической теории. Концепция различения «права и закона» обстоятельно представлена в либертарной теории B.C. Нерсесянца, где автор предлагает исходить из признания двух систем. Положительное, т.е.
«позитивное» право, наделенное «законной силои», и представляющее «нормы законодательства» и «право по форме закона», «дозаконодательное право», не обладающее официальной силой, возникающее помимо государства и независимо от него. Право - свойственная данному обществу мера свободы и формального равенства, выразитель общих (абст- рактных) принципов и идей нравственности, фундаментальных прав человека, справедливости, гуманизма и других ценностей. В отличие от права - закон - это «официальная форма общеобязательно нормативного признания или непризнания объективно сложившихся мер этой свободы и равенства». Посредством закона происходит лишь формулирование «в виде норм законодательства уже сложившихся или явно складывающихся форм и норм права (мер свободы). При этом «право ... в его соотношении с законом... выступает как источник, олицетворение и критерий справедливости» [12, с. 70-72].
Законодательство же зачастую носит антипра-вовой, произвольных характер. Поэтому в качестве основания и критерия для суждения о ценности закона, его соответствии своему назначению, его характеристики как «правового или неправового» (ан-типравового) установления выступает право [13, с. 15]. Исходный смысл соотношения права и закона, -отмечает B.C. Нерсесянц - можно сформулировать в самом общем виде так: различаются или не различаются право и закон как разные феномены или понятия? Положительный или отрицательный ответ (при всем имевшем место и возможном многообразии конструкций) и проводит принципиальную грань между концепциями двух противоположных типов правопонимания. Поскольку концепции первого типа развивают ту или иную версию приоритета права перед законом, а концепции второго типа в качестве права признают лишь закон (законодательство), эти противоположные концепции можно соответственно обозначить условно как «юридические» (от jus - право) и «легистские» ( от lex - закон) [14, с. 19].
Как полагает М.И. Байтин, нельзя не заметить, что это суждение страдает явным преувеличением значения концепции права и закона для определения того или другого типа правопонимания, так - и это главное - дезоринтацией юридической практики, оторванностью от реальной жизни, схоластическим методом научного спора [1, с. 96].
В.Д. Зорькин склоняется к определению права и закона либертарно-юридической теории - закон есть наиболее цивилизованная форма права [4, с. 11]. Право возводится в форму закона, поэтому верховенство права и верховенство закона также не тождественные, хотя и взаимосвязанные понятия. При отступлениях от требований равенства и справедливости деформируется предназначение закона как адекватной формы права. При злоупотреблениях власти в закон облекается произвол, и, как показывает исторический опыт, произвол в законодательном регулировании идет рука об руку с произволом в правоприменении. Лишь в обществе, основанном на верховенстве права, достигается соотношение права и закона, адекватное их предназначению, и обеспечивается режим конституционной законности. [14, с. 11].
О.В. Мартышин отмечает, что различение права и позитивного закона - основа классической теории естественного права [8, с. 13]. Право и закон и рассматриваются как «два взаимосвязанных и вместе с тем различных реальным явления» [13, с. 361-362]. По мнению B.C. Нерсесянца это необходимый аспект любого теоретического подхода к правовым явлениям, предполагающий различение сущности (что есть право в его сущности и необходимости) и явления (что в данных условиях дано, положение как право, т.е. считается положительным правом)» [13, с. 362].
Единственный сомнительный аспект либертарно - юридической концепции - это критерии и способы объяснения данной концепции понятия права. Под сущностью права имеется в виду принцип формального равенства, который представляет собой единство трех подразумевающих друг друга сущностных свойств: права - всеобщей равной меры, свободы и справедливости. Это триединство сущностных свойств права, три компонента принципа формального равенства можно охарактеризовать как три модуса единой субстанции, как три взаимосвязанных значения одного смысла: одно без другого невозможно. Присущая праву всеобщая равная мера, как отмечает B.C. Нерсесянц - это именно равная мера свободы и справедливости, а свобода и справедливость невозможны вне и без равенства (общей равной меры) [14, с. 13]. Равенство, свобода и справедливость, как свойства правовой сущности, носят формально-содержательный характер, являются формально-правовыми качествами и категориями, содержатся в понятии права и действительны, выразимы в правовой форме. Компоненты принципа формального равенства, а именно равная мера, свобода и справедливость применяются к праву, а не к сфере морали, нравственности, религии. Это позволяет характеризовать право как всеобщую, необходимую и единственную форму бытия и выражения равенства, свободы и справедливости в социальной жизни людей [13, с. 361]. B.C. Нерсесянц утверждает, что «право» наряду с «законом» представляет собой «реальное явление», воздействующее на закон и выступающее в качестве его сути [13, с. 362].
По нашему мнению, формально - юридическое понятие права, которое является стержнем либертарной теории, относится с данным пониманием права к классическим представителям: И. Канту и Ф. Гегелю. И. Кант отмечал: «Право - это совокупность условий, при котором произвол одного лица совместим с произволом другого с точки зрения всеобщего закона свободы» [5, с. 134]. Именно понятие «свобода» у Канта, если учесть, что под произволом имеется в виду она, т.е. свобода, упоминается трижды. Классическое определение Канта в некотором изме- неином виде: «Право есть ограничение свободы каждого условием согласия ее со свободой всех других, насколько это возможно по некоторому общему закону; а публичное право есть совокупность внешних законов, которые делают возможным полное согласие» [5, с. 78.], т.е. публичное право это синоним положительного права. «Идея права есть свобода», система права - «царство осуществленной свободы» данные высказывания можно рассмотреть и у Гегеля. Исходя из этого можно полагать, что либертарная теория имеет классические корни немецкой философии Канта и Гегеля, которая имеет представления о праве как равной мере свободы для неравных людей.
В силу некоторых объективных причин до создания либертарно-юридической концепции в 1910 году Г.Ф. Шершеневич писал: «Определяя, например, право как обеспечение свободы личности и равенства, можно начинать историю французского права только со времени первой революции, потому что весь старый режим был отрицанием данного определения. С точки зрения того же определения, отвергающего за неразумными и безнравственными законами характер права, следовало бы признать, что рабства, как правового института, никогда не существовало» [15, с. 24].
Рассмотрим принцип формального равенства как один из важных и дискуссионных вопросов в либертарной теории. Для B.C. Нерсесянца «фактическое равенство» - это смешение понятий «фактическое» и «нефактическое» (формальное) и противоречие в самом понятии «равенство». Ведь «равенство» имеет смысл (как понятие, как регулятивный принцип, масштаб измерения, тип и форма отношений и т.д.) лишь в контексте различения «фактического» и «формального» и лишь как нечто «формальное», отделенное (абстрагированное) от «фактического» -подобно тому, как слова отделены от обозначаемых вещей, цифры и счет - от сосчитываемых предметов, весы - от взвешиваемой массы и т.д. Именно благодаря своей формальности (абстрагированности от «фактического») равенство может стать и реально становится средством, способом, принципом регуляции «фактического», своеобразным формальным и формализованным «языком», «счетом», «весами», измерителем всей «внеформальной» (т.е. «фактической») действительности [17, с. 3-15]. В.М. Сырых, полагает, что равенство - это некий факт реальной жизни. «Логика, как отмечает он, - не знает дихотомического деления понятия «равенство» на формально и фактическое, для нее равенство может быть только реальным, фактическим...» [19, с. 51]. Мнение, которое опровергает позицию В.М. Сырых, В.В. Лапаевой следующее: «Уверения B.C. Нерсе-сянца в то, что фактическое равенство является величиной иррациональной с точки зрения логики являются не корректными... Термин «формальный»
свидетельствует о принадлежности признака только по форме явления и процесса, а не к его содержанию. Но разве равенство явлений и процессов по форме, по тем или иным признакам не может быть фактическим? Это формальное равенство, но и одновременно фактическое» [6, с. 67].
Исходя из этого, возникает главный вопрос о понятии и что представляет собой сущность права и принцип формального равенства либертарной теории, а также разделение принципа равенства на формальное и фактическое. Крайне несовершенны с этой точки зрения все определения права, которые предлагаются в рамках «либертарно-юридической теории» [2, с. 143]. «Право — это нормативная форма выражения свободы посредством принципа формального равенства людей в общественных отношениях»; «право - это формальное равенство, право -это всеобщая и необходимая форма свободы в общественных отношениях, право — это всеобщая справедливость» [17, с. 18].
В.В. Ветютнев отмечает, что фактически ни одно из них не дает точных критериев, позволяющих отличить право от неправовых явлений. Не ясен конкретный смысл, придаваемый выражению «формальное равенство», вопреки утверждению B.C. Нерсесянца: «Что такое формальное (правовое) равенство, т.е. то, что отрицается «фактическим равенством», — это понятно, ясно и рационально выразимо» [2, с. 143]. Как справедливо заметил Г.В. Мальцев, если рассматривать право как явление (а вовсе не как отражение и абстракцию) общественной жизни, то законы являются правом лишь в той мере, в какой они верно отражают динамику объективного общественного развития [10, с. 233].
О.Е. Лейст утверждает, что если считать право воплощением свободы, равенства, справедливости, то история права начинается только с XVII-XVIII вв., а все предыдущее право (Законы Хаммурапи, Законы Ману, римское рабовладельческое право, все право Средних веков, в России — Русская правда, все Судебники и Уложения и т.п.) не должны считаться правом. Получается, что «либертарная концепция» как бы упраздняет большую часть истории права». [7, с. 258].
Таким образом, можно подвести выводы, что под определением «право» B.C. Нерсесянца, либо не является никакая система норм, либо является любая - в зависимости от того, как будет трактоваться «формальное равенство». Стоит отметить, что принцип равенства является главным признаком в определении права. О.В. Мартышин пишет, что «сторонники либертарно-юридической теории права и государства выдают формулу «право есть формальная свобода индивида» за всеобщее понятие права. Но примеряя ее к действительности, они вынуждены признать, что в доиндустриальных обществах «право еще не является всеобщей и равной для всех ме-

рой свободы», то же ограничение распространяется на общества системоцентристского типа, особенно в условиях деспотии. Не вытекает ли из этого, что формуле «право есть свобода» следовало бы отказать в притязаниях на универсальное определение права? ... новые сторонники чистоты в понимании права, выдвинувшие «либертарно-юридическую теорию права», давая одностороннее определение права (право есть формальная свобода и равенство), выводя за пределы права так называемые неправовые законы, они отождествляют право со справедливостью и даже утверждают, что вне права и кроме права нет и не может быть никакой справедливости [8, с. 13-21].
Мнение Ф.М. Раянова на этот счет следующее: «Представители так называемого либертарного подхода к праву, не выясняя вопроса о том, что есть право, тут же пытаются ответить на вопрос о том, каким оно должно быть. Такой сугубо сущностный, аксиологический подход к праву вообще смывает границы юридического права, не дает возможности объективно оценить то, что есть на самом деле ... Такой подход, по нашему мнению, является не научным, а идеологизированным, а по существу продолжением проявления стереотипа мышления, выработанного в период господства марксистско-ленинского классового учения о государстве и праве. Ведь именно тогда возникла идеология, в соответствии с которой на каждое явление надо было смотреть с сущностной, аксиологической стороны. Сущность же явления сразу же примерялась с позиций классовой идеологии, а не науки. В результате вместо того, чтобы определить понятие права, то есть выяснить, что оно есть в объективном мире, сразу же давались его сущностные характеристики (право — есть возведенная в закон воля господствующего класса). Сегодня же мы вроде ушли от этой идеологии, но впали в другую крайность и говорим: «право есть нормативно закрепленная справедливость». Если же разобраться, то оказывается, что идеологии разные, а стереотипы мышления одинаковые, но как тогда, так и сейчас — ненаучные» [18, с. 38-39].
Стоит отметить, санкция, исходящая от государства не рассматривается как неотъемлемый признак правовой нормы, так B.C. Нерсесянц отмечает, что контексте различения и соотношения права и закона общеобязательность закона обусловлена его правовой природой и является следствием общезначимости объективных свойств права ... Не право - следствие официально - властной общеобязательности, а наоборот, эта обязательность - следствие права ... Смысл этого определения состоит не только в том, что правовой закон обязателен, но и в том, что общеобязателен только правовой закон [16, с. 37].
Что же касается закона в его отношении к праву, то он трактуется как нечто вторичное и обусловлен- ное, зависящее от человеческого усмотрения, решения и выбора, как хорошо или плохо, верно или неверно, справедливо или несправедливо изготовленный, сконструированный (т. е. искусственный) продукт человеческого творчества.
Различение права и закона как теоретическая конструкция выполняет две основные функции: оценочную и объяснительную. Существо оценки при этом состоит в характеристике закона в качестве правового или неправового (антиправового) установления. При этом право выступает в качестве основания и критерия для суждения о ценности закона, его соответствии своему назначению и т. п. Иначе говоря, в своем оценочном отношении к закону право предстает как концентрированное выражение всех тех требований, без соответствия которым закон дисквалифицируется. Закон, не соответствующий праву, — это произвол [13, с. 15].
По мнению B.C. Нерсесянца, право является правом в себе, так как право выражает принцип формального равенства людей; властная общеобязательность присуща не праву, а именно только закону, но только в той мере, в какой он является правовым, т.е. соответствующим принципу формального равенства. Часть права, не получившая воплощения в законе, общеобязательной не является, т.е. утрачивает юридический характер, не гарантируется возможностью обращения к государственному принуждению. В то же время законы содержат (или могут содержать) ряд неправовых требований (в вышеуказанном смысле), за невыполнение которых установлены государственные санкции. Но либертаристы лишают эти законы (или их части) общеобязательного характера. Кто полномочен решать вопрос о правовом или неправовом характере закона? В том, что касается «правового закона», позиции либерта-ристов и позитивистов совпадают, а та часть «права», которая остается за пределами закона, не обладая общеобязательностью, утрачивает юридический характер, превращается в моральную норму, так как не обеспечивается возможностью государственного принуждения [9, с. 10].
Как полагает О.В. Мартышин, в том случае, когда происходит достаточно жесткое «разделение» категории права и «закона», вся реальная правовая проблематика сосредоточивается вокруг широко и нетрадиционно понимаемым «закона», а «право» оказывается выведенным за пределы реальной правовой жизни трансцендентным феноменом, понимаемым в качестве явления (или) даже математики свободы, сущности - тем, что имеет характер естественного права [9, с. 11].
По поводу отличий права от закона в среде правоведов существуют разнообразные мнения помимо либертарно - юридической теории [11, с. 4]. Вместе с тем все чаще встречаются суждения о нецелесообразности (по крайней мере в настоящее время) ак- центировать внимание на различии права и закона, хотя бы уже потому, что подобный дуализм способен стимулировать процесс ослабления и даже распада законности в стране, и без того достигшего самых крайних и опасных отметок. Один из аргументов против использования в теории и на практике понятий правовой закон и "неправовой закон" состоит в том, что это ослабляет регулятивную роль закона, создает препятствия государству и его институтам в выполнении правоохранительных функций, формирует нигилистическое отношение к закону и праву. Согласиться с подобными выводами нельзя, так как при различении права и закона проявляется регулятивная роль права, которое закон и должен адекватно выражать [11, с. 4]. Противоречащий праву закон не должен стать источником правового регулирования, а практика использования государством неправовых законов для регулирования общественных отношений противоречит его правоохранительной функции [3, с. 33].
Правовой законне противостоит праву. Ему противостоит лишь закон неправовой [21, с. 368]. Возникает вопрос о том, какие конкретные правовые механизмы смогут стать препятствием на пути появления «неправовых» законов; прежде всего, такие механизмы может обеспечить суд. Рассматривая само соотношение права и закона концептуально, можно увидеть в этой диспозиции презумпцию того, что всякий закон есть по своей юридической природе правовой акт; следовательно, его правовая природа должна быть подтверждена в процессе применения закона. Юридическим механизмом, служащим достижению этой цели, выступает в основном именно суд. Однако и этот орган подвержен различного рода злоугклребгБниям. В этом случае те же международные судебные органы, судьи которых избираются на «интернациональной» основе, могут обеспечить более высокие гарантии того, что именно права и свободы человека и гражданина будут служить «мерилом» правосудной деятельности.
Таким образом, право и закон не одно и то же, но тенденция к некой несовместимости и разрыву между ними не может не оказывать негативного воздействия на отношения к закону, на состояние законности и правопорядка, не подпитывать правовой нигилизм [1, с. 97].
Действительно, трактовка права, где она отделяется от закона, может привести к легализации противоправной деятельности лиц, которые якобы опираются на некие «права», не получившие выражение в законе. При таком подходе «общие правовые принципы и фундаментальные права и свободы человека как бы заменяют нормативную основу законности, и оценка законов, всех нормативных актов становится произвольно субъективным делом. Законодательству наносится тяжёлый удар, и это имеет самые пагубные последствия: разрушается единая база общеобязательности закона и все дается легальный повод произвольным образом на них реагировать ... У граждан вновь формируются мотивы правового нигилизма» [20, с. 5].
Также в либертарной теории отсутствует методология выявления и отличия правового закона от произвола в условиях отдельных исторических типов права. Возникает вопрос о том, какие конкретные правовые механизмы смогут стать препятствием на пути появления «неправовых» законов.
Список литературы Теоретическая интерпретация сущности права и закона в либертарной парадигме
- Байтин М. И. Сущность права. -Саратов: СГАП. 2001.
- Ветютнев Ю.Ю. Выбор правопонимания: значение и выбор.Проблемы понимания права. Сборник научных статей: Право России: новые подходы. -Саратов: Научная книга, 2007.
- Жилин Г.А. Соотношение права и закона.Российская юстиция. 2000. № 4.
- Зорькин В.Д. Ценностный подход в конституционном регулировании прав и свобод. Журнал российского права. 2008. № 12.
- EDN: OALRVL
- Кант И. Собрание сочинений. Т. 4 Ч. 2/Под общ. ред. А.В.Гулыги. -М.: ЧОРО, 1994.