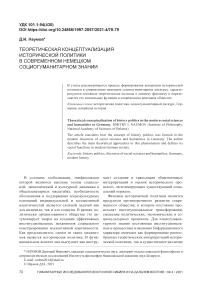Теоретическая концептуализация исторической политики в современном немецком социогуманитарном знании
Автор: Наумов Дмитрий Иванович
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Philosophia perennis
Статья в выпуске: 4 (58), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается процесс формирования концепции исторической политики в современном немецком социогуманитарном дискурсе, характеризуются основные теоретические подходы к данному феномену и определяются его социальные функции в современном немецком обществе.
Историческая политика, социогуманитарный дискурс, германия, новейшая история
Короткий адрес: https://sciup.org/170191742
IDR: 170191742 | УДК: 101.1:94(430) | DOI: 10.24866/1997-2857/2021-4/70-79
Текст научной статьи Теоретическая концептуализация исторической политики в современном немецком социогуманитарном знании
В условиях глобализации, эпифеноменом которой являются высокие темпы социальной, экономической и культурной динамики в общепланетарных масштабах, необходимость обоснования и поддержания социокультурных оснований индивидуальной и коллективной идентичностей является сложной задачей как для индивида, так и для социума. В рамках политически организованного общества это актуализирует запрос на создание эффективных институциональных механизмов социального конструирования коллективной идентичности. Как представляется, одним из таких механизмов является историческая политика. В функциональном аспекте она выступает как инстру- мент создания и трансляции общезначимых интерпретаций и оценок исторического прошлого, легитимирующих существующий социальный порядок.
Феномен исторической политики является продуктом противоречивого развития современного общества, в котором постоянно происходят институциональные трансформации, смешение политических, экономических и социокультурных процессов. Для социогумани-тарного знания постоянные институциональные и процессные изменения бифуркационного характера означают как формирование разнообразных теоретических интерпретаций исторической политики, так и существенное различие между исследователями в понимании ее функциональной роли в современном обществе. В данном случае проиллюстрировать этот тезис необходимо посредством обращения к аналитическому рассмотрению генезиса концепта и его дальнейшей теоретической разработке в рамках современного немецкого социогумани-тарного знания.
Актуальность данного теоретического исследования определяется комплексом следующих причин теоретического и прикладного характера. Во-первых, необходимостью определения функциональной роли как историзации политического процесса, так и инструментализации исторического процесса в формировании определенных процессов в социокультурном пространстве современного общества. Это обусловлено тем, что социум в условиях глобализации оказывается в ситуации постепенного размывания традиционных основ коллективной идентичности и распада идеологизированных «больших нарративов», определявших политическую и культурную картины мира индивидов. Во-вторых, необходимостью эпистемологического разграничения феноменов исторической политики, социальной памяти и коллективной идентичности. В аналитическом аспекте это актуализирует проведение кросс-культурного анализа процессов и механизмов конструирования национальной и государственной идентичности в обществах, исторически, культурно и экономически существенно различающихся между собой. В-третьих, необходимостью объективной оценки последствий экспансии исторической политики в различные сферы социальной жизни современного общества. С одной стороны, она обусловлена интенсивным развитием информационно-коммуникационных технологий, что обусловливает возможность эффективной коммерциализации продуктов как художественного, так и научного творчества на исторические темы. С другой стороны, такая экспансия является продуктом соответствующих образовательных практик, характеризующих содержание гражданской социализации индивида в рамках формального, неформального и информального образования.
Следует отметить, что современные российские исследователи в своих научных работах неоднократно рассматривали различные аспекты генезиса и последствий Второй мировой войны: институциональные и социокультурные факторы и механизмы военного конфликта (Г.Д. Бур- дей, Н.Д. Козлов, Е.М. Малышева, М.И. Мель-тюхов и др.); нацистскую оккупационную политику на оккупированных территориях СССР (Н.В. Доронина, И.Г. Ермолов, Б.Н. Ковалев, О.Л. Сорокина и др.); проблему моральной и политической ответственности за развязывание и итоги Второй мировой войны в немецкой историографии (Ю.З. Кантор, А.К. Соколов, К.В. Федоров и др.); политико-идеологическое противоборство СССР и Германии во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (Л.А. Безыменский, Ю.Н. Жуков, В.Ф. Зима, В.А. Невежин, Е.С. Сенявская, Ф.Л. Синицын и др.), а также другие актуальные вопросы данного исторического периода. Однако в качестве основной цели данного исследования, которое является социально-философским, но не историографическим, выступает определение эвристического потенциала теоретических моделей исторической политики, сформировавшихся в современном немецком социогуманитарном дискурсе. В контексте исследования это означает характеристику теоретических оснований данной концепции, а также ретроспективную оценку практической реализации исторической политики в современной немецкой социально-политической практике.
Конструирование и использование термина «историческая политика» («Geschichtspolitik») тесно связано с определенной социально-политической конъюнктурой, сложившейся в политической и интеллектуальной жизни страны в 1970-х – 1980-х гг. Впервые данный термин был использован 8 октября 1986 г. Кристианом Мейером в своем публичном выступлении на 36-й встрече немецких историков в г. Трире (ФРГ), которое было посвящено проблематике изучения и оценки нацистских преступлений в историографии [8]. Введение в научный оборот данного термина отвечало политической повестке дня, которую сформировал в начале 1980-х гг. канцлер ФРГ Гельмут Коль – дипломированный историк, окончивший Гейдельбергский университет, где он изучал историю и общественно-политические науки. Именно Коль инициировал известный «морально-политический поворот» в политике страны, призванный актуализировать и переоценить трагический опыт Второй мировой войны. В определенной степени это была непосредственная позиция канцлера, обусловленная фактами личной биографии: город Людвигсхафен, в котором прошло его детство, в годы войны из-за расположенных в нем химических заводов подвергался ожесточенным бомбардировкам союзников. После их окончания он помогал извлекать из-под обломков домов обгоревшие тела своих соседей, что не только стало основанием для психологической травмы, но и сформировало мировоззренческую основу его антивоенной позиции как политика.
Для немецких интеллектуалов данная политика послужила одним из источников острой профессиональной полемики, получившей название «спор историков» («Historikerstreit»), предметом которой стало определение источников возникновения и механизмов развития нацистского режима, определение его роли и места в новейшей немецкой истории. Однако для политической элиты, научного сообщества и широкой немецкой общественности необходимость «преодоления прошлого» означала сложный процесс трансформации методологических и эпистемологических схем, ретроспективно описывающих и объясняющих исторический путь немцев от диктатуры к демократии, который имел нормативные, институциональные и социокультурные измерения. Широко известная в стране публичная дискуссия, которая велась почти исключительно посредством статей и писем главному редактору, направляемых в газеты «Die Zeit» и «Frankfurter Allgemeine Zeitung», практически привела к ревизии некоторых ключевых трактовок исторического прошлого Германии. В качестве участников ожесточенной дискуссии, представленных двумя основными лагерями, выступили известные немецкие историки, философы, журналисты и общественные деятели (с одной стороны – Эрнст Нольте, Иоахим Фест, Михаэль Штюрмер, Клаус Хильдебранд, Райнер Зительман, Хаген Шульце и др., с другой стороны – Юрген Хабермас, Ханс-Ульрих Велер, Мартин Бросзат, Генрих Август Винклер и др.).
В данном случае известный немецкий историк консервативного направления, специалист по военной, политической и дипломатической истории, профессор Кельнского университета Андреас Хилльгрубер обозначил проблемное поле исследования. Именно он в 1986 г. издал книгу «Zweierlei Untergang, Die Zerschlagung des Deutschen Reiches und das Ende des europäischen Judentums» [6], в которой если не отождествил, то крайне некорректно сравнил Холокост с насильственным переселением этнических немцев из Чехословакии и Польши, которое состоялось после поражения
Содержательно в центре «спора историков» оказались четыре основных вопроса, фактически эксплицирующих универсальные характеристики тоталитаризма:
– моральная оценка преступлений нацистского режима в контексте их отождествления с преступлениями сталинизма;
– возможность и правомерность сопоставления Холокоста с другими историческими примерами политики геноцида;
– определение причинно-следственной связи между преступлениями нацизма и сталинизма в конкретном историческом контексте;
– проблема статуса и временных рамок коллективной вины немецкого народа за преступления нацистов в период Второй мировой войны.
Для немецких историков поиск корпоративных ответов на эти вопросы означал не столько решение методологической проблемы, сколько нахождение новых оснований для коллективной гордости немцев за свою историю как необходимую предпосылку сохранения национальной и государственной идентичности в послевоенный период. Или, как метафорически выразился консервативный немецкий историк Эрнст Нольте в своей статье, опубликованной 6 июня 1986 г. во «Frankfurter Allgemeine Zeitung» и фактически запустившей «спор историков», возможность подвести «черту под немецким прошлым», чтобы начать решать актуальные проблемы современности. Альтернативная точка зрения, концептуализированная немецким философом Карлом Ясперсом в понятии коллективной вины, предполагала достижение общественного консенсуса на основе признания исторической ответственности за геноцид и военные преступления. Медийным выражением этой позиции стал девиз «Никогда больше!», который имплицитно определял индивидуальную ответственность немцев в проективном ракурсе за историческое развитие общества и государства.
Кристиан Мейер именно в этом социально-политическом и профессиональном контексте фактически постулировал, что историческая политика служит нормативной основой для утверждения моральных оценок исторических фактов и персонажей, преимущественно новейшего периода истории Германии. Сформулированное Мейером преимущественно нормативное, а не аналитическое понимание исторической политики эксплицировалось в виде ее основной задачи по мобилизации немецкой общественности вокруг политических сил посредством определенным образом конструируемого исторического дискурса.
В дальнейшем теоретическая концептуализация исторической политики в современном немецком социогуманитарном дискурсе получила свое развитие именно в формате нормативной трактовки данного феномена. Поэтому в качестве основных задач исторической политики в современном немецком обществе были определены политическая мобилизация, идеологическая индоктринация, легитимация демократических ценностей и формирование гражданской политической культуры. Так, известный немецкий исследователь Эдгар Воль-фрум считает, что историческая политика выступает как форма общественной рефлексии исторического процесса, которая в демократическом обществе носит открытый и состязательный характер, нацеленный на недопущение релятивизации нацистских преступлений в более широком историческом контексте новейшего времени [9]. В условиях послевоенной жизни ФРГ историческая политика, как подчеркивает Вольфрум, стала инструментом гражданской социализации молодежи и средством укрепления демократических институтов и практик в пространстве современного немецкого общества [10].
Следует отметить, что после воссоединения Германии функциональная нагрузка на историческую политику существенно возросла, добавив направление работы с историей ГДР. В стране были созданы земельные исследовательские центры и ресурсные фонды, деятельность которых нацелена на изучение наследия социалистического режима (например, Центр современной истории в Потсдаме). В первую очередь их исследования сфокусированы на определении масштабов и нормативной оценке политических репрессий, деятельности спецслужб ГДР в стране и за рубежом, идеологической политики и пропаганды немецкого социалистического государства, специфики политической социализации восточных немцев, развитии диссидентского движения и т.д. Кроме того, существенное развитие проблематика исторической науки получила в серии публикаций Рабочей группы по политике и истории Немецкой ассоциации политических наук.
Как представляется, в новейшей немецкой социально-политической практике историческая политика, с одной стороны, занимается созданием определенных конструктов (политических традиций, гражданской идентичности, мировоззренческих смыслов, историзиро-ванных идеологем и т.д.). С другой стороны, она ориентирует индивидов, различные социальные группы и общество на продуктивную гражданскую деятельность как здесь и сейчас, так и в будущем. Фактически историческая политика предоставляет немецкому обществу возможность формирования необходимой мо- тивации продуктивной гражданской активности индивидов. Она формирует благоприятные условия для создания конкретных планов развития путем обращения к жизнеспособным историко-культурным традициям, к опыту деятельности выдающихся исторических деятелей и значимым событиям немецкой истории. Эдгар Вольфрум подчеркивает, что особое значение имеет инструментализация исторического процесса и определение тех механизмов, с помощью которых его отдельные компоненты становятся политически актуальными [9, p. 26]. В результате в расширенном варианте под исторической политикой может пониматься любая социальная деятельность, предметом которой являются символические манипуляции с историей, предпринимаемые с целью конструирования коллективных идентичностей и их легитимации в публичном пространстве. При этом сама историческая политика является процессом, имеющим медийное измерение, а в качестве ее основных акторов выступают не только политические и научные элиты, но и представители гражданского общества. Благодаря развитию средств массовой информации в современном обществе (как традиционных, так и электронных) все они имеют возможность устанавливать и поддерживать конкурентные отношения по поводу производства и трансляции определенных дискурсов и моделей интерпретации исторического процесса, а также режимов исчезновения и забвения определенных исторических фактов и акторов [9, p. 28].
Следует акцентировать эвристичность и теоретическую продуктивность идей Эдгара Воль-фрума по поводу конституирующего потенциала исторической политики в условиях социеталь-ных трансформаций. Поэтому его последователи в дальнейшем сконцентрировали свое внимание на источниках и параметрах ее трансформации в условиях глобализации (Хорст-Альфред Генрих, Роберт фон Фриденбург, Биргит Швеллинг, Клаудиа Ленц, Клаудиа Фрёлих и т.д.). В данном случае речь идет о таких методологически сложных вопросах, как определение роли политических акторов в интерпретации истории и манипуляции с историческими фактами, статус реципиентов исторической политики, описание механизмов интерпретации определенных событий прошлого с актуальной политической точки зрения настоящего [5].
В гносеологическом аспекте на новом этапе исторического развития немецкого обще- ства историческая политика не ограничивается пространством публичного дискурса, а уже выступает как общая концепция, объясняющая политические действия, намерения и интересы политических акторов, конструирование ими вариантов развития общества в целом. Как считает Клаудиа Ленц, она формирует эпистемологическую рамку, которая направлена на объяснение взаимодействия между дискурсами прошлого, культурными практиками и формированием коллективной идентичности, с одной стороны, и борьбой за власть и интеллектуальное влияние, установлением политико-культурной гегемонии – с другой [5, p. 81]. В рамках политологического исследования настоящего, согласно Ленц, нельзя обойтись без анализа политических и политизирующих измерений дискурсов исторического прошлого. Она утверждает, что в каждом обществе существует базовое нарративное повествование, представляющее собой доминирующую версию истории, которая определяет структуру культуры памяти народа. Культура памяти на уровне индивидуального и коллективного познания проявляет себя как компонент воспроизводства и передачи исторического знания. На уровне политического процесса она реализует себя как нормативная основа политических и правовых интерпретаций истории, которые в собственной деятельности должны учитывать акторы, действующие в легальном пространстве политической системы. На эстетическом уровне культура памяти проявляет себя как стиль визуального, художественного воспроизведения исторического прошлого, представленного как в массовой, так и в элитарной культуре.
С наступлением XXI в. произошло существенное изменение трактовки исторической политики, что обусловило расширение исследовательского поля не столько по предметным рамкам, сколько по установкам на эпистемологическую саморефлексию [4]. На авансцену вышли вопросы, касающиеся условий и параметров интерпретации исторического прошлого политическими акторами, взаимосвязи легитимации и делегитимации в контексте апелляций к истории, определения эвристического потенциала системного подхода, теорий рационального выбора и социальной идентичности в контексте исследования исторической политики в современных условиях. Особый интерес у немецких исследователей вызвал период горбачевской «перестройки» и «гласности»
в СССР (1986–1991 гг.), который представляет интерес в контексте выявления параметров влияния политических и идеологических факторов на трансформацию ригидной идеологизированной советской исторической политики. Следствием этого периода, характерной особенностью которого были активные общественные дискуссии по поводу исторического прошлого страны, стала делегитимация исторических догм, канонов советской историографии и форм коммеморации. С точки зрения Карла Ларса, в постсоветский период государство постепенно утратило свою единственную монополию на интерпретацию проблем прошлого и стало только одним из ряда политических акторов, конструирующих коллективный ландшафт памяти [3]. Для немецких исследователей этот процесс представляет интерес с точки зрения сопоставления с процессами в современном немецком обществе, которые стали следствием воссоединения ФРГ и ГДР.
В настоящее время интерес представляет вопрос о параметрах соотнесения исторической и образовательной политик в немецком обществе. Так, Марио Кесслера особо интересует проблематика дидактических и социали-зационных функций исторической политики, возможности формирования толерантности и интеллектуальной автономии, укоренения демократических ценностей и практик в социальном пространстве немецкого общества [7]. В гносеологическом аспекте актуальной задачей для него является экспликация взаимосвязи между историческими исследованиями и исторической политикой как инструментом социального проектирования в послевоенной Германии. При этом он ставит вопрос о демаркации исторических фактов и их интерпретаций, конструируемых экспертами и политическими акторами.
В свою очередь, интересный пример теоретического обоснования истории как элемента политического действия в общественно-политических реалиях Берлинской республики продемонстрировал Мануэль Беккер. На актуальном эмпирическом материале он провел сравнительное исследование целого комплекса теоретических подходов к данному феномену (научно-объективного, исторического, политологического подходов, а также концепций из области социальных наук). Все это позволило Беккеру актуализировать историко-политическое значение политико-культурных исследований, определить эпистемологические возможности применения концепта «историческая политика» в исследованиях социетальной трансформации как в немецком социальном контексте, так и в более широких географических, культурных и политических рамках [1].
Расширение Европейского Союза вследствие дезинтеграции системы биполярного миропорядка стало наглядным свидетельством усиления экономических и политических позиций коллективного Запада во всем мире. В политико-культурном аспекте вхождение в состав ЕС ряда посткоммунистических стран Восточной и Центральной Европы актуализировало роль исторической политики как инструмента формирования общеевропейской идентичности. Именно поэтому в центр междисциплинарного исследовательского внимания немецких ученых попали вопросы конструирования политических и моральных рамок интерпретаций прошлого различными акторами: политиками, гражданскими активистами, предпринимателями, журналистами, представителями различных конфессий. Проблематика исследования исторической политики пополнилась аспектами взаимодействия дискурсов памяти в рамках как национальных обществ, так и всего европейского пространства [2]. Неудивительно, что наибольший исследовательский интерес вызвали страны с наиболее богатой в плане участия в различных конфликтах национальной историей – Германия, Франция и Польша.
Острый интерес вызывает сложный вопрос, касающийся определения, оценки и блокирования деструктивного потенциала «войн памяти» между европейскими национальными государствами и европейскими институтами, проблематика фальсификации истории [11]. Такая постановка проблемы актуализирует вопросы политической ангажированности исторической политики в рамках межгосударственных отношений, развития институциональной инфраструктуры исторической политики в общеевропейском пространстве, определения приоритетных направлений деятельности научных, образовательных и культурных учреждений в данной сфере [11, p. 371]. С точки зрения экспертов, в целях обеспечения плодотворного межгосударственного сотрудничества, которое должно работать на укрепление общеевропейской идентичности, историческая политика должна развиваться на следующих принципах:
– независимость, минимизирующая политическое вмешательство и элиминирующая манипуляции с прошлым в интересах отдельных акторов;
– дискурсивный характер исторической политики, основанной на принципах транспарентности и толерантности;
– долгосрочный характер исторической политики, ориентированной на продвижение демократии в долгосрочной перспективе;
– исключение из исторической политики содержательных компонентов (исторические события, процессы и персонажи), способных поляризовать общественное мнение по поводу ретроспективных оценок прошлого и усилить ее конфликтогенный потенциал;
– плюралистичный характер формирования исторической политики, учитывающий культурное, этническое и историческое многообразие континента;
– право акторов на коррекцию исторической политики в содержательном и процессном аспектах, реализуемое в рамках объективных научных процедур, отвечающих требованиям исторического познания;
– элиминирование экстремистских установок из разнородного и плюралистического медиа дискурса об исторической политике;
– повышение социального значения научных и образовательных учреждений, ответственных за историческое образование в обществе;
– приоритет европейских аспектов исторической политики перед национальными или локальными компонентами, дидактически обеспечиваемый в целях формирования общеевропейской идентичности;
– комплементарность национального и европейского компонентов исторической политики, недопущение их смыслового и мировоззренческого противопоставления;
– включение в историческую политику регионального компонента, т.к. культура, традиции и сообщества регионов играют важную роль в развитии культурного самосознания и коллективной памяти всех европейцев;
– расширение использования информационно-коммуникационных технологий в сфере исторической политики [11, p. 372–376].
Таким образом, использование данных принципов в качестве нормативных установок при формировании и реализации исторической политики в общеевропейском пространстве позволит обеспечить повышение степени ее социальной эффективности.
В целом изучение различных аспектов конструирования и реализации исторической политики, формально реализуемых в рамках национальных государств, показало изменение ее масштабов и превращение в транснациональный феномен. Несмотря на то, что нация по-прежнему функционирует как первичное сообщество коллективной памяти, появление в условиях глобализации новых социальных групп и сообществ привело к усложнению социокультурной жизни европейского общества и фрагментированию коллективной памяти. Это обусловливает возможность злоупотребления как исторической политикой, так и политикой памяти в целях обеспечения большей социально-политической интеграции общества посредством установления нормативных правовых ограничений на производство и трансляцию в публичном пространстве исторических нарративов и коммеморативных практик.
Интеллектуальное влияние немецкой традиции концептуализации исторической политики на формирование постсоветского дискурса по данной проблематике можно выявить, если эксплицировать основные характеристики этого феномена, представленные в рамках соответствующих теоретических подходов. В рамках постсоветского социогуманитарного знания, как представляется, можно говорить о трех основных теоретических подходах к трактовке исторической политики (инструментальный, морализаторский и политико-институциональный). При этом в методологическом и теоретическом аспектах они рассматриваются только в качестве аналитических инструментов междисциплинарного исследования социокультурных процессов в постсоветском обществе, поэтому данная классификация имеет гипотетический характер.
Инструментальная трактовка исторической политики рассматривает данный феномен как целевую деятельность государства, направленную на укрепление в общественном сознании определенного взгляда на историческое прошлое и формирование позитивного имиджа народа и государства. Данная задача реализуется посредством активизации соответствующего публичного дискурса, поддерживаемого в медийном пространстве как элитами, так и экспертным сообществом. В таком контексте историческая политика либо рассматривается как составная часть политики памяти, либо отождествляется с последней из-за своей нацелен- ности на формирование и воспроизводство коллективных идентичностей. Как подчеркивает О.Ю. Малинова, политика памяти «работает с мифами – разделяемыми членами политического сообщества, упрощенными и эмоционально окрашенными нарративами, сводящими сложные и противоречивые исторические процессы к редуцированным и удобным для восприятия схемам» [14, с. 10]. Именно поэтому историческую политику зачастую рассматривают как «поиск оснований для предъявления политических или экономических претензий, где значимыми инструментами оказываются зачастую вымышленные факты, “замалчивание” фактов, сознательная подтасовка толкований исторических событий» [16, с. 66]. В результате историческая политика превращается в инструмент политической мобилизации населения на основе мифологем и идеологических конструктов, слабо связанных с реальными историческими фактами и персонажами.
Морализаторская трактовка исторической политики рассматривает данный феномен как нравственную рефлексию исторического процесса, субъектами которой в большей степени являются индивиды, сообщества и гражданское общество, чем государство. Функционально историческая политика призвана обеспечить формирование неконфликтной картины прошлого и социальное единство общества, сформировать гражданскую культуру. В определенной степени это обеспечивается формированием соответствующих «коллективных и политических идентичностей посредством использования ресурсов истории, политической мифологии и исторической памяти» [12, с. 36]. В результате происходит конструирование и распространение совокупности идеологически ангажированных исторических интерпретаций и нарративов, которые имеют телеологический характер и формируют непротиворечивую картину как этногенеза, так и политогенеза. В целом они достаточно эффективно обеспечивают эмоциональную и аксиологическую включенность индивида в процесс политической идентификации с национальным государством, рассматриваемым как ценность высшего ранга. Однако подобная трактовка исторической политики актуализирует примордиалистский конструкт этногенеза, устанавливающий эксклюзивное право автохтонного этноса на владение определенной территорией и свою национальную культуру, воспринимаемую как эталонную для всех. В качестве иллюстрации подобной позиции может послужить точка зрения белорусского историка Д.В. Карева на этно – и по-литогенез белорусов: «Работа по превращению “населения” Республики Беларусь в нацию через расширение национально-государственного, исторического сознания и национально-культурного Возрождения белорусов предстоит большая и очень тяжелая. Надеяться на быструю победу не приходится» [13, с. 259]. В результате актуализируется проблема исторической правды, а сама историческая политика становится объектом критики из-за намеренного искажения и фальсификации исторического прошлого посредством его ритуализации и игнорирования исторического контекста.
Политико-институциональная трактовка исторической политики сфокусирована на доминирующей роли государства в сохранении коллективных представлений об историческом прошлом как неотъемлемом компоненте национальной идентичности. Соответственно, основная цель исторической политики – создание таких конструктов, как политические и гражданские традиции, этнонациональная и гражданская идентичности, а также обеспечение легитимности определенных политических акторов и институтов. Средствами практической реализации подобной политики в государстве являются различные дидактические инструменты (учебные планы и программы, учебники и учебные пособия, атласы и карты), государственные праздники, топонимика, а также медийная продукция, транслируемая в средствах массовой коммуникации. В таком понимании историческая политика выступает как политически или идеологически ангажированное моделирование исторического сознания и исторической памяти населения страны, которое выступает объектом целенаправленного воздействия через средства массовой коммуникации и систему образования. В качестве субъекта в этом случае выступают элитарные сообщества, которые действуют в своих корыстных интересах посредством установления определенных оценок исторических деятелей, интерпретаций исторических событий и селекции фактов прошлого. При этом под историческим прошлым надо понимать комплекс разнородных «исторических событий, фигур и символов, которые наделяются смыслами, в той или иной мере значимыми для современных политических и культурных практик» [15, с. 32]. Развитие такой политики на практике имплицитно ведет к конструированию глобальной памяти, социальной базой которой выступает мировое гражданское общество, отрицающее национальный партикуляризм и этноцентризм.
Таким образом, проблематика теоретической концептуализации исторической политики в современном немецком социогуманитарном знании представляет определенный исследовательский интерес. С одной стороны, с точки зрения экспликации гносеологических установок и эпистемологических рамок данного конструкта, рассматриваемых в контексте эволюции концептуализации исторической политики в современной Германии. С другой стороны, в контексте определения характера влияния немецкого интеллектуального наследия на формирование и реализацию исторической политики в постсоветском обществе (как в аспекте творческого заимствования теоретических идей, так и с точки зрения формирования и функционирования соответствующих институциональных механизмов и социальных практик). В целом, сформировавшиеся в современном немецком социогуманитарном знании теоретические модели конструирования и описания исторической политики обладают существенным эвристическим потенциалом, т.к. они акцентируют внимание на взаимосвязи соответствующих социокультурных и институциональных аспектов.
Список литературы Теоретическая концептуализация исторической политики в современном немецком социогуманитарном знании
- Becker, M., 2013. Geschichtspolitik in der «Berliner Republik». Konzeptionen und Kontroversen. Wiesbaden: Springer.
- Geschichtspolitik in Europa seit 1989. Deutschland, Frankreich und Polen im internationalen Vergleich. Göttingen: Wallstein Verlag, 2013.
- Geschichtspolitik und Erinnerungskultur im neuen Russland. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2009.
- Geschichtspolitik und sozialwissenschaftliche Theorie. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2008.
- Geschichtspolitik. Wer sind ihre Akteure, wer ihre Rezipienten? Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2004.
- Hillgruber, A., 1986. Zweierlei Untergang, Die Zerschlagung des Deutschen Reiches und das Ende des europäischen Judentums. Berlin.
- Keßler, M., 2010. Historia magistra vitae? Über Geschichtswissenschaft und politische Bildung. Berlin: Trafo.
- Meier, Ch., 1987. Eröffnungsrede zur 36. Versammlung deutscher Historiker in Trier, 8. Oktober 1986 In: «Historikerstreit». Die Dokumentation der Kontrovers um die Einzigartigkeit der nationalsozialistischen JudenVernichtung. Texte von Rudolf Augstein, Karl Dietrich Bacher, Martin Broszat, et al. MünchenZürich: Piper, pp. 204-214.
- Wolfrum, E., 2010. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik als Forschungsfelder. Konzepte - Methoden - Themen. In: Reformation und Bauernkrieg. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik im geteilten Deutschland. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, pp. 13-47.
- Wolfrum, E., 1999. Geschichtspolitik in der Bundesrepublik Deutschland 1949-1989. Phasen und Kontroversen. In: Umkämpfte Vergangenheit: Geschichtsbilder, Erinnerung und Vergangenheitspolitik im internationalen Vergleich. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1999, pp.55-81.
- Jenseits der Jubiläen. Geschichtspolitik im deutsch-polnischen Alltag. Warschau: FriedrichEbert-Stiftung, 2017.
- Гигаури Д.И., Гуторов В.А. Политический миф в структуре исторической памяти // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. 2017. № 2. С. 24-45.
- Карев Д.В. Белорусская и украинская историография конца XVIII - начала 20-х гг. xx в. в процессе генезиса и развития национального исторического сознания белорусов и украинцев. Вильнюс: ЕГУ, 2007.
- Малинова О.Ю. Актуальное прошлое: Символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности. М.: Политическая энциклопедия, 2015.
- Методологические вопросы изучения политики памяти: сборник научных трудов. М.; СПб.: Нестор-История, 2018.
- Сыров В.Н., Головашина О.В., Аникин Д.А., Овчинников А.В., Линченко А.А. Концептуальные основания политики памяти и перспективы постнациональной идентичности. Томск, 2019.