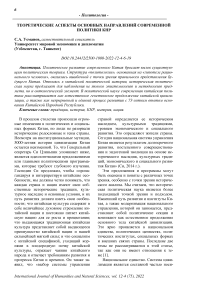Теоретические аспекты основных направлений современной политики КНР
Автор: Усманов С.А.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Политология
Статья в выпуске: 12-4 (75), 2022 года.
Бесплатный доступ
Политическое развитие современного Китая бросает вызов существующим политическим теориям. Структура «политологии», основанная на «гипотезе рационального человека», оказалась ошибочной с точки зрения правильного представления будущего Китая. Относясь к китайской политической истории, историческая политическая наука предлагает для наблюдения не только эпистемологию и методологию предмета, но и онтологический элемент. В политической науке современная китайская политика рассматривается как естественное генетическое продолжение китайской цивилизации, а также как непрерывный и единый процесс развития c 73-летним опытом основания Китайской Народной Республики.
Традиции, история, кнр, империя, нация
Короткий адрес: https://sciup.org/170197101
IDR: 170197101 | DOI: 10.24412/2500-1000-2022-12-4-6-19
Текст научной статьи Теоретические аспекты основных направлений современной политики КНР
В прошлом столетии произошли огромные изменения в политических и социальных формах Китая, но люди не разорвали исторические родословные и гены страны. Несмотря на институциональные мутации, 5000-летняя история цивилизации Китая остается неизменной. То, что Генеральный секретарь Си Цзиньпин упоминает ниже, является идеологическими предложениями или главными политическими программами, которые требуют глубокого изучения. Господин Си предложил, чтобы «пропагандируя и интерпретируя китайские особенности, мы должны четко понимать, что каждая страна и нация имеют свои собственные исторические традиции, культурное наследие и основные условия, и их путь развития должен иметь свои особенности; что китайская культура содержит в себе величайшее духовное стремление китайской нации и постоянно питает китайскую нацию для ее роста и процветания; что выдающаяся традиционная китайская культура представляет собой выдающееся преимущество китайской нации и нашей сильнейшей мягкой силы; и что социализм с китайской спецификой, уходящий корнями в плодородную почву китайской культуры, отражает чаяния китайского народа и отвечает требованиям развития и прогресса Китая и времени. Он также заявил, что «выбор системы управления страной определяется ее историческим наследием, культурными традициями, уровнем экономического и социального развития. Это определяют жители страны. Сегодня национальная система управления Китая является результатом долгосрочного развития, постепенного совершенствования и эндогенной эволюции на основе исторического наследия, культурных традиций, экономического и социального развития Китая» (Си, 2014 г.).
Эти предложения и программы могут быть оценены и поняты с различных точек зрения, особенно с точки зрения исторического анализа. Мы считаем, что историческая политическая наука является более подходящей точкой зрения и подходом. Нынешний путь развития и институты Китая, а также модернизация национального управления, которой он занимается, представляют собой политические секции и возникают как естественное продолжение основного тела китайской цивилизации. Это ярко проявляется в национальном единстве, политических ценностях, политических институтах, социальных формах и внешних связях страны. Последние две темы не рассматриваются в этой статье, так как они не имеют отношения к теме [1].
Национальное единство. Система цивилизации является составной частью носи- теля цивилизации, т.е. ядра страны. Без поддержки основной страны цивилизация просто вымрет, как это произошло с множеством древних цивилизаций в истории. Иными словами, судьба генетической общности китайской цивилизации зависит от страны Китая, культурнообразовательной традиции. Как единое целое Китай должен быть исторически единым. История и размышления о единстве Китая предоставили ценный опыт и ключевую модель мира во всем мире. Как предполагают Дайсаку Икэда и Тойнби: «Что касается китайцев, то на протяжении тысячелетий они были более успешными, чем любая другая нация в мире, объединяя сотни миллионов людей в политическом и культурном плане. Их умение объединяться политически и культурно оказалось беспрецедентным опытом. Такое единство является безусловным требованием современного мира. Единство мира - это способ избежать коллективного самоубийства человечества. В этом отношении, наиболее подготовленной нацией среди всех наций является китайская нация, которая за последние две тысячи лет выработала уникальный образ мышления» (Тойнби и Икеда, 1976). Мировая история свидетельствует о том, что единый контроль порождает мир, а множественный контроль приносит войны и хаос [2].
Широко известно, что после поздней династии Цин национальное единство столкнулось с рядом фундаментальных проблем. Колониальное и полуколониальное государство и политические беспорядки, вызванные бэйянскими военачальниками, разорвали Китай на части. На самом деле считается, что когда император, традиционный государственный организатор, больше не функционировал, военачальники также не могли гарантировать национальное единство. Во время такого мероприятия государству нужен новый организатор. В контексте сравнительной политики известны примеры Соединенного Королевства и Соединенных Штатов, организованных торговыми группами, а также Германии и Японии, организованных бюрократией. Эти две политические силы отсутствовали в Китае в первой половине
ХХ века. Именно поэтому политические партии стали организатором страны. Однако из-за продолжения политики военачальников, Гоминьдан не мог быть организатором страны из-за ее внутренней раздробленности. Таким образом, эта историческая задача легла на плечи Коммунистической партии Китая (КПК). КПК выполнила свою миссию и выполнила великую задачу государственного строительства и единства на материке через свою вооруженную группу с особыми политическими идеалами. По сравнению с раннеразвитыми национальными государствами (одна нация на одно государство) поздноразви-вающиеся страны, такие как Китай, представляют собой полиэтнические сообщества, перед которыми стоит более сложная задача организации государства и еще большая потребность в способности к организации, или управлять государством. Без КПК не было бы КНР; без КПК идея единого Китая была бы невозможна. С этой точки зрения самая большая проблема, с которой сталкивается Китай в двадцать первом веке, заключается в том, как сохранить национальное единство. Судьба партии определяет и судьбу страны, или судьба страны связана с судьбой партии. Таково теоретическое содержание государства в «системе руководства партией и государством» [3].
По существу, процесс создания КПК КНР имеет два теоретических смысла. Одним из них является партийный центризм в контексте социальных наук: путь, избранный Великобританией и США, породил обществоцентризм, путь, избранный Германией и Японией, породил государственно центризм, а путь, избранный Китаем, естественным образом породил партийный центризм (Ян, 2011). Другое значение - в смысле традиционной китайской политической мысли: «система руководства партией и государством», предполагающая, что КПК стала наследницей ортодоксальности национального единства. В своем политическом докладе «На новой сцене на шестом пленуме ЦК партии шестого созыва Мао Цзэдун сказал: «Сегодняшний Китай - это развитие исторического Китая. Мы - марксисты-истористы, и мы не должны отсекать историю. От Конфуция до Сунь Ятсена мы должны обобщить и унаследовать драгоценное наследие» (Мао, 1991). Вот почему генеральный секретарь Си Цзиньпин придает большое значение традиционной китайской культуре. Он посетил Научноисследовательский институт Конфуция в Китае, выступил на Всемирной конфуцианской конференции и неоднократно говорил о значении традиционной культуры. Господин Си рассматривает Китай как континуум 5000-летней истории цивилизации и 170-летней современной истории [4].
Политические ценности. Страна основана на определенных политических ценностях, которые также называют «фундаментальными ценностями страны». Для Китая его фундаментальными ценностями являются основные социалистические ценности, которые включают принципы ценностей на национальном, социальном и индивидуальном уровнях. Основные социалистические ценности чрезвычайно всеобъемлющи и включают в себя не только последовательные марксистские ценности, которых придерживается КПК, но и некоторые элементы традиционной китайской культуры, а также выдающиеся достижения человеческой цивилизации. Они изображают всеохватность китайской культуры, как и слияние конфуцианства, буддизма и даосизма в истории, и подразумевают, что локализация марксизма должна быть процессом интеграции китайской культуры с выдающимися достижениями человеческой цивилизации. Причина, по которой марксизм смог быстро укорениться в Китае, заключается в приспособляемости социализма и традиционной китайской политической мысли, особенно мысли, ориентированной на людей. Социализм ориентируется на «общество», которое, по существу, связано с людьми; и мышление, ориентированное на людей, как следует из названия, также сосредоточено вокруг людей. И социализм, и традиционная китайская политическая мысль, по существу, опираются на людей и массы.
Фактически, теоретики в Китае и за границей уже давно рассматривают тради- ционные политические формы Китая с точки зрения социализма. Если либеральная экономика зародилась в Китае, как кто-то утверждает, что «даосы были первыми либертарианцами в мире» (Rothbard, 2006), то социализм, похоже, имеет долгую историю и в Китае. Самый ранний социализм можно найти в книге «Гуань Цзы: интерпретация ситуации», в которой Гуань Чжун защищает мышление, ориентированное на людей, справедливость и бескорыстие в управлении состоянием Ци. «Когда реализуются высшие политические идеалы, государство существует для народа» - народное изречение тысячелетней давности также можно рассматривать как самую раннюю простую социалистическую мысль [5]. Исследователи в Китае и за рубежом считают, что социалистическая политика позволила династии Хань императора У достичь своего расцвета. Доктор Чэнь Хуаньчжан, окончивший Колумбийский университет под руководством Кан Ювэя, ведущей фигуры в самом раннем и наиболее систематическом исследовании социализма с современности, утверждает, что Сан Хунъян «позволил императору У из династии Хань расширить китайскую империю без финансовых ограничений. Его вклад в страну в целом огромен и ве-чен.2009). Уилл Дюран, автор книги «История цивилизации», считает, что именно социализм сделал Китай процветающим. Чтобы решить все более серьезные проблемы, касающиеся средств к существованию людей и экономики, император У провел экономические реформы. «У-ди (император У) экспериментировал с социализмом, устанавливая национальную собственность на природные ресурсы, чтобы помешать частным лицам «зарезервировать для своего единственного использования богатства гор и моря, чтобы нажить состояние, и поставить низшие классы в в подчинение себе». Производство соли и железа, а также производство и продажа ферментированных напитков были превращены в государственные монополии… Были предприняты большие общественные работы, чтобы обеспечить работой миллионы людей, которых не смогла содержать частная промышленность…; ка- кое-то время новая система процветала... Китай никогда раньше не процветал так сильно» (Durant 1963) [6].
Сунь Ятсен, предтеча китайской революции, считал себя социалистом и своей целью считал осуществление социализма в Китае. Как говорит Господин Сунь, «Китай является твердым сторонником социализма… Это показывает, что идея социализма запечатлелась в сознании нашего народа. Вполне уместно, чтобы социализм развивался так быстро, как только может». (Sun 2011): «Я действительно приветствую социализм, потому что он приносит пользу стране и народу, содержит правду об обществе, передает все произведенное в общественную собственность и пожинает плоды. В тот день, когда социализм будет реализован, наши дети получат доступ к образованию, о стариках позаботятся, и каждая отрасль будет работать отдельно и бесперебойно. Китайская Республика будет социалистической страной» (вс 2011 г.). В то же время Господин Сунь признал и предупредил, что «если мы не подумаем, как предотвратить возможный рост капитализма в ближайшем будущем с первого дня Китайской Республики, то нас ждет новая тирания, которая в сто раз свирепее тирании династии Цин» (Sun 2011). Как и Господин Сунь, первые члены КПК и ученые в Китайской Республике также считали, что Китай имеет врожденное чувство социализма и что капитализм - это жестокий подход.
Господин Сунь и другие первооткрыватели признали, что в мире есть два «левиафана» - один национальный или политический левиафан, а другой - столичный левиафан, и вред, причиняемый последним, ничуть не меньше, чем первый. Это мир, который постиг Господин Сунь, и это также истина капиталистической политики в современном мире. Таким образом, непоколебимое следование социалистическому пути и основным социалистическим ценностям стало огромным испытанием для Китая, который все еще находится в капиталистической экономической системе и китайской модели. Если бы Китай, как и другие развивающиеся страны, интегрировался в капиталистическую эконо- мическую систему и стал ее частью, его судьба никогда не была бы лучше, чем у других развивающихся стран [7].
Политические институты. Если политические ценности, считающиеся фундаментальными ценностями страны, связаны с направлением страны и ментальным состоянием нации, то политические институты, воплощающие политические ценности, становятся организационными принципами и структурами в системе политических ценностей, которые осуществляются посредством организации страны. Широко известные «Четыре великих изобретения» связаны с технологиями или приборами. Величайшим изобретением Китая должно стать самое раннее создание бюрократической или административной системы, объединяющей человечество. Жители Запада считают появление национальных государств и бюрократию по организации национальных государств в пятнадцатом-семнадцатом веках главным признаком «современности». С этой точки зрения государства, политика и администрация доциньского периода были по своей сути современными. У них не только была бюрократия и система префектуры-графства, на основе которых было организовано государство, но и внедренные системы были основаны на производительности, а не на родстве. По Веберу, военные и бюрократия составляют основу европейских феодальных стран (Вебер1921/1978), в то время как страны в истории Китая в основном функционировали на основе своих культурных и образовательных традиций, а также бюрократии, выступающей носителем этих традиций. Ценности и институты были в высшей степени унифицированы, что можно объяснить традициями ученых -чиновников страны [1].
В настоящее время организационным принципом системы руководства партией и государством считается демократический централизм. «Демократия» относится к правам масс, и это новая система, введенная КПК в революцию. Институциональные системы, созданные в соответствии с принципом демократического централизма, такие как система контроля и надзора за дисциплиной или система орга- низации и кадров в системе руководства партии и государства, восходят к «Шести министерствам» в древнем Китае. Как показал ученый, «Организационный отдел и Дисциплинарный комитет отсутствуют в западной политической системе, но они имеют решающее значение для политической системы Китая, поскольку эти два органа занимаются продвижением и надзором за чиновниками соответственно. Они также происходят из глубоких исторических и культурных традиций Китая, наследуя и трансформируя Министерство по делам официальных лиц и систему надзорной цензуры в феодальном Китае».
Что еще более важно, административная система Китая кажется безличной, иерархической и ориентированной на производительность, что является основными организационными чертами, определенными в теории бюрократии Макса Вебера. Ценности также глубоко интегрированы с ним. Как партийные, так и административные организации рассматривают реализацию основных социалистических ценностей как неотъемлемую часть административной работы и административных процедур. Например, правительства всех уровней обязаны искоренить бедность и гарантировать социальную справедливость; а верховенство закона и демократические процедуры должны быть прозрачными, что должно отражаться во всех методах принятия решений. В этом причина широко признанной «административной демократии» Китая. Ценности, которые интериоризированы в институтах, разрешить различные административные институциональные реформы и продвижение реформ и открытость по всем направлениям, даже после 40 лет реформ. Как следует понимать это своеобразное явление в истории политики человечества? Ответ кроется в эндогенной основе китайской официально-ученой традиции, которая следует философии управления, ориентированной на людей [8].
Ценность институтов не только отражена в самих институтах, но и заложена в институциональной матрице. В партийных школах всех уровней чиновникам преподают не только знания о том, как вести се- бя в ситуации, но и как на нее смотреть. Это вклад мировоззрения и эпистемологии. В этих двух смыслах для китайских чиновников ценность имеет более высокий приоритет, чем ответственность, и часто касается политического порядка, особенно мирового порядка. Это демонстрирует фактическое значение организационной и институциональной системы страны, а также формулирует политическую систему Китая, как не только организационную, но и прагматичную и ценную, чтобы идти в ногу со временем.
Короче говоря, глядя на атрибуты национального единства, политические ценности и политические институты, люди, вероятно, признают, что политическое развитие современного Китая является естественным продолжением генетической общности китайской цивилизации. Однако жизнеспособность и легитимность политического пути и политических институтов Китая проистекают не только из его исторических и цивилизационных генов, но и из институциональных инноваций, соответствующих национальным условиям и ситуациям реального времени. Мы знаем, что в традиционной китайской политике есть две самые большие проблемы. Один касается степени организации, т. е. потенциала национального управления, а другой касается недопредставленности. Самой уникальной чертой политического развития современного Китая является способность национального управления, гарантированная принципом демократического централизма. В конце династии Цин самой большой проблемой, с которой столкнулся Китай, была способность интегрировать институты, и его плохие результаты в этом делали его уязвимым для иностранных держав. Принцип демократического централизма направлен на координацию между департаментами, центральными и местными органами власти и самими местными органами власти, тем самым максимально увеличивая потенциал национального управления. Конкуренция между крупными державами сегодня в основном касается институтов, и институциональная конкурентоспособность отражается в возможностях управления, которые включают в себя возможности интеграции институтов, формулирования политики и ее реализации. В этом смысле,
Кроме того, фундаментальная система современного Китая является репрезентативной и консультативной. До 1949 года ключевой проблемой китайской политики было недостаточное представительство. Система народных собраний обеспечивает представительство местных органов власти и этнических групп, система политических консультаций обеспечивает представительство различных секторов и отраслей, а «две сессии» касаются системы тяо-куай (филиал и единое целое). Что касается участия и обсуждения государственных и политических вопросов, консультативная демократия встроена во весь процесс. Консультативная демократия принадлежит не только системе политических консультаций; это также часть системы народных собраний.
Институциональный потенциал, репрезентативность и консультации, проявленные в политическом развитии современного Китая, составляют превосходство и конкурентное преимущество политической системы Китая. Политическая наука должна проводить всесторонние сравнительные исследования в этом отношении, поскольку она более ценна в сравнительных политических исследованиях.
Преемственность и единство политического развития Китая до и после реформ и открытости. При рассмотрении преемственности современного Китая как цивилизованной генетической общности в его многолетней истории преемственность и единство 70-летней КНР представляются более явными и самоочевидными. Преемственность и единство существовали в истории до и после реформы и открытости: пореформенный период не есть отрицание дореформенного периода и наоборот. В исторической политической науке история до и после реформ и открытости находится на непрерывном пути. Институциональные мероприятия, осуществленные в дореформенный период, определяют основной путь и направление институциональных изменений в пореформенный период, которые, в свою очередь, укрепляют инсти- туциональную структуру и базовую систему, сложившуюся за 30 лет до реформ и открытости.
Стабильность конституционного строя. Работа Мао Цзэдуна «О народнодемократической диктатуре» и основанная на ней Конституция 1954 г. в корне устанавливают конституционный строй КНР. Рассматриваемая как возвращение к Конституции 1954 года, действующая Конституция 1982 года пять раз пересматривалась, чтобы улучшить или усилить основные положения Конституции 1954 года. В конституционной системе Китая есть два ключевых момента. Одно - природа государства, а другое - организационный принцип режима. Независимо от того, как изменится Китай, они гарантируют, что он попадет в установленное политическое направление и институциональную матрицу [4].
О природе государства, т.е. государственного строя в политической науке, статья 1 Конституции 1954 г. гласит, что «Китайская Народная Республика есть народно-демократическая страна, руководимая рабочим классом и основанная на союзе рабочих и крестьян». В действующей Конституции первый пункт статьи 1 гласит, что «Китайская Народная Республика является социалистическим государством, находящимся в условиях народнодемократической диктатуры, возглавляемой рабочим классом и основанной на союзе рабочих и крестьян»; следующий абзац гласит, что «социалистический строй является основным строем Китайской Народной Республики. Руководство Коммунистической партии Китая является определяющей чертой социализма с китайской спецификой. Подрыв социалистического строя какой-либо организацией или отдельным лицом запрещается». Заметно, Сохранив положения о природе государства, действующая Конституция, основанная на Конституции 1982 г., добавила положения о способах защиты государственного строя, то есть реализации государственного строя народнодемократической диктатуры через руководство КПК и социалистической система. Затем возникает вопрос о том, как осуще- ствить социалистическую систему, а это вопрос политической системы [3].
По организационному принципу режима пункт первый статьи 2 Конституции 1954 г. гласит, что «Вся власть в Китайской Народной Республике принадлежит народу. Всекитайское собрание народных представителей и местные собрания народных представителей различных уровней являются органами, через которые народ осуществляет государственную власть»; второй абзац статьи 2 предусматривает, что «Всекитайское собрание народных представителей, местные собрания народных представителей всех уровней и другие государственные органы должны применять демократический централизм». Другими словами, организационный принцип демократического централизма принимается при создании Собрания народных представителей и установлении отношений между Собранием народных представителей и правительством, а также отношений между центральным и местными органами власти. Первый абзац статьи 3 действующей Конституции, который основан на Конституции 1982 года, предусматривает, что «Государственные органы Китайской Народной Республики применяют принцип демократического централизма». Второй, третий и четвертый абзацы статьи 3 предусматривают, как применять принцип демократического централизма. «Всекитайское собрание народных представителей и местные собрания народных представителей различных уровней формируются на основе демократических выборов. Они ответственны перед народом и подчиняются его надзору». «Все административные, надзорные, судебные и прокурорские органы государства создаются собраниями народных представителей, перед которыми они подотчетны и которыми они контролируются [2].
Государственный строй и политический строй составляют широту и долготу конституционного строя. От Конституции 1954 г. до действующей Конституции абстрактное выражение «государство-управление» стало более конкретным, что обеспечило преемственность политическо- го развития Китая после реформ и открытости. Во временном смысле это следует отнести к «четырем кардинальным принципам», предложенным Дэн Сяопином в 1979 году. Как понимает Господин Дэн, реформы и открытость неизбежны, но существует неопределенность в отношении того, как реформировать, а затем открыть. вверх, и перейти реку можно, только ощупывая камни; однако несомненно, что реформа и открытость могут осуществляться только в установленных конституционных рамках, т.е. в соответствии с «четырьмя основными принципами». Это означает, что пока дозволенные вещи не совсем известны, запреты ясны. Таким образом, нужно придумывать новые идеи, сохраняя при этом практический результат.
Социальная основа рыночной экономики. В условиях стабильной конституционной структуры многие политики или институциональные механизмы заложили основу 30 лет назад, до начала реформ и открытости. Достижения, достигнутые Китаем после реформ и открытости, ни в коем случае не лишены корней и не являются какой-то случайной магией, созданной рынком. Следует отметить, что некоторые развивающиеся страны, такие как Индия, более ориентированы на рынок, чем Китай, но они гораздо менее способны к государственному управлению. Амартия Сен, которого называют «экономической совестью», обладает глубочайшим пониманием в этом отношении. В своем сравнительном исследовании Индии и Китая он указывает, что «волшебство» китайского рынка опирается на прочный фундамент социальных изменений, произошедших ранее, и Индия не может просто надеяться на это волшебство,1995). Но это также больше, чем просто эти области. Как известно, КНР удалось в очень короткий срок создать современную индустриальную систему в отсталой аграрной стране. Этот процесс влечет за собой наиболее важные предпосылки для развития обрабатывающей промышленности и формирования производственной мощности после реформы и открытости. Кроме того, социально-экономическая политика, принятая за 30 лет до реформ и открытости в таких областях, как земля и сельское хозяйство, образование, освобождение женщин и здравоохранение, способствовала последующей инициативе [7].
-
1. Земельная система и аграрная политика. После реформы и открытости развитие сельского хозяйства Китая и быстрая модернизация, основанная на коллективной собственности на землю, были напрямую связаны с реформой земельной системы. Амартия Сен считает, что по сравнению с Индией причина жизнеспособности контрактной системы в сельских районах Китая заключается в том, что не было «социальных проблем и экономической неэффективности крайне неравного владения землей» (Сен и Дрез, 1995 г.). Открытие земли вызвало множество социальных конфликтов в процессе урбанизации, и если бы Китай принял наследственную земельную систему, как это сделали некоторые развивающиеся страны, было бы невозможно осуществить модернизацию Китая такими темпами, которые он видел. Поэтому реформа земельной системы, подвергавшаяся критике со стороны таких теорий, как новая институциональная экономика, как раз и является инструментальной предпосылкой модернизации развивающихся стран. Подобный успешный опыт имеется в Южной Корее и на Тайване. Большинство авторитетных международных исследований показали, что земельная реформа является важным фактором общего экономического развития Восточной Азии. Однако одной земельной реформы в сельском хозяйстве недостаточно. Без проектов по охране водных ресурсов за 30 лет до реформы и открытия, а также без тысяч водохранилищ было бы невозможно решить проблемы сельского хозяйства, зависящие от естественных урожаев. Это то, на что не способны другие развивающиеся страны, и это эффективно обеспечивало урожай зерновых в Китае в последние десятилетия [8].
-
2. Образование и освобождение женщин. Внедрив обязательное образование для всех, КНР значительно повысила качество и грамотность населения. В то же время страна способствовала женскому освободительному движению, чтобы обес-
печить равенство между мужчинами и женщинами, а девочки имели такой же доступ к образованию, как и мальчики. Согласно данным переписи, уровень грамотности в возрастной группе 15-19 лет в 1982 г. достигал 96% у мужчин и 85% у женщин по сравнению с 66% и 43% в Индии за тот же период соответственно (Сен и Дрез 1995). Без этих усилий не было бы качественной рабочей силы после реформ и открытости, не было бы лучших трудящихся женщин-мигрантов, известных как «работающие женщины». Высококачественная рабочая сила гарантирует рабочую силу, которая требуется в крупной стране-производителе. «Население» не обязательно гарантирует «рабочую силу», это образование и освобождение женщин, которые являются решением для превращения населения в рабочую силу для различных заводов [6].
-
3. Здравоохранение. «Босоногие врачи» (медицинские работники, получающие базовую медицинскую подготовку и работающие в сельских деревнях Китая) и фактическая всеобщая бесплатная медицинская помощь являются основными элементами фундаментальной гарантии наиболее успешного комплексного здравоохранения Китая. Как мы измеряем успех? В 1960 г. в Китае было 150 смертей на 1000 новорожденных, что, безусловно, ниже, чем в Индии (165); к 1981 г. их число сократилось до 37, как и в Южной Корее, тогда как в Индии их было 110. Ожидаемая продолжительность жизни китайцев 1960 г. рождения составляла 47,1 года, а в 1981 г. Корея 66 и приблизилась к значению развитых стран (Sen and Drèze 1995). Достижения Китая в области здравоохранения привлекли внимание всего мира и стали образцом для развивающихся стран. Это означает, что уровень здоровья не обязательно пропорционален уровню экономики. Ключевым моментом является то, насколько правительство заботится о людях и насколько эффективна социальная политика. В то время как, с одной стороны, бесплатное обязательное образование и освобождение женщин обеспечивали высококачественную рабочую силу; с другой стороны, здравоохранение с участием
«босоногих врачей» гарантировало здоровую рабочую силу для последующих реформ и открытости.
Очевидно, что выдающиеся достижения, достигнутые Китаем после реформ и открытости, являются результатом политических изменений, но социальное развитие, осуществленное Китаем до реформ, заложило основу для рыночной экономики. Таким образом, Амартия Сен утверждает, что по сравнению с Индией «восьмидесятые годы продолжили этот прогресс и укрепили лидерство Китая, но относительное положение было окончательно установлено до китайских реформ» (Sen and Dreze 1995) [1]. «Мы утверждаем, в частности, что достижения в области образования, здравоохранения, земельной реформы и социальных преобразований в дореформенный период внесли существенный положительный вклад в достижения пореформенного периода. Это касается их роли не только в поддержании высокой продолжительности жизни и связанных с этим достижений, но и в обеспечении твердой поддержки экономического роста на основе рыночных реформ» (Сен и Дрез, 1995 г.). Суждение Амартьи Сена особенно поучительно, и он также затрагивает вопрос преемственности до и после реформы в Китае. По степени рыночности Китай не выше Индии и других развивающихся стран, но как ему удалось добиться такого превосходства в управлении? Рыночная экономика не создается на лету. Он включает в себя государственную систему и государственные функции на верхнем уровне и социальную структуру на нижнем уровне. Функция рынка может играть роль только в условиях ограничений как со стороны правительства, так и со стороны социальных структур. Ограниченные своими знаниями и видением, люди используются для отстаивания перспектив страны на основе своих рыночных стандартов, что лишь указывает на то, насколько они невежественны и высокомерны с эпистемологической точки зрения [5].
Институциональные инновации продолжаются и укрепляют конституционную структуру. Реформа Китая, основанная на рыночной экономике, проводится в рамках статичной конституционной структуры. Социальная политика до реформы давала решающие преимущества для реформ и открытости; а институциональные изменения после реформы и открытости, в свою очередь, укрепили установленную конституционную структуру, разработав более конкурентоспособную институциональную систему в Китае. В частности, отношения власти, сформированные институциональными нововведениями, сосредоточенными вокруг фундаментальной политической системы, такие как отношения между центром и местными властями, государством и обществом и правительством и рынком, обладают характером демократического централизма. В результате режим демократического централизма оказывается непрерывным и укрепившимся, а народно-демократический государственный строй упрочился.
Реформа Китая началась с децентрализации полномочий, включая административную децентрализацию (т.е. делегирование полномочий), экономическую децентрализацию (т.е. изменение прав собственности) и фискальную децентрализацию (т.е. распределительная система). Децентрализация окончательно сформировала новые отношения между центральным и местными органами власти, которые получили название экономического федерализма. Центральные и местные органы власти разделили экономическую власть, а местные органы власти получили большую автономию в экономике и управлении. В то же время сохранялось традиционное политическое единство, при котором центральное правительство сохраняло за собой абсолютное руководство политическими делами на местах, особенно кадровыми, объединила централизацию и децентрализацию. В то же время они поддерживали конституционный принцип центрального правительства как основного источника власти и активно высвобождали жизненную силу местных органов власти, следовательно, существует типичный принцип демократического централизма в отношениях между центральными и мест- ными органами власти, как это предусмотрено по конституции (Ян, 2018) [4].
В процессе децентрализации изменения экономической модели вызвали трансформацию социальной структуры, что неизбежно порождало новые социальные организации. Новым конфликтом и фокусом стал способ решения отношений между государством и обществом. По большому счету, за последние несколько десятилетий Китай ввел жесткий контроль над политическими, этническими, юридическими и религиозными организациями, поскольку именно с этих типов общественных организаций начались «цветные революции» во многих странах после «холодной войны»; и он предоставил де-факто свободу культурным, экономическим и экологическим общественным организациям через систему регистрации и позволил им быть автономными. Автономия также включена в организации автономных сообществ, такие как сельские комитеты и районные комитеты на начальном уровне [7].
И децентрализация, и рыночная экономическая реформа также коренным образом изменили интегрированные политикоэкономические отношения в рамках плановой экономической системы. Тем не менее, несколько институциональных механизмов в контейнере государственной власти по-прежнему играли важную роль, приводя к политико-экономическим отношениям так называемого «государства развития». В таком состоянии развития китайская промышленная политика, такая как пятилетний план и десятилетний план, отражает национальную волю, национальное направление и способность страны к институциональной интеграции. Это единственный способ для поздно развивающихся стран найти свое место среди развитых. В то же время рыночная экономика культивирует автономию интересов акторов, 2008). Таким образом, и государство, и рынок играют жизненно важную роль, что можно рассматривать как конкретное воплощение демократического централизма в отношениях между государством и рынком (Yang, 2018).
Отношения власти в различных ключевых измерениях, вытекающие из стабиль- ной конституционной структуры, неотделимы от организационных принципов демократического централизма. Поэтому демократический централизм как политическая система лежит в основе китайской модели и является фундаментальной гарантией возможностей управления страной (Ян и Цяо, 2015). Другими словами, это великая причина возрождения, поскольку реформа и открытость произошли в рамках конституционной структуры в Китае в 1954 году и привели к продолжению и укреплению установленной конституционной структуры.
Конституционная структура Китая может вместить две различные экономические формы: плановую экономику и социалистическую рыночную экономику. Это заставляет задуматься: какова связь между политикой и экономикой? Можно ли рассматривать политическое развитие современного Китая в измерении политикоэкономических отношений? Почему Конституция США, созданная в эпоху рабовладельческого хозяйства, способна приспособить различные экономические системы - от сельскохозяйственного капитализма до промышленного капитализма и финансового капитализма? Что касается факторов, влияющих на политику, то первый из них - экономический, что проявляется во взаимодействии между политическими субъектами, инициируемом выбором интересов людей; за экономикой стоят факторы социальных отношений и социальной структуры; а за социальной структурой стоит фактор генов исторической цивилизации. Следовательно, чтобы понять политику, необходимо учитывать влияние глубоко укоренившихся цивилизационных генов, а также экономические и социальные последствия. Фактически переменные анализа, порожденные этими взаимными влияниями, затруднили нам проведение различия между политическим и социально-экономическим. Кроме того, в какой степени политическая власть как сумма и результат взаимодействия экономической, культурной и военной мощи может оставаться стабильной и устойчивой после того, как она создана? Единичный или простой фактор никогда не смо- жет должным образом ответить на этот вопрос. На него можно ответить только путем углубленного исторического исследования, включающего различные тематические исследования. Наверное, такую миссию можно было бы возложить на историческую политологию [6].
Взаимное значение исторической политологии и политического развития современного Китая. Будучи значительной страной с точки зрения своей истории и размера, Китай не должен просто служить полигоном для проверки иностранных теорий. Он должен разработать свою собственную теорию и создать автономную китайскую систему социальных наук. Для достижения этой цели необходимо сначала совершить прорыв в методах и подходах исследования, за которым могут последовать новые концепции, новые категории и свежие выражения. Историческая политическая наука – это концепция и подход, адаптированные для китайских политических исследований.
Значение исторической политологии для китайских политических исследований. Китайская политика представляет собой целостное понятие. В структурном смысле он должен как минимум включать:
-
1) как возник Китай – это повестка дня государственного строительства;
-
2) как устроен Китай – это политическая повестка дня;
-
3) как работает Китай – это повестка дня политического процесса.
«История» – обязательный элемент и перспектива во всех трех отношениях. Другими словами, каждая повестка дня связана с историческим вопросом, а вопросы могут быть поняты только через историческую перспективу. На уровне государственного строительства современный Китай фактически является продолжением генной общности китайской цивилизации; на уровне государства ключевые элементы политической системы Китая, такие как организационный отдел и система надзора, являются новым выражением исторической преемственности.
Изменения, произошедшие за 73 года с момента образования КНР, являются внутренними институциональными изменени- ями, которые подкрепляются друг другом. Даже политический процесс Китая, такой как законодательный процесс и процесс принятия решений на разных уровнях, является историческим в отношении каждой части и микромеханизма. Например, историческая преемственность поддерживается в отношениях через зависимость от подхода. Во внешних отношениях от пяти принципов «мирного сосуществования» во времена Мао Цзэдуна до «мира и развития», «мирного подъема» и «сообщества с общим будущим для человечества» после реформ и открытости сущность китайской культуры – «гармония» и «мировоззрение» – усваивается повсеместно [8].
Идея мирного развития звучит и на XX-м Всекитайском съезде КПК. Съезд отмечает, что китайская модернизация – это социалистическая модернизация, осуществляемая под руководством КПК. Она обладает как общей характеристикой модернизации различных стран мира, так и китайской спецификой, базирующейся на собственных национальных реалиях. Китайская модернизация охватывает огромную численность населения. Она предполагает достижение всеобщей зажиточности народа страны, согласованное развитие материальной и духовной культуры, гармоничное сосуществование человека и природы, а также следование по пути мирного развития [9]. Был предложен общий стратегический план по полному построению модернизированной социалистической державы, который состоит из двух этапов, а именно: с 2020 года по 2035 год в основном осуществить социалистическую модернизацию; с 2035 года до середины нынешнего века превратить Китай в богатую и могущественную, демократическую и цивилизованную, гармоничную и прекрасную модернизированную социалистическую державу. Предстоящее пятилетие является ключевым периодом, который положит начало всестороннему строительству модернизированного социалистического государства. На этом пути вперед необходимо строго соблюдать нижеследующие важные принципы: отстаивать и усиливать всестороннее руководство со стороны КПК; неуклонно идти по пути со- циализма с китайской спецификой; твердо следовать концепции развития, в которой народ занимает центральное место; продолжать углублять реформы и расширять открытость; продолжать развивать дух борьбы [9].
Таким образом, актуализируется вопрос, а какова человеческая природа у «китайцев»? Ясно, что нельзя просто анализировать политическое поведение китайцев, исходя из представления о разумном человеке в индивидуалистической культуре. Рациональный человек в индивидуалистической культуре не равнозначен человеку этикоцентричной древности, «человеку разных классов» или китайцам, которых до сих пор невозможно охарактеризовать. Китайская рациональность должна быть продуктом культуры коллективизма. Известный британский политолог Файнер говорит: «Это (китайское) государство полностью чуждо всему западному, начиная с греческого. Действительно, антитеза. Это государственное устройство, преобладающие системы верований и социальная структура стали поддерживать друг друга, как никогда со времен расцвета месопотамской и египетской эпох, и решительно как никогда на Западе. отсюда стабильность и долговечность китайской социальной и политической системы и неугомонность и пассивность Запада. Там, где последние опирались на свободно действующих и лично ответственных лиц, Китай опирался на коллективы, где все несли ответственность за проступки друг друга» [7]. Западная традиция воплощала в себе понятие равенства людей перед законом и перед Богом, тогда как китайское государство исходило из прямо противоположной точки зрения на иерархические отношения, но в политической системе Китая присутствовало «органическое общество, где все эти неравные были вынуждены объединиться в гармоничное целое». Западная традиция воплощала в себе понятие равенства людей перед законом и перед Богом, тогда как китайское государство исходило из прямо противоположной точки зрения на иерархические отношения, но в политической системе Китая присутствовало «органическое общество, где все эти неравные были вынуждены объединиться в гармоничное целое». Западная традиция воплощала в себе понятие равенства людей перед законом и перед Богом, тогда как китайское государство исходило из прямо противоположной точки зрения на иерархические отношения, но в политической системе Китая присутствовало «органическое общество, где все эти неравные были вынуждены объединиться в гармоничное целое» (Файне, 1999). Ведь в таком иерархическом обществе «государство» и «семья» всегда были интегрированы в систему. Как говорит Господин Ли Цзэхоу, в отличие от западной индивидуалистической культуры, китайская культура представляет собой «реляционализм», основанный на этике, соблюдаемой в семьях, а государство – это расширенная версия семьи. Поэтому, как заявляют американские профессора китайской философии Дэвид Холл и Роджер Эймс, «в западной традиции важное место занимают независимые личности. Было бы бесполезно находить такие господствующие идеи, которые поддерживают западные интеллектуалы, в рамках китайской традиции. Что еще более важно, ценности, модели поведения и системы, выражающие эти идеологические компоненты, также не существуют в китайской традиции» (Hall and Ames, 1999). Они также определяют, что «политика и экономика являются выражениями культуры, и их эффективность должна оцениваться вместе с другими культурными ценностями. В частности, мы считаем, что либеральная, индивидуалистическая и основанная на правах демократия, а также капитализм свободного предпринимательства являются конкретными продуктами исторического развития западной современности. Поэтому любая попытка сделать эти вещи универсальными в разных культурах может быть глупой». «Очевидным следствием этого является то, что перемещение всех этих вещей, которые работают в Китае, резко изменит идентичность Китая и, по сути, превратит все китайское общество в терминал иностранных исторических нарративов».
Американские ученые правы в том, что современность означает больше сходства и даже сходства между политическими формами, такими как партийная политика и парламентская политика. Но почему одинаковые институциональные структуры дают разные результаты? Фактор социальной структуры должен быть решающим. Различия в человеческой природе и поведении людей в различных социальных структурах приводят к разным результатам в одной и той же системе. Это само по себе является провалом «политической науки», основанной на гипотезе рационального человека, и альтернативной парадигмой интерпретации должна быть историческая политология. Другими словами, историческая политическая наука является не только структурной, но и поведенческой. Он анализирует ценностную ориентацию людей и расчет интересов и твердо верит в незаменимую объяснительную силу социальной структуры [2].
Все это потому, что историческая политическая наука носит не только гносеологический и методологический, но и прежде всего онтологический характер. Историческая политическая наука составляет неотъемлемую часть китайского развития. Вот почему мы говорим, что она имеет явную ценность и даже адаптирована для китайских политических исследований. Но это не означает, что историческая политическая наука может быть использована только для китайских политических исследований. На мой взгляд, там, где есть цивилизационное тело, такое как христианская цивилизация или исламская цивилизация, историческая политология может быть применена для оценки политического развития где угодно. Соответственно, поскольку Китай – единственная существенная цивилизация в мире, которая не прерывалась более тысячи лет, его «история» представляется более онтологической по своей природе.
Список литературы Теоретические аспекты основных направлений современной политики КНР
- Ли Гоу. План обогащения государства. Пер. с кит. З.Г. Лапина / Учение об управлении государством в средневековом Китае. - М., 1985. - 384 с.
- Виноградов А.В. Китайская модель модернизации: Поиски новой идентичности. М.: НОФМО, 2008. 364 с.
- Вэнь Цзянь, Горобец, Л.А. Даосизм в современном Китае. - СПб.: Петербургское Востоковедение, 2019. - 158 с.
- Хорос В.Г. Авторитаризм и демократия в развивающихся странах. - М.: Наука, 1996. - 336 с.
- Модернизация и демократизация в странах БРИКС. Сравнительный Анализ // Под ред. И.М. Бусыгиной, И.Ю. Окуневой. - М.: "Аспект Пресс", 2019. - 352 с.
- Галенович Ю.М. Чжао Цзыян и реформы в Китае. - М.: "СПСЛ"; "Русская панорама", 2017. - 752 с.
- История Китая с древнейших времен до начала XXI века: В 10 т. / гл. ред. акад. РАН С.Л. Тихвинский; Институт Дальнего Востока РАН. Т. IX: Реформы и модернизация (1976-2019) // отв. ред. А.В. Виноградов. - М.: Наука, 2020. - 996 с.
- Кондрашова Л.И. Китайская мечта о национальном возрождении. - М.: Институт экономики, 2019. - 35 с.
- В Пекине закрылся XX Всекитайский съезд КПК, Си Цзиньпин председательствовал на заключительном заседании съезда и выступил с важной речью. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://saintpetersburg.china-consulate.gov.cn/rus/zgxw/202210/t202214_107.