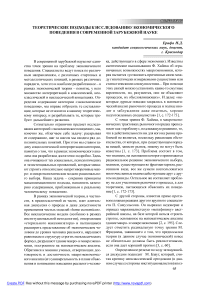Теоретические подходы к исследованию экономического поведения в современной зарубежной науке
Автор: Ерифа Н.Д.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 2, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14932651
IDR: 14932651
Текст статьи Теоретические подходы к исследованию экономического поведения в современной зарубежной науке
В современной зарубежной науке нет единства точек зрения на проблему экономического поведения. Специалисты ведут поиск по различным направлениям, с различных стартовых и методологических позиций, в рамках различных парадигм, хотя это и наиболее разработанное – в рамках экономической теории – понятие, у него множество интерпретаций в классической, неоклассической и неклассической концепциях. Определяя содержание категории «экономическое поведение», мы вправе отбросить те составляющие, которые не относятся к нашему теоретическому интересу, и разрабатывать те, которые требуют дальнейшего развития.
Сознательно ограничив предмет исследования категорией «экономическое поведение», мы, конечно же, облегчаем себе задачу: раскрывая ее содержание, шаг за шагом мы вводим ряд дополнительных понятий. При этом мы ставим задачу социологической интерпретации категории, памятуя о том, что в рамках экономического анализа она разработана достаточно подробно. Здесь она очищена от тех социальных, психологических и экзистенциальных проявлений, которые мешают строить относительно непротиворечивые макро- и микроэкономические модели рационального выбора. Наша задача – сохранив принципы максимизационного подхода, наполнить категорию содержанием, приближенным к реальному человеческому поведению.
В рамках экономической теории, в частности, в предпосылочной ее части, идет длительная дискуссия о природе и даже допустимости применения чистых моделей «homo economicus». Все неклассические модели (особенно в рамках институциональной методологии), отвергающие «стерильного максимизатора» и пытающиеся расширить представление об экономическом человеке до уровня человека реального, нарушают равновесие и структуру строгих неоклассических формул, разрушают здание макро- и микроэкономики, построенное на математическом анализе. Обратимся к мнению ученых, отвергающих достоверность и достаточность макроэкономического анализа (его универсальность в плане объяснения и понимания поведения реального челове- ка, действующего в сфере экономики). Известны скептические высказывания Ф. Хайека об ограниченных возможностях макроэкономики, которая пытается «установить причинные связи между гипотетически измеряемыми сущностями или статистическими совокупностями... При помощи этих связей можно установить какие-то смутные вероятности, но, разумеется, они не объясняют процессов, их обусловливающих». И далее: «некоторые дурные повадки закрались в математический анализ рыночного процесса и подчас вводят в заблуждение даже опытных, хорошо подготовленных специалистов» [1, c. 172-173].
С точки зрения Ф. Хайека, в макроэкономических трактовках рыночного порядка преподносят как «проблему», подлежащую решению, то, что в действительности ни для кого на рынке проблемой не является, поскольку решающие обстоятельства, от которых, при существующем порядке вещей, зависит рынок, никому не могут быть известны [1, c. 173]. Проблема состоит в том, что знанием, на основании которого принимается рациональное решение экономического выбора, знанием, существующем во фрагментарном, рассеянном виде, все же сумели воспользоваться многочисленные взаимодействующие друг с другом индивиды. Остальное же составляет проблему не для участников рыночного процесса, а для теоретиков, пытающихся объяснить их поведение [1, c. 172-173].
С другой стороны, известна прямо противоположная реакция другого крупного специалиста П. Самуэльсона. Он выражал недоверие и отрицал маржиналистскую «метафизику» австрийской школы, на базе которой нельзя строить строгое, основанное на математическом анализе здание макро- и микроэкономики [2, c. 195]. Следует отметить радикальную точку зрения М. Фридмена, заявившего о том, что предпосылки теории (в данном случае экономической) вовсе не обязательно должны быть реалистичными, если она дает хороший прогноз [3, c. 60].
Определенное резюме по ходу затянувшейся дискуссии подводит М. Блауг, который, считая критику неоклассической ортодоксии (в данном случае со стороны институционалистов) впол-65
не обоснованной, все же объявлял ее неконструктивной: «Чтобы победить старую теорию, недостаточно подвергнуть разрушительной критике ее предпосылки или собрать новые факты – надо предложить новую теорию» [4, c. 60].
Из вышесказанного ясно, что предпосы-лочная часть экономического анализа либо находится за пределами экономической науки, либо внутри нее необходимо выделить (как считал И. Шумпетер) наряду с экономической теорией, историей и статистикой специальную (четвертую) область – экономическую социологию. Она призвана решать задачи реального «наполнения» и обоснования экономической теории, развивая ее предпосылочную часть и расширяя основания экономического и, добавим, социологического анализа. Что касается того, кто будет «курировать» экономическую социологию: теоретические экономика или социология, это не суть важно. Главное, что такая область знания существует, признается и обосновывается ее относительно самостоятельный статус.
Очевидно, что эволюция предметной области, находящейся на стыке социологической и экономической науки, пойдет по пути сближения неоклассических, неклассических и других парадигм. Хотя мы сомневаемся, что кто-либо, даже в отдаленной перспективе, сможет поставить окончательную точку.
Прояснение феномена экономического поведения поможет лучше очертить предметную область экономической социологии, где модель «homo economicus», как и в экономической теории, занимает ведущее место. В связи с этим хотелось бы остановиться на одном важном аспекте, который до сих пор выпадал из поля зрения социологов. Речь идет о том, что внутри различных разделов экономической теории, у авторов, придерживающихся различных методологий, появляется множество вкраплений и фрагментов, описывающих разнообразные модели и алгоритмы экономического поведения, а также анализ ситуаций, в которых они реализуются.
Приведем ряд примеров, иллюстрирующих возможности применения социологического анализа при интерпретации конкретных моделей экономического поведения, которые конструируются в рамках экономических теорий. В данном случае мы говорим об их социологической инверсии, т.е. переводе категориально-понятийных и смысловых структур экономических абстракций на социологический язык, более близкий (а потому более многозначный) миру реального челове-66
ческого поведения. Добавим, что модели подобраны достаточно случайно и не имеют друг к другу прямого отношения. Единственное, что их связывает – желание автора продемонстрировать многообразие ситуаций и конкретных условий, в которых действуют экономические субъекты, а также тех способов, которые они применяют с целью реализации своих интересов.
Модель «поиска» на рынке рабочей силы А. Алчияна описывает поведение собственников рабочей силы в ситуации поиска приемлемых ставок заработной платы при условии неполноты информации на рынке рабочей силы [5, c. 463466]. Здесь демонстрируется противоречивость равновесных трактовок теории безработицы, а также недостаточность моделей кейсианско-нео-классического синтеза занятости.
Модель, предложенная А. Алчияном, подразумевает, что временная жесткость ставок заработной платы проистекает из собственных решений рабочих изъять на определенный срок свой труд с целью продолжить поиск дополнительной информации [5, c. 472]. Следует отметить, что парадоксы равновесных и неравновесных теорий занятости порождают необходимость появления более реалистических моделей экономического поведения, в том числе связанных с поиском рабочих мест и приемлемых ставок заработной платы.
Если содержательно, не привязываясь к требованиям макроэкономического анализа, интерпретировать поведение работников, опираясь на алгоритм, разработанный А. Алчияном, то можно допустить существование более реалистичных моделей поведения, которые противоречат моделям равновесного спроса и предложения на рынке труда. Отбросив макроэкономические (равновесные и неравновесные) трактовки экономического поведения данного вида, можно обнаружить следующие тенденции и закономерности рыночного поведения работников, которые интересны сами по себе:
-
а) потеря одних рабочих мест не порождает у людей автоматически занятие ими других рабочих мест с более низкой ставкой заработной платы;
-
б) этому процессу предшествует поиск информации об имеющихся ставках заработной платы в определенных секторах рынка;
-
в) сам процесс поиска информации предполагает получение выгоды, связанной с преодолением неопределенности рынка, формированием более рациональных решений и выбором оп-
- тимальных вариантов занятости;
-
г) индивидуальный поиск необходимой информации целесообразно проводить до тех пор, пока издержки, связанные с поиском информации, не превышают издержек, связанных с суммой упущенного дохода, а также, добавим от себя, суммой резервных сбережений;
-
д) процесс поиска информации о рабочих местах лимитирован целым рядом факторов, в том числе временными ресурсами, которыми располагают индивиды, умением рационально просчитывать затраты и возмещения, связанные с поиском информации и оперативностью этого процесса, достоверностью полученной информации, умением ее рационально оценивать, наконец, ее стоимостью;
-
е) очевидно, что поиск рабочих мест не может осуществляться бесконечно, так как всегда наступает такой момент (если исключить ренту и другие варианты получения дохода), когда исчерпаны накопления и возможные способы резервирования, но приходится выбирать те альтернативы, которые могут не соответствовать конкретным притязаниям, предпочтениям либо принятым стандартам занятости;
-
ж) поиск информации о рабочих местах и ставках заработной платы лимитирован также механизмом конкуренции, когда имеющиеся сведения, связанные с предложением рабочих мест, поступившие на рынок труда, являются, во-первых, предметом борьбы претендентов, во-вторых, максимизационного эгоизма работодателей, которые могут искусственно снижать ставки заработной платы, играя на превышении спроса над предложением.
Модель инвестиционного поведения Дж. Кейнса изложена в двенадцатой главе «Всеобщей теории занятости, процента и денег». Дж. Кейнс дал описание поведения инвесторов, которое базируется на анализе процесса принятия решений и расчета прибыли в инвестиционном процессе. В этой связи он останавливается на характеристиках и особенностях так называемых краткосрочных и долгосрочных предположений [6, c. 250-251]. Если первые базируются на действительных фактах, известных более или менее определенно, то вторые связаны с прогнозом, базирующимся на неопределенности. С точки зрения Дж. Кейнса, возможности, связанные с рациональным обоснованием долгосрочных предположений, маловероятны. Таково мнение инвестора, который вел достаточно успешные операции на фондовой бирже.
Основываясь на собственном опыте и теоретической интуиции, ученый разделяет категории предположения (расчеты, связанные с принятием решений) и уверенности в том или ином предположении. Вторая категория сходна по своему содержанию с ранее выдвинутыми Дж. Кейнсом соображениями о внерациональных стимулах предпринимательского поведения, которые базируются на спонтанной активности экономических субъектов (animal spirits, жизнерадостность) и опережают рационально обоснованные действия [6, c. 227].
Дж. Кейнс разделяет свои предположения на две группы: предположения игроков фондового рынка и предположения профессиональных предпринимателей. Они отличаются друг от друга технологией принятия и расчета экономических действий. Особенно интересна трактовка конъюнктурно-игровых моделей инвестиционного поведения. Дж. Кейнс признает позитивное значение фондовой биржи как эффективного механизма, обеспечивающего ежедневную переоценку активов и позволяющего множеству индивидов перманентно пересматривать степень своего участия в предприятии [6, c. 253]. В механизме переоценки финансовых активов заложены негативные и позитивные элементы. Причем исключение одних за счет усиления других в условиях рынка невозможно. Это связано с тем фактом, что если индивидуальные инвестиции сделать неликвидными и аннулировать рыночные механизмы переоценки активов, то исчезнут стимулы, заставляющие множество людей вкладывать деньги в ценные бумаги. Именно механизм ликвидности инвестиционных активов, который функционирует на финансовых и фондовых рынках, побуждает многих руководствоваться краткосрочными соображениями спекулятивной выгоды, нежели вкладывать ресурсы в реальные активы на длительное время. Дж. Кейнс отмечает, что оптимальный баланс противоречий (или дилемма инвестиционного рынка) [6, c. 261] может быть достигнут только при участии государства, которое в состоянии взвесить предельную эффективность капитальных благ с точки зрения длительных перспектив и на основе общих социальных выгод и будет брать на себя все большую ответственность за прямую организацию инвестиций [6, c. 265].
Еще одна существенная характеристика инвестиционного поведения – система условностей, принимаемая участниками рынка. Речь идет о стереотипах экономического поведения, 67
которые побуждают действовать множество индивидов одинаковым образом, если они уверены в стабильности правил игры, которые дублируются и повторяются через длительный промежуток времени. В целом из концепции инвестиционного поведения Дж. Кейнса вытекают следующие выводы:
-
а) следует разграничивать систему долгосрочных предположений и расчетов предпринимателей, имеющих целью прогнозировать ожидаемый доход от капитала за весь срок его службы, и рыночных спекулянтов, имеющих целью прогнозировать психологию рынка;
-
б) механизм переоценки активов на фондовой бирже в условиях рыночной неопределенности – необходимое явление. Однако он порождает целый ряд побочных следствий, которые, если их не нормировать, начинают замещать предпринимательскую активность спекулятивной;
-
в) трудно ожидать хороших результатов, когда расширение производственного капитала в стране становится побочным продуктом деятельности игорного дома [6, c. 259];
-
г) рынки ликвидных инвестиций, порождающие негативные тенденции, необходимо поставить в рамки налогового регулирования и ограничить доступ к ним непрофессионалов;
-
д) спонтанность рыночного порядка, в том числе в сфере инвестиционных ресурсов, если применять к ней соответствующую систему внешних регуляторов и противовесов, может выполнять более эффективно свою позитивную функцию, с одной стороны, расширяя возможности и векторы свободы рыночных субъектов, а с другой, лимитируя их «максимизационный эгоизм».
Модель «рефлексивного» поведения в системе фондового рынка Дж. Сороса систематизирует конкретный опыт выдающегося спекулянта фондового рынка [7]. Последний выделил целый ряд важнейших принципов и процедур в структуре инвестиционного поведения, которые позволяют приоткрыть завесу конфиденциальной лаборатории подготовки и принятия успешных решений, а также прогнозов фондового рынка.
Суть концепции рефлексивного поведения Дж. Сороса состоит в следующем. Поведение субъектов рынка – стохастический процесс, где объективные и субъективные компоненты нельзя дифференцировать по принципу «объект-субъект». Реальность рынка, особенно фондового – это система массового поведения, где в ценовую информацию и другие составляющие, на основании которых принимаются решения, зало-68
жены предпочтения действующих индивидов. В основе реального поведения рыночных агентов лежит не принцип рыночного равновесия, который выравнивает их шансы, а непрерывный процесс постоянных изменений. Он является следствием поведения конкретных людей, проектирующих и воплощающих в реальность будущее, руководствующихся собственными гипотезами (плодотворными заблуждениями), которые они постоянно пересматривают [7].
Важным компонентом поведения «инсайдеров» (предпринимателей инвестиционно-фондового рынка) является постоянная фиксация параметров «психологии» рынка или предпочтений рыночных агентов, которые полярно изменяются в зависимости от колебаний конъюнктуры. Предпочтения могут усиливать или ослаблять рыночные тенденции (например, явления ажиотажного сброса и покупки акций на фондовом рынке).
Необходимый аспект рефлексивного поведения – фиксация основного тренда рынка, его колебаний [7]. Он влияет на поведение участников рынка, а они, в свою очередь, могут влиять на интенсивность его колебаний. Таким образом, котировки акций определяются двумя факторами: основным трендом и превалирующими предпочтениями агентов рынка. А на оба этих фактора влияют, в свою очередь, котировки фондового рынка. Причем взаимодействие между двумя факторами и котировками рынка не константно. То, что является независимой переменной в одной функции, представляет переменную величину в другой, и наоборот. В таком многофункциональном процессе нет устойчивых факторов, вокруг которых образуется определенная тенденция за длительный промежуток времени.
Разработанная Дж. Соросом рефлексивная модель прогнозирования фондового рынка характеризуется тем, что дает возможность установить важнейшие этапы «подъема-спада» основного тренда, а именно: неосознанный тренд, начало самоусиливающегося процесса, успешное преодоление колебаний, растущую убежденность к росту расхождения между ожиданиями и реальностью, точку экстремума и самоусили-вающийся процесс в обратном направлении [7].
Можно по-разному относиться к его технологии обогащения, однако несомненно, что он обладал незаурядной способностью просчитывать выгоду своих экономических действий, пользуясь и стандартными методами, которые применяют все квалифицированные менеджеры, управляющие финансовыми активами, и метода- ми инновационными, которые были известны только ему одному. Добавим то, что вербализация последних, с нашей точки зрения, не дает возможность другим повторить тот же результат и является, по-видимому, загадкой для самого продуцента инновационных изменений.
Далее можно рассмотреть модель поведения плановика в директивной экономике по Я. Корнаи [8, c. 308-312]. Формулируя эту модель (наряду со множеством других), Я. Корнаи хотел понять характерную позицию и «условные рефлексы», определяющие принятие решений в социалистической экономике [4, c. 308]. Такие решения определяются не складом характера или настроением того или иного человека, а ролью, функцией и тем обстоятельством, что в определенных общественных условиях индивиды должны принимать решения по определенному кругу проблем. В связи с этим он выделил факторы, оказывающие активное воздействие на позиции плановика.
-
1. Невозможность при планировании классической централизованной экономики учесть растущие предельные издержки, которые разбросаны среди многих сотен предприятий, учреждений, хозяйств, причем вначале лишь в виде маленькой, почти незаметной статьи дополнительных расходов каждого из них [8, c. 205]. Тем более что они накапливаются постепенно. Субъекты централизованного планирования ориентируются на те показатели, которые можно отчетливо выразить в количественных заданиях плана, где можно подсчитать краткосрочные дополнительные выгоды и экономию издержек при существующих предельных значениях использования общественно-экономического потенциала.
-
2. Централизованное планирование, связанное с дефицитом ресурсов и форсированным состоянием экономики, не в состоянии учесть отдаленные последствия своих действий и рассчитывает на сиюминутный эффект, негативные последствия которых придутся уже на другие поколения.
-
3. Краткосрочное видение планируемой перспективы ориентирует на калькулирование приростов выгоды и экономии ресурсов в малом лаге времени и ограничивает их решения, связанные с длительным периодом. «Для плановика надежды на дополнительные выгоды и экономию важнее опасности дополнительных расходов» [8, c. 311], последствия которых невозможно учесть и предвидеть.
-
4. «Условный рефлекс» плановика отдает
предпочтение сегодняшнему выпуску, а вместе с ним сегодняшнему потребителю, плюс сегодняшним капиталовложениям, пренебрегая риском неблагоприятных последствий, которые уже в ближайшем будущем нанесут ущерб и производству, и потреблению, и капиталовложениям. Нетерпеливое стремление добиться максимально расширенного воспроизводства сегодня даже в ущерб будущему – вот та специфическая форма временной преференции, о которой идет речь. Тем более что «рефлекс» может быть усилен политико-идеологическими факторами, ни на чем не основанной верой в возможность добиться высоких темпов экономического роста [8, c. 311].
Описанные модели очень конкретны. Их нельзя вывести из классических, неоклассических или неклассических формул «homo economicus». Они не могут сформироваться дедуктивным путем. Это результат рассредоточенного знания, в котором концентрируется и верба-лизируется опыт множества специалистов (практиков и теоретиков). Подобное знание не может обрести законченной формы в рамках одной концепции. Оно рождается в головах авторов, придерживающихся различных методологических позиций, что еще раз доказывает невозможность вывести их из единого основания. Однако дело в том, что модели обладают относительно самостоятельным статусом, а следовательно, эвристическими возможностями, поэтому их можно вырвать из целостного контекста, используя самостоятельно. Очень важно и то, что они представляют не только результат чистых дедуктивных процедур, но вербализацию жизненного и профессионального опыта, концентрирующего уникальные обстоятельства и являющегося безбрежным полем индуктивных заключений.
К примеру, модель инвестиционного поведения Дж. Кейнса является не только результатом теоретических изысканий, но и своеобразным микроэкономико-социологическим эссе, где обобщены наблюдения реального поведения людей на фондовом рынке, дана вербализация собственного профессионального опыта. То же самое можно сказать о Дж. Соросе, рефлексивная модель которого представляет скрупулезный анализ собственной профессиональной деятельности на фондовом, денежном и кредитном рынках. Она не отягощена теоретическим багажом традиционного экономического анализа. Модели А. Алчияна и Я. Корнаи также не могут быть сформулированы без знания эмпирических фактов действий реальных людей, поставленных в опре-69
деленные социально-экономические условия и институциональные рамки.
Таким образом, метод социологической инверсии различных фрагментов экономической теории позволяет, во-первых, конкретизировать и описывать алгоритмы экономического поведения, структурирующихся в различных секторах экономической жизни общества, в определенных социокультурных и институциональных «оболочках». Во-вторых, выделять в них специфические элементы и методы рационального выбора, которые типичны для тех или иных моделей экономического поведения. В-третьих, определять социокультурные и институциональные рамки, границы максимизационных возможностей субъектов. В-четвертых, и это для нас самое главное, наполнять определенным содержанием ту категорию, которая является предметом нашего внимания.
Список литературы Теоретические подходы к исследованию экономического поведения в современной зарубежной науке
- Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. М.: Новости, 1992.
- Самуэлъсон П. Принцип максимизации в экономическом анализе//THESIS. 1993. Т. 1. Вып. 1. С. 195.
- Антонов B.C. Человек в зеркале экономической теории. М.: Наука, 1993. С. 60.
- Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М.: Дело ЛТД, 1994. С. 659.
- Харрис Л. Денежная теория. М.: Прогресс, 1990. С. 463-466.
- Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. Антология экономической классики. М.: Ключ, 1993. С. 250-251.
- Сорос Дж. Алхимия финансов. М.: ИНФРА-М, 1996.
- Корнаи Я. Дефицит. М.: Наука, 1990. С. 308-312.