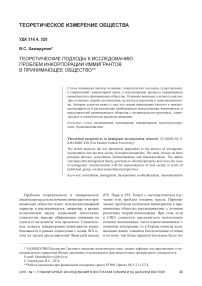Теоретические подходы к исследованию проблем инкорпорации иммигрантов в принимающее общество
Автор: Хамидулин Владислав Саидович
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Теоретическое измерение общества
Статья в выпуске: 1 (35), 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу основных теоретических подходов, существующих в современной гуманитарной науке, к рассмотрению процесса инкорпорации иммигрантов в принимающее общество. Основное внимание уделяется анализу трех основных теорий: ассимиляции, мультикультурализма и транснационализма. Автором делается вывод о том, что теория иммиграции тяготеет к междисциплинарности и рассмотрению проблематики коммуникации иммигрантов и представителей принимающего общества с индивидуально-групповых, социетальных и политических ракурсов внимания.
Ассимиляция, иммиграция, инкорпорация, мультикультурализм, транснационализм
Короткий адрес: https://sciup.org/170175631
IDR: 170175631 | УДК: 316.4,
Текст научной статьи Теоретические подходы к исследованию проблем инкорпорации иммигрантов в принимающее общество
Проблема теоретического и эмпирического анализа процессов включения иммигрантов в принимающее общество имеет междисциплинарный характер и рассматривается, например, в рамках политической науки, социальной психологии, социологии, нередко обращающих внимание на одни и те же аспекты этих процессов. Социеталь-ные аспекты инкорпорации иммигрантов разрабатываются в рамках социологии с конца XIX в., хотя до трудов представителей Чикагской школы
(Р.Е. Парк и У.И. Томас) о систематическом изучении этих проблем говорить нельзя. Первоначально проблемы включения иммигрантов в принимающее общество рассматривались с позиции различных теорий ассимиляции. При этом, если в США социологи предпочитали использовать понятие ассимиляции, часто взаимозаменяемое с понятием интеграции, то в Европе понятие ассимиляции имело слишком биологические оттенки и поэтому там более предпочтительным было по- нятие интеграции, что не исключало политизацию его использования [6, 18]. В целом, понятия «интеграции» и «ассимиляции» близки и часто употребляются как взаимозаменяемые. В дальнейшем, теория ассимиляции подверглась критике со стороны представителей теорий мультикультурализма и транснационализма. Рассмотрению этих трех больших направлений социальной мысли и посвящена данная статья.
Инкорпорация как ассимиляция: возрождение одной теории
Преобладание теории ассимиляции в западной (а точнее, в американской) социологии наблюдалось на протяжении более половины XX в., сменившись затем почти полным ее забвением в силу, как считалось, низких объяснительных способностей (например, в отношении того, почему афроамериканцы так и не ассимилировались полностью в американский культурный мейнстрим). Фокус внимания социологов сместился на транснациональный характер миграции и межкультурное взаимодействие, что отразилось в появлении теорий транснационализма и мультикультурализма, что, в свою очередь, сменилось новым поворотом в сторону теоретического осмысления проблем ассимиляции и эмпирической проверки новых теоретических положений [5, с. 85-193].
Вместе с тем, как отметил американский социолог Натан Глейзер, проблемы с ассимиляцией черного населения США не подрывают теорию ассимиляции, а, скорее, иллюстрируют тот факт, что предубеждения и дискриминация блокируют ассимиляцию [5, с. 109].
В этом плане интересен пример немецкого населения США. Президент страны Теодор Рузвельт в конце Первой мировой войны высказался в том духе, что люди немецкой крови, пытающиеся быть одновременно немцами и американцами, являются предателями Америки и инструментом, который Германия использует против США. В результате, американские немцы в большинстве своем выбрали ассимиляцию [17, с. 129]. Во время проведения переписи населения США в 2000 г. около 58 млн. американцев на вопрос «каково ваше этническое происхождение» ответили «немецкое». Это самая большая группа этнического происхождения в США. При этом никаких проблем с ними в стране нет, немцы исчезли в плавильном котле [4, с. 46].
Таким образом, проблема теории ассимиляции лежала в характеристиках принимающего общества, не позволяющих некоторым этно-расовым группам ассимилироваться. Попытками возродить эту концепцию стали теория сегментированной ассимиляции, разработанная А. Портесом и его коллегами, и новая теория ассимиляции Р. Альбы и В. Ни [5, с. 93].
В своей работе, А. Портес и Мин Чжоу [18] выделяют три способа инкорпорации на трех уровнях: на уровне правительства, на социетальном уровне и на уровне уже существующих в принимающей стране этнических сообществ политика инкорпорации может быть восприимчивой, индифферентной или враждебной (в вариантах сла-бая/сильная враждебность).
На уровне правительства речь идет о политике, направленной на помощь иммигрантам в обустройстве, либо о безразличии к их прибытию в принимающую страну, либо о постановке официальных барьеров на их пути.
На социетальном уровне говорится о позитивном принятии иммигрантов и иммиграции, либо о нейтральном отношении к их прибытию, либо о враждебном отношении к ним.
Когда речь идет об уровне этнических сообществ, то имеется в виду, в какой форме эти сообщества существуют. Если это «сильные» сообщества, включающие в себя не только людей с малым объемом человеческого капитала, но и предпринимателей и квалифицированных специалистов, то иммигранты могут использовать социальные связи в свою пользу. Если же этническое сообщество как таковое не существует, или является слабым, т.е. состоящим преимущественно из представителей неквалифицированного ручного труда, то иммигрантам будет сложно адаптироваться к новым условиям в стране пребывания.
Также, теория сегментированной ассимиляции акцентирует внимание на способности семей иммигрантов справляться с факторами, которые влияют на их жизнь в принимающей стране, т.е. с особенностями социального контекста и политики правительства. Эта способность зависит от человеческого капитала (формального образования и профессиональных навыков), которым располагают иммигранты, от того, полная семья или в ней только один родитель, от уровня враждебности принимающего общества, позиции государственных органов принимающей страны, наличия сильных этнических связей с собственным устоявшимся и преуспевающим этническим сообществом [15].
Указанные факторы определяют, будет ли ассимиляция детей иммигрантов восходящей (на основе человеческого и социального капитала родителей), стагнирующей, когда поколения иммигрантов занимают позиции ручного труда на рынке, или же она окажется нисходящей в нищету, безработицу и девиантный образ жизни. Послед- ние две разновидности ассимиляции характерны для потомков бедных мигрантов, включая нелегалов [15]. Эти типы ассимиляции сопровождаются процессами консонантной, селективной или дис-сонантной аккультурации.
Восходящая ассимиляция сопровождается консонантной аккультурацией, которая распространена среди детей специалистов и иммигрантов с высоким объемом человеческого капитала. Родители и дети вместе учат и усваивают язык и культуру принимающего общества. Также, она может сопровождаться селективной аккультурацией, наблюдающейся обычно среди специалистов и иммигрантов с меньшими объемами человеческого капитала. Усвоение языка и культуры принимающего общества сопровождается сохранением сильных связей с этническим сообществом и сохранением ключевых элементов родительской культуры. Билингвизм – хороший показатель такого способа.
Диссонантная аккультурация наблюдается в семьях рабочего класса, когда недостаток человеческого и социального капитала ведет к тому, что усвоение детьми иммигрантов ценностей и языка принимающего общества сопровождается отвержением ценностей и языка, связанных с их родителями. Семейная коммуникация подрывается, авторитет родителей детьми не воспринимается. Этот тип аккультурации не обязательно ведет к нисходящей ассимиляции, хотя и делает ее более вероятной, т.к. разрыв внутрисемейных связей ведет к недостаточному родительскому контролю и неспособности родителей воспитывать своих потомков.
Американский социолог Ева Моравска в дальнейшем модернизировала теорию, выделив два типа и два пути ассимиляции: а) восходящую и нисходящую ассимиляцию иммигрантов в мейнстримную культуру; б) этническую восходящую и нисходящую ассимиляцию, т.е. инкорпорацию иммигрантов в принимающее общество в границах своей этнической группы. Она также выделила непрерывный тип ассимиляции тех, кто постоянно живет в принимающем обществе, и спорадическую ассимиляцию тех, кто постоянно перемещается из своей страны в принимающую страну и обратно [12, с. 9-72].
А. Портес и его коллеги создали влиятельную теорию ассимиляции, которая пользуется широким вниманием со стороны научного сообщества. Создававшаяся специфически для объяснения жизненных траекторий американских детей иммигрантов, которые прибыли после Акта об иммиграции и гражданстве 1965 г., упразднив- шего большую часть жестких ограничений на иммиграцию, принятых в США в 1920-х гг. [21], она применяется и в кросс-культурных исследованиях, хотя некоторыми авторами указывается ряд серьезных отличий между кейсами (европейские, например, демонстрируют преобладание дискриминации на основе не расовых, а, скорее, религиозных различий) [25]. К другим замечаниям можно отнести критику таких ее допущений, как значимость занятости иммигрантов на промышленных предприятиях для их восходящей ассимиляции (теория не смогла объяснить, например, разницу между итальянскими и польскими иммигрантами, результаты ассимиляции которых в США были очень разными), а также указание на упрощающий характер объяснений, которые в рамках теории сегментированной ассимиляции выдвигаются [5, с. 119].
«Новая теория ассимиляции» Р. Альбы и В. Ни, в рамках которой ассимиляция определяется как ослабление этнического разделения и следующее за этим снижение культурных и социальных различий, обращает внимание на социальные границы, которые существуют в принимающем обществе и определяют уровень включения в него иммигрантов [1, с. 11; 5, с. 122].
Авторы попытались совместить противоречивые теории методологического индивидуализма (Вебер) и методологического холизма (Дюркгейм), используя ключевые положения неоинституционализма, когда институциональные изменения объясняются через причинные механизмы, встроенные в целевые действия индивидуальных и групповых (corporate) акторов, которые, в свою очередь, ограничены культурными верованиями, структурами отношений, зависимостью от первоначального пути (path dependency) и меняющихся относительных издержек ассимиляции [1, 36].
Иммигранты могут пересекать социальные границы индивидуально, когда структура принимающего общества не меняется и различие между своими и чужими остается нетронутым. Сами иммигранты изменяются, принимают некоторые атрибуты новой идентичности (когда языком повседневного общения становится язык принимающего общества, собственные имена меняются на имена, имеющие распространение в принимающем обществе, также можно привести в пример практики изменения собственной телесности, когда еврейская молодежь массово делала пластические операции на своих носах с тем, чтобы более походить на белых англо-саксонских протестантов в США).
Данные границы могут размываться под воздействием внутренних процессов в принимающей стране и тогда структура принимающего общества меняется. Ключевая особенность такого общества – толерантность к множественному членству и перекрывание коллективных идентичностей, которые до этого существовали отдельно и взаимоисключающе. В качестве примеров можно привести формальный или неформальный (официальный и неофициальный) билингвизм, возможность получения двойного гражданства, институционализация иммигрантских религий, включая их общественное признание.
Наконец, может происходить смещение границ, когда воссоздается групповая идентичность и линия различения членов и не членов доминирующей группы перемещается в сторону включения (добивается успеха риторика про-иммигрантских активистов) или исключения (анти-иммигрантские группы добиваются успеха в своих требованиях по снижению возможности включения иммигрантов в принимающее общество).
Одним из ключевых тезисов новой теории ассимиляции является указание на влияние дискриминации на групповой выбор: когда дискриминационные барьеры блокируют индивидуалистические образцы социальной мобильности, то ассимиляция, когда она происходит, зависит от коллективных стратегий [1, с. 45]. Например, когда китайские иммигранты начали селиться в дельте реки Миссисипи с 1870-х гг., они первоначально являлись таким же объектом дискриминации, как и афроамериканское население региона. Под воздействием этой дискриминации китайская община сделала все, чтобы отделиться от афроамериканцев: коллективной стратегией стало пространственное отделение китайцев от черного населения, принятие ими образцов поведения и символов, характерных для белого населения. Межрасовые браки были сведены до нуля, китайская община вынуждала своих членов, уже вступивших в брак с представителем черного населения, развестись под угрозой остракизма. Дети смешанных китайско-негритянских браков также подверглись остракизму. Китайские предприниматели стали оформлять свои магазины в стиле, похожим на тот, который применялся для магазинов с белыми владельцами. Община начала строить свои баптистские церкви, организовывала социальные клубы, было создано даже свое китайское кладбище, основной целью которого также было пространственное отделение: китайцы не хотели хоронить членов своей общины рядом с черными. К началу 1950-х гг. китайцы сбросили свой «черный» статус. Хотя в глазах белого населения «белыми» они не стали, но их социально-экономиче- ский статус вырос, китайских детей стали пускать в белые школы.
Похожую стратегию предприняли американские ирландцы. В своем стремлении освободиться от образа ирландских «лачужников», они также подвергали остракизму тех, кто заключал брак с чернокожими [1, с. 44-45].
Данными примерами авторы иллюстрируют свой тезис о зависимости коллективных стратегий от существующего уровня предубежденности и дискриминации, но с нашей точки зрения следует обратить внимание на характер групповой стратегии. Этнокультурная группа может сократить различия между собой и принимающим населением (попытавшись размыть социальные границы) не только предприняв ассимиляционную стратегию, но и при помощи сознательного установления границ между конкретной общиной и другими этно(расово)культурными группами, которые в этом случае выступают в роли козла отпущения. «Грех» инаковости переносится с одной группы на другую, возлагается на нее. Активная демонстрация различий между двумя группами ведет к снижению различий между одной из этих групп и доминирующим населением страны.
Критики новой теории ассимиляции не пытаются опровергнуть тезисы о наличии границ в принимающем обществе и в основном упирают на идею культурного мейнстрима, используемую авторами теории. Некоторые из них, например, указывают на то, что вместо снижения этнического разделения в принимающем обществе наблюдается «трансмутация», т.к. не бывает мейнстрима без боковых потоков, этничность продолжает существовать и в центре, и на периферии. При этом нельзя говорить о том, что только иммигранты меняются, и Р. Альба согласился с тем, что ассимиляция – это двухсторонний процесс, большинство также меняется в результате размывания границ [5, с. 124].
Как уже говорилось, теория ассимиляции, в различных своих вариантах, на данный момент является влиятельным направлением в исследованиях иммиграционных процессов. И в теоретическом плане, и на уровне реализации государственной (региональной, местной) политики в Европе, США и Канаде основное противодействие асси-миляционистским устремлениям большинства оказывалось представителями теории и идеологии мультикультурализма.
Мультикультурализм:теория и политическая практика
В теоретическом плане мультикультурализм является концепцией, утверждающей необходи- мость принятия и продвижения многообразных культурных традиций в рамках отдельного госу-дарства1.
Мультикультурализм изначально возник как политика (и в этом отношении он аналогичен политике ассимиляции, которая получила теоретическое осмысление только после своего возникновения), являясь ответом канадского правительства на вызов квебекского сепаратизма в 1950-1960-е гг., представляя при этом альтернативу ассимиляци-онистской политике США. Первоначально речь шла об англо-французском бикультурализме, который вводился и в символических, и в институциональных формах: вариация британского Юни-он-Джека была заменена кленовым листом на государственном флаге, франкоканадцы повысили свой политический статус после официального принятия французского языка как второго государственного. После того, как другие этнические группы (и, в особенности, аборигенное население Канады) заявили о своих правах, бикультурализм сменился мультикультурализмом, который официально вводился в основополагающие государственные документы в 1980-х гг. [5, с. 179]. Помимо Канады наиболее известными примерами реализации мультикультурной политики являются Австралия и США. В Европе же отнюдь не во всех странах мультикультурализм был принят. Так, европейскими учеными выделяются идеалтипиче-ские англофонная гражданско-территориальная и мультикультурная, германофонная этническая и ассимиляционистская и французская республиканская и ассимиляционистская модели, различающиеся по основаниям политики стимулирования и ограничения иммиграции [9].
Британское правительство не делало попыток ассимиляции иммигрантских групп, сосредоточившись, скорее, на строгом выполнении требований иммиграционного законодательства. В Германии до 2000 г. существовало право jus sanguinis, когда гражданство выдавалось только при условии принадлежности к немецкой нации. Во Франции же меньшинства воспринимались как то, что должно ассимилироваться («быть французом значит действовать как француз, а действовать как француз лучше, чем действовать иначе»). Приезжие должны отбросить культуру, лояльность, религиозные практики и язык, т.е. то, что делает их отличными от доминирующей французской культуры. Помимо Великобритании, в Европе политику мультикультурализма проводили также Швеция и Нидерланды.
Как политика, мультикультурализм достаточно разнообразен, но можно выделить общие его черты [8, с. 37]:
-
1. Законодательное утверждение мультикультурализма на национальном, региональном и муниципальном уровнях;
-
2. Внедрение мультикультурализма в школьные учебные планы;
-
3. Этническое представительство обеспечивается в публичных медиа-ресурсах, либо является условием лицензирования медиа-ресурсов;
-
4. Устанавливаются исключения для дресс-ко-дов, дней отдыха, связанных с религиозными обычаями;
-
5. Внедряется институт двойного гражданства;
-
6. Этнические организации получают государственное финансирование в рамках поддержки культурной деятельности;
-
7. Государством финансируется двуязычное образование, преподавание на родном языке иммигрантов;
-
8. Вводится институт позитивной дискриминации для ущемленных этнических групп;
Мультикультурализм имеет долгую историю (по словам одного из самых известных представителей этой теории Уилла Кимлики он так же стар, как человечество), однако и в теоретическом отношении, и на уровне реализации государственной политики эта теория и политическая практика является объектом критики как со стороны консервативных, так и со стороны прогрессивных кругов.
Как политика мультикультурализм встретил сопротивление уже во время своего внедрения в Канаде, где франкофонное население Квебека не согласилось с тезисом о необходимости мультикультурализма на территории провинции (в целом, эта идея встречает гораздо меньшую поддержку среди квебекцев, чем среди жителей остальных канадских провинций), и ряд теоретиков выдвинул понятие «интеркультурализма». Анализ понятия свидетельствует в пользу того, что оно, во-первых, во многих отношениях совпадает с понятием «мультикультурализм», а во-вторых, за пределами Квебека представляет собой только дискурс, а не реальную политику [10]. В самом Квебеке, впрочем, понятие имеет вполне конкретное приложение: провинция самостоятельно определяет требования к иммигрантам и осуществляет контроль над иммиграцией, главная цель которых заключается в том, чтобы иммигранты соответствовали франкоканадской культуре. Дети иммигрантов должны обучаться только во франкоязычных шко- лах и не могут самостоятельно определять свою образовательную траекторию. Иммигранты должны вести свой бизнес только на французском языке [2, с. 69].
Консерваторы в своей критике выдвигают нормативные обвинения в том, что мультикультурализм является «безумием», «деструктивной доктриной», «инструментом коллективизма», «бичом Запада», «политической опасностью», «экспериментом, столь же опасным, что и коммунизм», т.е., если в целом, то мультикультурализм объявляется не больше, не меньше угрозой основаниям либеральной демократии и всей западной цивилизации [5, с. 161-162]. Со стороны левых кругов критики указывают на то, что политика мультикультурализма скорее разделяет общество, а не обеспечивает солидарность, а также, на то, что она игнорирует вопросы перераспределения в обществе [5, с. 161-162].
На уровне государственной политики также наблюдаются негативные высказывания в адрес мультикультурализма. Так, в период между октябрем 2010 г. и февралем 2011 г. канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Николя Саркози и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон публично высказались, что они не верят больше в то, что разные культурные сообщества могут комфортно сосуществовать в их странах рядом друг с другом. Идея мультикультурализма конфликтует с доминирующими ценностями их стран (христианскими ценностями Германии, по словам А. Меркель) и каждая иммигрантская культура должна работать над интеграцией и ассимиляцией в стране проживания. В основном, это послание было направлено в сторону мусульманского сообщества и его потенциальной связи с доморощенным исламским терроризмом [19, с. 16], тем более, что мусульман в Европе больше, чем населения в Финляндии, Дании и Ирландии вместе взятых. В силу своей многочисленности они стали центром в публичном обсуждении достоинств и недостатков мультикультурализма [11, с. 4].
Стоит сказать о том, что политика мультикультурализма действительно не ведет к гарантированной лояльности иммигрантских групп. Например, несмотря на то, что французские мусульмане ограничены в публичных отправлениях своей религии, они менее отчуждены от французского общества, чем британские мусульмане от британского, т.е. французская республиканская ассимиляционистская модель более эффективна в отношении интеграции исламских меньшинств в принимающее общество [7, с. 113-131].
В Канаде, несмотря на ее мультикультурализм, также наблюдаются значимые изменения в национальном самосознании, что отражается в результатах переписей населения: между 1986 г. и 2001 г. ответы на вопрос об этнической принадлежности с вариантом «канадец» возросли с 0,5% до 39%. «Канадцы» теперь самая большая этническая группа в стране [27, с. 42], что свидетельствует, скорее, о потере изначальной этнокультурной идентичности значительной частью населения и формировании новой, общей идентичности.
Защитники мультикультурализма пытаются учесть и консервативную, и прогрессивную критику. Уилл Кимлика в рамках своей концепции «огражданствления» (citinization) пишет о том, что мультикультурализм включает в себя культурное распознавание, экономическое перераспределение и политическое участие. Если мультикультурализм является движением за права человека, то ни о какой поддержке действий, направленных на нарушение этих прав в иммигрантских группах (и иммигрантскими группами), речи не идет. Мультикультурализм, таким образом, является трансформирующим проектом и для большинства, и для меньшинств [8, с. 38-39], он является способом интеграции, а не разделения, который работает не только с индивидами, но и с группами [11, с. 13-44]. При этом сама постановка вопроса требует переформулировки: о провале какой именно политики нужно говорить? Политики мультикультурализма в целом, или же о провале отдельных политик, таких как образовательная, жилищная, политика по созданию рабочих мест?
Вместе с тем, если обратиться к политической риторике политических деятелей и государственных чиновников в Европе, то можно увидеть, что речь идет просто о замене одного термина другим: понятие мультикультурализма ушло из политического дискурса, сменившись понятиями «интеграции» и «многообразия» (diversity). «Многообразие» означает практически то же самое, что и мультикультурализм, – меры по снижению дискриминации, обеспечению равенства возможностей и преодолению препятствий на пути полного участия в общественных делах, обеспечению неограниченного доступа к публичным услугам, различение культурной идентичности в противовес ассимиляции, открытие публичного пространства для этнокультурного представительства, поддержка этнического плюрализма среди всех групп населения [26, с. 18].
На уровне гражданского общества восприятие мультикультурализма также неоднозначно. Как понятие оно отвергается, как политика муль- тикультурализм может и не встречать особого сопротивления. Например, опрос, проводившийся BBC в Лондоне через месяц после июльского теракта в 2005 г., показал, что 58% респондентов согласились с тем, что те, кто хочет жить в Британии, должны принять британские ценности и традиции, но в то же время 62% респондентов ответили, что мультикультурализм делает Британию лучшим местом для жизни и только 32% согласились с тем, что он угрожает британскому образу жизни [26, с. 15].
В общем и целом, и теория, и политика мультикультурализма страдают одним серьезным недостатком: они игнорируют социально-классовую структуру самих иммигрантских групп. Например, Индекс политики мультикультурализма, который разработали Кейт Бэнтинг и Уилл Кимлика, в секции оценки политики мультикультурализма для иммигрантских групп в основном оценивает культурную составляющую политики. Среди отобранных разработчиками индекса восьми показателей (они соответствуют списку характеристик мультикультурализма, приведенных выше), только один («финансирование этнических организаций и деятельности») может быть с известной долей условности отнесен к проблеме сокращения материального неравенства внутри иммигрантских групп и только последний («положительная дискриминация») можно хоть каким-то образом трактовать как способ сокращения неравенства между средними доходами иммигрантских групп и медианным доходом в принимающем обществе.
Сторонники мультикультурализма часто говорят, что он не является единой теорией и поэтому его нельзя критиковать как нечто целостное. Но тот же аргумент может быть обращен и к ним самим: не различение классовой структуры внутри иммигрантских сообществ ведет к тому, что они воспринимаются как нечто целостное и единое, тем самым возрождается так часто критикуемый эссенциализм. Иначе говоря, слишком много внимания уделяется культуре, тогда как значение имеют в первую очередь материальные проблемы. По Т. Иглтону [31], культуру изначально порождает нужда, т.е. необходимость выживания (культура в этом плане означает различные формы солидарности) и, перефразируя слова этого теоретика культуры, если мы будем воспринимать вопросы инкорпорации и интеграции иммигрантов в принимающее общество (результаты «переселения народов») как культурные проблемы (а инкорпорация и интеграция, как и любые другие материальные проблемы, имеют культурную окраску), то рискуем тем самым их полностью обессмыслить.
Теория транснационализма и методологический национализм: критика национальной местечковости
Под знаменем критики теории ассимиляции за то, что она подразумевает потерю иммигрантами своей изначальной идентичности и теории культурного плюрализма (мультикультурализма) за эссенциализм, подразумевающий неизменную этническую идентичность, в начале 1990-х гг. стала развиваться теория транснационализма, в рамках которой ее сторонники сосредоточиваются на социальных отношениях, подчеркивая множественную и текучую идентичность современных иммигрантов (см. анализ понятия в: [5, с.127-129]). Ранние дискуссии о транснационализме рассматривали его как альтернативу ассимиляции, но на самом деле эти явления взаимосвязаны [27, 77-78].
Представители этой теории сосредоточены на анализе процессов постоянного перемещения иммигрантов из своей страны в страну пребывания и обратно, что представляет собой определенный вызов интеграционным процессам в принимающем обществе.
Понятие «трансмигрант» было введено для того, чтобы подчеркнуть возросшую активность иммигрантов в сфере перемещений между странами и возрастающую важность контактов между эмигрантами и страной происхождения.
Например, около 20 млн. индийцев живут за границей, их совокупный доход составляет больше трети индийского ВВП. Эти индийцы, живущие за границей, осуществляют 10% от всех прямых зарубежных инвестиций в экономику Индии. В Китае еще больше: 50% всех прямых зарубежных инвестиций поступают от 30 млн китайских иммигрантов. Помимо этого, нужно учитывать потоки человеческого капитала и передачу идей и практик через границы государств. Китай, к примеру, проводит целенаправленную политику по привлечению высокообразованных эмигрантов обратно в страну, а также по налаживанию продуктивных связей между ними и родиной. Индия предоставляет налоговые льготы для эмигрантов, пытается привлечь их для экспертизы, советов и идей, помогающих создать какие-то возможности для зарубежных индийских компаний [5, с. 157]. Трансмигранты в этом случае определяются как иммигранты, создающие и поддерживающие множественные социальные отношения, связывающие общества их происхождения и поселения [23, с. 48].
С другой стороны, по мнению А. Портеса, который также является одним из ведущих теоретиков транснационализма, и его коллег, понятие «транс- мигрант» не является необходимым, понятие «иммигрант» вполне достаточно для описания современной реальности, при этом не все иммигранты транснациональны. Транснационализм в его понимании представляет собой занятость и деятельность, требующие регулярные устойчивые социальные контакты через границы [16, с. 219]. При этом под транснационализмом понимаются процессы, идущие «снизу», т.е. их участниками не являются политические и государственные деятели и речь идет прежде всего о неинституционализи-рованных, неформальных формах взаимодействия [14, с. 186]. Такое понимание транснационализма ведет к тому, что число транснанациональных иммигрантов оказывается относительно невелико по сравнению с общим числом иммигрантов, постоянно живущих в принимающих странах. Например, исследования экономических и политических практик, проведенные А. Портесом и коллегами среди представителей некоторых латиноамериканских стран, показали, что среди сальвадорцев транснациональными предпринимателями могут считаться только 5,2% от тех, кто постоянно живет в США, доминиканцев – 4,8%, колумбийцев – 4,3%. Доля иммигрантов, вовлеченных в дела местного сообщества в своей стране происхождения, в упомянутых группах колеблется от 7,2% до 14,3% [5, с. 147]. Понятно, что при таком подходе транснационализм является не самым важным процессом в жизни иммигрантских сообществ в целом.
Специфика современного транснационализма характеризуется следующими положениями [27, с. 15-16]:
-
• Технологии влияют на скорость, интенсивность и масштабы контактов иммигрантов со своими семьями, оставшимися дома;
-
• Формы транснационализма влияют на культурные, экономические, политические, технологические процессы, на процесс глобализации в целом;
-
• Скорость и интенсивность коммуникации создает нормативный транснационализм, когда иммигранты знают, что происходит на родине, и наоборот;
-
• Серьезно вырос объем финансовых переводов, которые иммигранты направляют на родину (к 2010 г. эта сумма составляла более 300 млрд. долл. в год). Многие страны в значительной степени зависят от этих переводов;
-
• Телекоммуникационные технологии обеспечивают возможность более широких, более интенсивных и институциональных
форм политического участия в родине, включая партийную политику, избирательные процессы, лоббирование, массовые демонстрации, постконфликтное восстановление, а также поддержку восстаний и терроризма;
-
• Ассоциации иммигрантов в крупных городах могут собирать значительные суммы на поддержку проектов в своих родных городах, включая строительство инфраструктурных объектов и поставку оборудования;
-
• Правительства стран-источников миграции создают программы для эмигрантов, включая специальные банковские услуги и инвестиционные схемы для привлечения зарубежного капитала. Также правительства создают свои офисы для наблюдения за благосостоянием граждан за рубежом, внедряют институт двойного гражданства;
-
• Во многих западных странах десятилетия политики идентичности (в частности, мультикультурализма) создали контекст, в котором иммигранты легко могут демонстрировать свои транснациональные связи.
Ключевым вопросом здесь является то, что именно понимается под инкорпорацией иммигрантов в принимающее общество в условиях установленных и продолжающихся транснациональных связей? Здесь не обойтись без рассмотрения методологических вопросов, связанных с транснационализмом и, шире, со всей социальной теорией. Основной методологическим вопросом, выдвинутым в рамках теории транснационализма и направления миграционных исследований в целом, является проблема методологического национализма.
Понятие методологического национализма было введено португальским социологом Херми-нио Мартинсом и британским социологом Энтони Д. Смитом еще в 1970-х гг., в рамках своей критики современной социальной науки [3]. Мартинс указывал на логический аспект проблемы: социальные изменения считались результатом внутренних процессов в обществе. Общество находится в государстве и, тем самым, отождествляется с ним, а «нация-государство» считается «нормальной» формой общества. Э. Смит выступал с историцистских позиций: методологический национализм является результатом государственного национализма XX в. и неадекватной сущностной концептуализации исторического развития нации-государства.
В поле миграционных исследований это понятие ввели британский антрополог Нина Глик
Шиллер и ее коллеги, согласно которым методологический национализм – это допущение, что нация/государство/общество – это нормальная социально-политическая форма современного мира [29, с. 302]. Такое допущение, по их мнению, ведет к ряду проблем, которые можно описать следующим образом: в Большой социальной теории национализм, создавший современные западные государства, игнорируется, а в эмпирических исследованиях происходит натурализация и терри-ториализация границ наций-государств, которые воспринимаются в качестве естественных и включающих в себя общество, которое отожествляется с государством, становясь, тем самым, «национальным обществом», «обществом-контейнером» («сеть социальной жизни заключается в контейнер национального общества»).
Таким образом, при анализе иммиграционных, транснациональных процессов нельзя ограничиваться такими единицами анализа, как национальные государства. Эта критика методологического национализма в дальнейшем вылилась в разработку различных аспектов понятия «космополитизм» (см.: [24]), но главное для нас – это связь методологического национализма с проблемой инкорпорации иммигрантов в принимающее общество (само понятие которого с позиции критики этого направления также оказывается проблематизированным).
Методологический национализм ведет к вполне определенной идеологической ориентации, когда к исследованию социальных и исторических процессов подходят так, как если бы они целиком происходили в границах отдельных наций-государств, члены которых разделяют общую историю, набор ценностей, норм, социальных традиций и институтов. Принимая государственные границы за социетальные границы, исследователи создают такой способ логических рассуждений, который делает иммигрантов фундаментальной угрозой социальной солидарности (притом, что в историческом смысле анти-иммигрантский дискурс является компонентом процесса создания государства [22, с. 111-122]). Теория иммиграции в этом случае подспудно принимает позицию, согласно которой население наций-государств является монолитным и не разделенным разными социальными нормами, ценностями и опытом.
Автором предлагается выход за пределы национальных государств с рассмотрением проблем миграции в глобальной перспективе, начиная с неравенства между государствами для оценки того, какая комбинация сил укрепляет и поддерживает это неравенство [22, 113]. Особое внимание предлагается уделять неолиберализму с его реструкту- ризацией пространства, прав человека и локальностей (мест, в которых иммигранты селятся и из которых уезжают), т.е. фактически предлагается включить ценностную компоненту в миграционные исследования, которая прежде всего относится к оценке глобальных процессов, вызванных деятельностью развитых государств и международных институтов (таких как Всемирный банк и МВФ)2. В перспективе же глобальной власти нужно определить транснациональные социальные поля, внутри которых мигранты появляются не как иностранцы, но как акторы, связывающие местное население с глобальными процессами [22, с. 119-127].
Это достаточно расплывчатая рекомендация, при том, что в области социальной науки в целом и на уровне социальных движений в ней нет ничего нового: научная и социальная критика неолиберализма развернулась еще в 1990-х гг., когда стали ясны первые итоги применения неолиберальных проектов в Латинской Америке (и России) (среди наиболее известных авторов можно отметить Наоми Кляйн, Дэвида Харви, Жерара Дюмениля). Требование выйти за пределы методологического национализма является проявлением политической борьбы за категоризацию социального пространства в поле науки, основные характеристики которого описаны П. Бурдье. Методологический переворот должен привести к доминированию критиков методологического национализма, которые, видимо, каким-то образом должны повлиять на власть. Проблема заключается в том, что пока существует государство, преодоление методологического национализма, или, если учесть, что далеко не все государства являются государствами-нациями (федеративная Россия с ее национальными республиками, например, в этот канон не вписывается), методологического этатизма, в практическом отношении затруднено.
Вместе с тем, применительно к исследованиям миграционных процессов теория транснационализма актуализирует проблему несоответствия натурализованной социальной теории глобальным процессам. Вопрос об интеграции иммигрантов в принимающие общества может быть переформулирован в вопрос об основаниях и способах транснационального взаимодействия между людьми как процесса создания социальных полей, в которых жизнь постоянно находящихся в движении трансмигрантов становится прототипом человеческого существования.
Заключение
Между теориями ассимиляции, мультикультурализма и транснационализма есть определенные противоречия, вызванные как вниманием к разным уровням протекания общественных процессов, так и нормативными установками, лежащими в основании каждой из них. Теория ассимиляции направлена на анализ основных социетальных предикторов, влияющих на то, в каких формах происходит включение (и исключение) иммигрантов в принимающее общество. Теория мультикультурализма больше соотносится с проблемами политических действий и государственной политики и является тем самым более политизированной, по сравнению с теорий ассимиляции. Представители теории транснационализма акцентируют внимание на процессах, пересекающих границы государств, превращая проблематику инкорпорации агентов, действующих в этих процессах, в нечто лишенное актуальности.
Как ни странно, нормативный аспект анализа является наиболее слабым в теории ассимиляции, представители которой больше заинтересованы в эмпирических исследованиях, чем в отстаивании ценности различных культур и международного общения (хотя, разумеется, такую нейтральность также можно рассматривать как проявление ценностной позиции).
На эмпирическом уровне можно предположить, что все три подхода не являются полностью противоречащими друг другу: процессы ассимиляции, межкультурного и транснационального общения вполне могут происходить одновременно на территории отдельно взятой юрисдикции (хрестоматийным примером чего служат США), и с их помощью, таким образом, выстраиваются объяснения на различных уровнях анализа. Однако если учитывать прикладной аспект иммиграционных исследований, а именно помощь в разработке соответствующей государственной политики (как и всякая политика, политика инкорпорации иммигрантов ограничена, с одной стороны, структурой общественных предпочтений, а с другой, бюджетными возможностями), то есть риск столкнуться с определенными противоречиями. Если разработчики государственной политики по-разному воспринимают иммигрантов на практике, т.е. либо как агентов, включенных в процессы, способствующие отбрасыванию их собственной культуры или исключенные из них, либо как представителей уникальных культурных сообществ с нормативным требованием к государственной политике обеспечить сохранение и развитие их культуры, либо же как агентов с множественной идентич- ностью, принадлежащих к разным культурам и странам одновременно, то это разное понимание неизбежно будет влиять на реализацию государственной политики.
Должно ли государство проводить активную ассимиляционную политику в отношении иммигрантов вообще, или же ограничиваться активным противодействием нисходящей ассимиляции их детей? Должно ли государство активно содействовать размыванию социальных границ в обществе, или же содействовать их сохранению путем укрепления культурных различий между иммигрантскими группами и принимающим обществом (структура которого также неоднородна)? Является ли важной проблема лояльности (является ли лояльность проблемой?), если иммигранты транснациональны? Необходимо отметить, что данные вопросы еще требуют своего решения с нормативных позиций.
Список литературы Теоретические подходы к исследованию проблем инкорпорации иммигрантов в принимающее общество
- Alba R., Nee, V., 2003. Remaking the American mainstream. Assimilation and contemporary immigration. Harvard: Harvard University Press
- Baglay S., Nakache, D., 2014. Immigration federalism in Canada: provincial and territorial nominee programs (PTNPs). In: Baglay, S., Nakache, D., eds. 2014. Immigration regulation in federal states. New York: Springer.
- Chernilo D., 2006. Social theory’s methodological nationalism: myth and reality, European Journal of Social Theory, Vol. 9, no. 1, pp. 5-22.
- Crepaz M.L., 2008. Trust beyond borders: immigration, the welfare state, and identity in modern societies. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Faist T., Kivisto T., 2010. Beyond a border: the causes and consequences of contemporary immigration. Thousand Oaks: SAGE/Pine Forge Press.
- Favell A., 2003. Integration nations: the nationstate and research on immigrants in Western Europe, Comparative Social Research, Vol. 22, pp. 13-42.
- Jacobson D., Deckard N.D., 2014. Surveying the landscape of integration: Muslim immigrants in the United Kingdom and France, Democracy and Security, Vol. 10, no. 2, pp. 113-131.
- Kymlicka, W., 2010. The rise and fall of multiculturalism? New debates on inclusion and accommodation in diverse societies. In: Vertovec S., Wessendorf S., eds., 2010. The multiculturalism backlash: European discourses, policies and practices. London and New York: Routledge, pp. 32-50.
- Loch D., 2014. Integration as a sociological concept and national model for immigrants: scope and limits, Identities: Global Studies in Culture and Power, Vol. 21, no. 6, pp. 623-632.
- Meer N., Modood, T. 2012. How does interculturalism contrast with multiculturalism? Journal of Intercultural Studies, Vol. 33, no. 2, pp. 175-196.
- Modood T., 2013. Multiculturalism. 2nd ed. Cambridge: Polity Press.
- Morawska E., 2009. A sociology of immigration. (Re)Making multifaceted America. New York: Palgrave Macmillan.
- Nagle J., 2009. Multiculturalism’s double bind: creating inclusivity, cosmopolitanism and difference. Farnham: Ashgate Publishing Ltd.
- Portes A., 2001. Introduction: the debates and significance of immigrant transnationalism, Global Networks, Vol. 1, no. 3, pp. 181-193.
- Portes F., Fernández-Kelly P., Haller, W., 2009. The adaptation of the immigrant second generation in America: A theoretical overview and recent evidence, Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 35, no. 7, pp. 1077-1104.
- Portes A., Guarnizo L.E., Landolt P., 1999. The study of transnationalism: pitfalls and promise of an emergent research field, Ethnic and Racial Studies, Vol. 22, no. 2, pp. 217-237.
- Portes A., Rumbaut R.G. 2006. Immigrant America: a portrait. 3d ed. Berkley: University of California Press.
- Portes A., Zhou M., 1993. The new second generation: segmented assimilation and its variants, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 530, Interminority Affairs in the U.S.: Pluralism at the Crossroads, pp. 74-96.
- Quayson A., Daswani G. eds., 2013. A companion to diaspora and transnationalism. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
- Sager S., 2016. Methodological nationalism, migration and political theory, Political studies, Vol. 64, no. 1, pp. 42-59.
- Stepick A., Dutton C., 2012. The complexities and confusions of segmented assimilation. In: Schneider J., Crul M. eds., 2012. Theorizing integration and assimilation. New York: Routledge, pp. 7-25.
- Schiller N.G., 2010. A global perspective on transnational migration: Theorizing migration without methodological nationalism. In: Bauböck, R., Faist, T., 2010. Diaspora and transnationalism: concepts, theories and methods. Amsterdam: Amsterdam University Press
- Schiller N.G., Basch L., Blanc C.S., 1995. From immigrant to transmigrant: theorizing transnational migration, Anthropological Quarterly, Vol. 68, no. 1, pp. 48-63.
- Schiller N.G., Salazar N.B., 2013. Regimes of mobility across the globe, Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 39, no. 2, pp. 183-200.
- Vermeulen H., 2012. Segmented assimilation and cross-national comparative research on the integration of immigrants and their children. In: Schneider, J., Crul, M. eds., 2012. Theorizing integration and assimilation. New York: Routledge, pp. 71-88.
- Vertovec S., Wessendorf S. eds., 2009. The multiculturalism backlash. European discourses, policies and practices. New York and London: Routledge.
- Vertovec S., 2009. Transnationalism. New York and London: Routledge.
- Walters D., Phytian K., Anisef P., 2007. The acculturation of Canadian immigrants: determinants of ethnic identification with the host society, Canadian Review of Sociology, Vol. 44, no. 1, pp. 37-64.
- Wimmer A., Schiller N.G., 2002. Methodological nationalism and beyond: nation-state building, migration and the social sciences, Global Networks, Vol. 2, no. 4, pp. 301-334.
- Бурдье П. Поле науки//Социологическое пространство Пьера Бурдьё . -Режим доступа: http://bourdieu.name/content/burde-pole-nauki
- Иглтон Т. Идея культуры. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012.