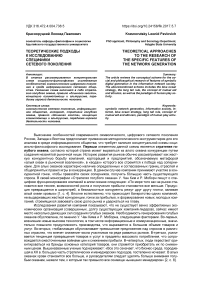Теоретические подходы к исследованию специфики сетевого поколения
Автор: Красноруцкий Леонид Павлович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 5, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается концептуальная схема социально-философского исследования особенностей символического цифрового поколения в среде информационного сетевого общества. Указанная схема включает в себя стратегию голубого океана, правило «длинного хвоста», концепцию взаимопомощи и альтруизма, парадигму игровой деятельности человека.
Символическое сетевое поколение, информационное общество, интернет, стратегия голубого океана, правило "длинного хвоста", концепция взаимопомощи и альтруизма, парадигма игровой деятельности человека
Короткий адрес: https://sciup.org/14941266
IDR: 14941266 | УДК: 316.472.4:004.738.5 | DOI: 10.24158/fik.2017.5.7
Текст научной статьи Теоретические подходы к исследованию специфики сетевого поколения
Выяснение особенностей современного символического, цифрового сетевого поколения России, Запада и Востока предполагает применение методологического инструментария для его анализа в среде информационного общества, что требует наличия концептуальной схемы социально-философского исследования. Первым элементом данной схемы является стратегия голубого океана , согласно которой страна может вырваться из алого океана конкуренции путем создания незанятой рыночной ниши. Историю развития рынков обычно рассматривают как жесткую конкурентную борьбу компаний, корпораций и предприятий, обозначаемую метафорой «алый океан в рыночной вселенной», в «водах» которого все стремятся к победе над соперниками. Для алых океанов характерно наличие определенных и согласованных границ отраслей и общепринятых правил игры в конкуренцию. В данном случае компании принимают участие в конкурентной гонке, чтобы превзойти своих соперников, получить бо̀ льшую часть существующего спроса. В своей монографии «Стратегия голубого океана» У. Чан Ким и Р. Моборн пишут о специфике функционирования компаний в алом океане следующее: «По мере того как на рынке становится все теснее, возможностей роста и получения прибыли становится все меньше. Продукция превращается в ширпотреб, а безжалостные конкуренты режут друг другу глотки, заливая алый океан кровью» [1, с. 4]. Вполне естественно, что происходят банкротство одних компаний, не выдержавших жесткой конкуренции, гонки за прибылью, и формирование новых, молодых компаний, стремящихся завоевать свою долю рынка и удержаться на плаву.
Исследования развития компаний показывают, что не существует вечно эффективных экономических организаций (совершенных, долго существующих компаний-лидеров), сейчас имеют место несколько движущих сил создания голубых океанов. Необходимость генерирования голубых океанов обусловлена, по мнению У. Чан Кима и Р. Моборна, следующими факторами. Во-первых, возникшие новые высокие технологии, в том числе информационные и коммуникационные, значительно повысили продуктивность производства, что выражается в большом объеме товаров и услуг. Во-вторых, глобализация обусловливает превышение предложения над спросом в различных отраслях, что влечет снижение числа участников на ряде развитых рынков. В-третьих, усиливается тенденция превращения товаров и услуг в предметы массового потребления, что сопровождается ожесточенными войнами цен и снижением прибыли. В-четвертых, люди перестают ориентироваться на бренды основных категорий товаров, они стремятся приобретать их по сниженным ценам. Вышеназванные ученые подчеркивают: «Все это означает, что бизнес-среда, породившая в ХХ в. большую часть стратегических и менеджерских подходов, постепенно исчезает. В алых океанах крови становится все больше, и руководителям следует уделять больше внимания голубым океанам, нежели тем, к которым так привыкло все сонмище нынешних менеджеров» [2, с. 8].
Ситуация в глобальной экономике с необходимостью требует, чтобы компании вышли за пределы алого океана жесточайшей конкуренции и начали создавать голубой океан. В пользу этого свидетельствуют результаты исследования У. Чан Кимом и Р. Моборном 150 стратегических шагов, совершенных за 100 лет в более чем 30 отраслях (производство часов, автомобилей, компьютеров, вина и пр.). Эти шаги послужили основой успешности компаний-лидеров будущего благодаря созданию голубых океанов рыночного пространства, свободных от конкуренции и обладающих значительным потенциалом для экономического роста. Названные ученые на основе апробированного аналитического инструментария для успешного создания и освоения голубых океанов предлагают шесть принципов выхода за границы алых океанов для компаний. В качестве краеугольного камня стратегии голубого океана У. Чан Ким и Р. Моборн используют новую стратегическую логику – инновацию ценности, когда все усилия сосредоточены на создании такого скачка в ценности для потребителя и компании, который открывает новое, не подчиненное конкуренции рыночное пространство. Инновация ценности представляет сочетание инноваций и практичности, цены и издержек. Она оказывается новым способом мышления и воплощения стратегии создания голубого океана. В данном случае необходимо осуществить на практике следующие шесть принципов стратегии голубого океана: принципы разработки (реконструирование границ рынка, фокус не на цифрах, а на общей картине, выход за границы существующего спроса, правильное определение стратегической последовательности) и принципы воплощения (преодоление основных организационных препятствий, встраивание реализации в стратегию) [3, с. 22].
Именно сетевое поколение способно воплотить стратегию голубого океана в жизнь благодаря мощи информационного сетевого общества, построенного на развивающихся высоких конвергентных, в первую очередь информационных и коммуникационных, технологиях. Это означает, что для символического сетевого поколения России нет смысла принимать участие в научной и технологической гонке с высокоразвитым Западом и стремительно набирающим силу Китаем: в России до сих пор используются отрасли четвертого и пятого технологических укладов, кое-где просматриваются элементы шестого уклада, тогда как Запад интенсивно осуществляет переход к шестому технологическому укладу. Исходя из этого полагаем, что символическое сетевое поколение России сможет осуществить рывок путем создания голубых океанов посредством генерирования новых высоких технологий и производства с их помощью продуктов и услуг, которые отсутствуют на глобальном рынке. Такую возможность предоставляет сеть Интернет с ее правилом «длинного хвоста» – новой эффективной моделью бизнеса, позволяющей символическому сетевому поколению талантов России создавать технологии, не существующие в пространстве алых океанов.
Вторым теоретическим подходом исследования специфики символического сетевого поколения России является правило «длинного хвоста» , позволяющее создавать бесконечное число ниш в сети Интернет. Благодаря развитию современного интернета и Всемирной паутины WWW происходят значительные изменения в социальных институтах, экономических организациях, политических учреждениях, электронных массмедиа и других областях жизни общества, поколения и индивида. Особого внимания заслуживает функционирование сети Интернет, к которой подключены представители сетевого поколения при помощи мобильных телефонов, смартфонов, mp3, iPod и других устройств. Сейчас в условиях превышения предложения над спросом на рынках алого океана сеть Интернет способна оказать существенную помощь компаниям, отраслям и целым странам в воплощении стратегии голубого океана благодаря своей специфичности. Это связано с тем, что высокоскоростной интернет представляет собою уникальную систему, которая содержит миллиарды, по сути бесчисленное число ниш, каждая из которых способна удовлетворить индивидуализированные потребности любого пользователя.
Именно сеть Интернет привела к тому, что традиционный массовый рынок алого океана превращается в массу ниш, которую раньше не замечали и игнорировали, причем она функционирует в соответствии с правилом «длинного хвоста». Данную ситуацию западный специалист К. Андерсон характеризует следующим образом: «Эта масса ниш существовала всегда, но сейчас падает стоимость доступа к ним: потребители находят нишевые продукты, а нишевые продукты находят их; внезапно они превращаются в экономическую и культурную силу, с которой придется считаться» [4, с. 22]. Если на массовых рынках прибыль получали благодаря большему потоку, например, экономика эры радиовещания существовала посредством трансляции хитов – «больших корзин» – чтобы охватить большую, миллионную аудиторию, то экономика эры сети Интернет носит прямо противоположный характер. К. Андерсон отмечает: «Передача одного потока миллионам людей чрезвычайно дорога и затратна для Сети, оптимизированной под точечную передачу данных» [5, с. 21]. Понятно, что спрос на «большие корзины» хитов, относящиеся к алому океану, имеется и сейчас, однако он теперь отнюдь не является единственным, монопольным рынком. Этим хитам приходится конкурировать с бесчисленным множеством нишевых рынков любой величины, каждый из которых могут выделить потребители, если он удовлетворяет их вкусу.
Преимущество действующего в сети Интернет нишевого рынка заключается в том, что он нарушает общепринятое правило массовой экономики «20/80», т. е. на 20 % продуктов приходится 80 % продаж и обычно 100 % прибыли. Этому правилу противоположно правило «длинного хвоста», действующее во всех сферах жизни сетевого общества: политике, экономике, искусстве, образовании, массмедиа и пр. Оно связано с существующей экономикой изобилия, когда продукт, произведенный в одном или нескольких экземплярах и размещенный в одной из бесчисленных ниш, может найти своего потребителя в силу своей доступности [6, с. 45].
Сетевая экономика ниш, подчиняющаяся правилу «длинного хвоста», имеет три важных аспекта: демократизация средств производства, что позволяет производить больше продуктов, удлиняя тем самым «хвост»; демократизация инструментов дистрибуции, когда персональный компьютер превратил каждого человека в производителя, а интернет – в дистрибьютора, позволяя тем самым реализовать свой творческий потенциал; объединение спроса и предложения, что стимулирует развитие «экономики дара» и выражает значимость «длинного хвоста» как вершины креативности [7, с. 79]. Очевидно, что сетевое поколение России, Запада и Востока может использовать правило «длинного хвоста» для выхода современной экономики из границ алого океана с его гиперконкурентной борьбой и осуществления стратегии неконкурентного голубого океана, что в свою очередь дает возможность максимизировать мощный потенциал взаимопомощи и альтруизма.
Третьим теоретическим подходом исследования специфики символического, цифрового сетевого поколения России является связанная с интернетом и сетевым обществом концепция взаимопомощи (и альтруизма) . Одна из особенностей современного сетевого общества состоит в том, что его динамизм определяется развитием НБИКС-технологий (нано-, био-, инфо-, когно- и социальных технологий). В плане рассматриваемой проблематики немаловажное значение имеют социальные технологии, которые возникли в результате ценностно-нормативного синтеза знания и представляют тем самым определенный тип знания. Это значит, считает Г.Л. Туль-чинский, что социальные технологии представляют собой социальные практики в формате know how , т. е. осознанно сформулированной программы, дающей возможность получить желаемый результат [8, с. 22]. Другими словами, понимаемое таким образом технологическое представление знания дает возможность интерпретировать социальную сферу как сферу специфического использования технологии.
В результате аналитического философского рассмотрения роли и значения социальных технологий в развитии знаний Г.Л. Тульчинский приходит к выводу, что социальные технологии в этом аспекте – это выражение зрелости социально-гуманитарного знания, достижение им достаточно высокой ступени развития, позволяющей осуществить идею рациональности как гармоничной целостности социума [9, с. 27]. Данное положение позволяет адекватно представить значимость социальных технологий, выработанных на протяжении тысячелетнего развития человечества, начиная с примитивных орудий и заканчивая компьютерами [10]. Наука и технологии отнюдь не являются панацеей, не машины, хотя бы компьютерные, в виде интернета способны сами по себе сделать жизнь индивида, поколения, всего социума счастливой путем гармонизации социальных отношений. Все существенные вопросы могут быть решены только мужчинами и женщинами, которые должны использовать уроки истории цивилизации для понимания человеческой природы [11, p. 1097]. Другое дело, что в современном сетевом социуме информационные технологии значительно изменяют взаимоотношения между индивидами, между людьми и природой, что сказывается на значимости такой социальной технологии, как альтруизм и взаимопомощь.
Необходимо иметь в виду, что проблемы роли и значимости, истоков альтруизма и взаимопомощи давно исследуются в широком спектре наук: в философии и социологии, генетике и биологии. В свое время философ и биолог, князь-анархист П. Кропоткин в своей книге «Взаимопомощь как фактор эволюции» обосновал идею о том, что сотрудничество и кооперация выступают основными факторами выживания и эволюции вида, что внутривидовое соперничество является чуждым природе феноменом [12]. В современной науке показано, что альтруизм является одним из самых действенных факторов выживания, нормой, необходимой для существования и развития вида Homo sapiens. Аксиомой представляется положение, согласно которому кооперация и сотрудничество, а также альтруизм обеспечивают устойчивое существование общества у приматов. Отечественный биолог А. Марков пишет о связи кооперации и альтруизма следующее: «Одним из механизмов поддержания высокого уровня кооперации в коллективе животных с развитым интеллектом, таких как обезьяны, может быть так называемый реципрокный , или взаимный альтруизм. Он основан на принципе “ты мне – я тебе”. Оптимальная стратегия поведения в социуме, основанном на реципрокном альтруизме, выглядит примерно так: “Помоги другому, и он в будущем поможет тебе. А если не поможет, то больше ему не помогай (еще лучше – накажи)”» [13, с. 326].
Такого рода реципрокный альтруизм присущ виду Homo sapiens, он вошел в ядро любой культуры каждого социума в виде «золотого правила нравственности», которое гласит: «Поступай с другими так же, как хочешь, чтобы поступали с тобой». И хотя эгоистов в обществе больше, чем альтруистов, как раз альтруизм способствует его развитию, проявлению взаимопомощи, доброты, выступает фундаментом социального поведения человека и групп. Следовательно, альтруизм и взаимопомощь являют собой норму функционирования и эволюции человека, социальных групп, поколений и социума в целом. Заслуживает также внимания тот эмпирический факт, что взаимопомощь и альтруизм стимулируют креативность и долголетие индивида. Для благополучия наступающего общества, которое вырастает из информационного сетевого социума, важна ориентация на альтруизм и взаимопомощь, имеющие гигантский потенциал.
Альтруизм и взаимопомощь выступают нормой развития общества как гармоничной целостности, и именно поэтому в сетевом обществе, основанном на функционировании информационных технологий, они раскрывают свой громадный потенциал [14, с. 54]. Эта взаимопомощь (и альтруизм) рельефно проявляются в использовании представителями сетевого поколения так называемого «когнитивного излишка». Ведущий исследователь интернета профессор Нью-Йоркского университета К. Ширки в своей книге «Когнитивный излишек» показывает, что все большее число представителей дигитального (цифрового) поколения свое свободное время (когнитивный излишек) тратят на производство информации и ее публикацию в публичном пространстве интернета, принимают участие в осуществлении крупных социальных проектов [15]. Значимым является то, что К. Ширки устанавливает значение развивающихся информационных технологий для сильного роста альтруизма, благотворительности и добровольной помощи среди молодого сетевого поколения. Он перечисляет множество примеров – от самоорганизации групп для очистки города посредством социальных сетей интернета до применения специальных платформ, позволяющих собирать информацию о пострадавших во время различного рода катаклизмов и катастроф, необходимую для оказания помощи. Все это свидетельствует о том, что интернет изменяет культуру использования свободного времени и дает молодому сетевому (дигитальному) поколению разнообразный спектр инструментов для осуществления альтруизма и взаимопомощи [16].
Четвертым теоретическим подходом исследования специфики символического сетевого поколения России является парадигма игровой деятельности человека , модифицированная в концепцию геймификации, состоящую из программы лояльности, игровых механик и поведенческой экономики. Парадигма игровой деятельности занимает важное место в ряде научных дисциплин: культурологии, философии, социологии, экономике, менеджменте, психологии, педагогике и других – благодаря тому, что играет существенную роль в жизни человека. Феномен игры в современной социально-гуманитарной мысли считается самостоятельной областью изучения. Более того, широко используется эвристическая ценность игровых моделей социальной и культурной динамики, искусства, экономики и пр.
В своей фундаментальной книге «Человек играющий» И. Хейзинга обосновал тезис, согласно которому игра – это инвариант, который пронизывает основные культурные формы: искусство, философию, науку, политику, юриспруденцию, военное дело и т. д. В этой книге имеются спорные моменты, которые служат материалом для многочисленных дискуссий между другими философами и учеными [17, с. 195–196]. Главное здесь состоит в одном: игра является весьма серьезным делом, значение которого сильно возросло в информационном сетевом социуме благодаря широкому распространению компьютерных игр и использованию виртуальных технологий в различных сферах человеческой деятельности. Игра выступает методом социализации подрастающего поколения и средством их обучения будущим жизненным ролям, раскрывает систему ценностей общества, формирует способность к стратегическому мышлению, выполняет функцию безопасности, моделирует возможные ситуации будущего общества, заполняет свободное время, оттачивает грани интеллекта и т. д. [18, с. 247–250].
Игра выполняет существенные функции в динамизме современного общества, наполненного массой различных игр, начиная физическими и заканчивая компьютерными. Т.А. Апинян пишет: «Игра – одна из первичных форм человеческой активности, важнейший элемент онто- и филогенеза. Ребенок без игры, культура без игровых форм – исторический и бытовой нонсенс, порожденный экстремальными ситуациями выживания. Функции игры в обществе и отношение к ней служат показателем культурного и общественного развития, социальных, политических, идеологических ориентаций» [19, с. 5–6]. Игра также выступает формой занятия свободного времени, институтом творчества, позволяет осуществить самореализацию человека и коммуникацию между индивидами.
Значение игры заключается также в том, что, согласно К.Б. Сигову, она выполняет функцию осуществления «человека возможного», потому что в ней «человек устремлен к преодолению собственной ограниченности и скованности, к динамическому выявлению возможной полноты экзистенции» [20, с. 158]. В контексте информационного сетевого общества молодое поколение стремится реализовать свой творческий потенциал в компьютерных играх, позволяющих достичь максимального уровня креативности благодаря использованию «смешанной реальности» (mixed reality). Это достигается игрой молодых представителей сетевого поколения в «нереальное», когда происходит волшебное рождение виртуальной реальности посредством Oculus Rift VR – очков виртуальной реальности, имеющих два OLED-дисплея, каждый из которых имеет разрешение 1080 × 1200 пикселей, мозг же человека преобразует эти две картинки в трехмерный мир [21, с. 25]. Перед человеком открываются безграничные возможности для генерации воображаемых миров, которые затем можно будет воплощать в жизнь.
Необходимо принять во внимание, что новое сетевое поколение, выросшее на компьютерных играх, будучи сотрудниками компаний, государственных и некоммерческих организаций на Западе, сумели стереть границы между работой и игрой. Как подчеркивает Г. Зикерманн, «это позволяет беспрецедентным образом привлекать клиентов, сближать сотрудников и внедрять инновации, которые казались практически неосуществимыми еще десятилетие назад» [22, с. 9]. В данном случае речь идет о геймификации как процессе привлечения аудитории, которая использует лучшее из программ лояльности, игровых механик и поведенческой экономики и которая только сейчас оформилась в современной бизнес-среде на Западе. «Gartner Group прогнозирует, что к 2015 г. ее будут использовать 70 % крупнейших мировых компаний, обеспечивая с ее помощью 50 % инноваций. Более того, М2 Research ожидает, что к концу десятилетия одни только американские компании станут тратить на геймификационные технологии и сервисы около 3 млрд долл. в год. Эти цифры покажутся вам еще более впечатляющими, когда вы поймете, что к 2010 г. термин “геймификация” и не появлялся в Google Trends» [23, с. 10]. Очевидно, что геймификация придет и в Россию, осуществлять ее будет молодое сетевое поколение, повышая тем самым конкурентоспособность страны на глобальных рынках.
Ссылки:
-
1. Ким У. Чан, Моборн Р. Стратегия голубого океана. М., 2010. 272 с.
-
2. Там же. С.8.
-
3. Там же. С.22.
-
4. Андерсон К. Длинный хвост. Эффективная модель бизнеса в Интернете. М., 2012. 304 с.
-
5. Там же. С.21.
-
6. Там же. С.45.
-
7. Там же. С.79.
-
8. Тульчинский Г.Л. Социальные технологии и знание // Философские науки. 2014. № 10. С. 20–29.
-
9. Там же. С.27.
-
10. Lerner R., Meacham S., Burns E. Western civilizations. N. Y., 1988. 1098 p.
-
11. Ibid. P. 1097.
-
12. Кропоткин П. Взаимопомощь как фактор эволюции. М., 2011.
-
13. Марков А. Эволюция человека : в 2 кн. Кн. 2. Обезьяны, нейроны и душа. М., 2011. 512 с.
-
14. Асмолов Г. Интернет, сетевое общество и взаимопомощь как стандарт образования // Образовательная политика. 2011. № 1 (51). С. 53–58.
-
15. Ширки К. Включи мозги. Свободное время в эпоху интернета. М., 2012. 272 с. ; Shirky K. Cognitive surplus. Creativity and generosity in a connected age. N. Y., 2010.
-
16. Асмолов Г. Указ. соч. С. 54 ; Ширки К. Указ. соч.
-
17. Сигов К.Б. Игра // Философская энциклопедия / под ред. И.Т. Фролова. М., 2001. С. 195–196.
-
18. Волков Ю.Г., Поликарпов В.С. Человек : энцикл. слов. М., 2000. 520 с.
-
19. Апинян Т.А. Игра в пространстве серьезного. Игра, миф, ритуал, сон, искусство и другие. СПб., 2003. 400 с.
-
20. Современная западная философия : словарь / сост. и отв. ред. В.С. Малахов, В.П. Филатов. М., 1998.
-
21. Дингман Х. Oculus Rift VR: Волшебное рождение виртуальной реальности // Мир ПК. 2016. № 5. С. 25–28.
-
22. Зикерманн Г. Геймификация в бизнесе: как пробиться сквозь шум и завладеть вниманием сотрудников и клиентов. М., 2014. 272 с.
-
23. Там же. С. 10.
Список литературы Теоретические подходы к исследованию специфики сетевого поколения
- Ким У. Чан, Моборн Р. Стратегия голубого океана. М., 2010. 272 с.
- Андерсон К. Длинный хвост. Эффективная модель бизнеса в Интернете. М., 2012. 304 с.
- Тульчинский Г.Л. Социальные технологии и знание//Философские науки. 2014. № 10. С. 20-29.
- Lerner R., Meacham S., Burns E. Western civilizations. N. Y., 1988. 1098 p.
- Кропоткин П. Взаимопомощь как фактор эволюции. М., 2011.
- Марков А. Эволюция человека: в 2 кн. Кн. 2. Обезьяны, нейроны и душа. М., 2011. 512 с.
- Асмолов Г. Интернет, сетевое общество и взаимопомощь как стандарт образования//Образовательная политика. 2011. № 1 (51). С. 53-58.
- Ширки К. Включи мозги. Свободное время в эпоху интернета. М., 2012. 272 с.
- Shirky K. Cognitive surplus. Creativity and generosity in a connected age. N. Y., 2010.
- Сигов К.Б. Игра//Философская энциклопедия/под ред. И.Т. Фролова. М., 2001. С. 195-196.
- Волков Ю.Г., Поликарпов В.С. Человек: энцикл. слов. М., 1999. 520 с.
- Апинян Т.А. Игра в пространстве серьезного. Игра, миф, ритуал, сон, искусство и другие. СПб., 2003. 400 с.
- Современная западная философия: словарь/сост. и отв. ред. В.С. Малахов, В.П. Филатов. М., 1998.
- Дингман Х. Oculus Rift VR: Волшебное рождение виртуальной реальности//Мир ПК. 2016. № 5. С. 25-28.
- Зикерманн Г. Геймификация в бизнесе: как пробиться сквозь шум и завладеть вниманием сотрудников и клиентов. М., 2014. 272 с.