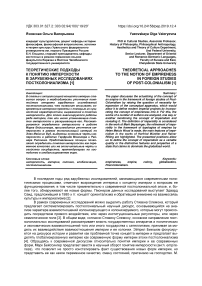Теоретические подходы к понятию имперскости в зарубежных исследованиях постколониализма
Автор: Язовская Ольга Валерьевна
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 12, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье с актуализацией концепта империи ставится вопрос о необходимости уточнения понятийного аппарата зарубежных исследований постколониализма, что позволит описывать современные имперские проекты с помощью их сущностной характеристики, выраженной в понятии имперскости. Для этого анализируются работы ряда авторов, так или иначе упоминающие понятие имперскости и раскрывающие его. Рассматривается определение имперскости в работе Марка Бейссингера, производится уточнение имперскости в рамках типологизаций империй по Элен Мейксис Вуд, выделены основные черты имперскости в работах Герфрида Мюнклера и Райнера Риллинга. Представленные позиции позволяют определить понятие имперскости как переменное качество или же отличительные черты и свойства государства, претендующего на господство в глобализированном мире.
Имперскость, империя, колония, глобализация, постколониализм
Короткий адрес: https://sciup.org/149132466
IDR: 149132466 | УДК: 303.01:327.2::303.02:94(100)“19/20” | DOI: 10.24158/pep.2019.12.4
Текст научной статьи Теоретические подходы к понятию имперскости в зарубежных исследованиях постколониализма
В последние годы ряд зарубежных исследователей, занимающихся современными политическими процессами, отмечают возрождение интереса к концепту империи и вопросам ее функционирования, в том числе применительно к современной постколониальной эпохе, и, более того, обнаруживают ее новые формы. Пионером данных исследований выступает Эдвард Саид, предложивший в 1980-х гг. концепт ориентализма и обративший внимание на взаимосвязь культуры и империализма [2].
В рамках современных исследований можно выделить работу Стивена Слемона, который предлагает систематизировать постколониальный научный дискурс, основывающийся на анализе характера взаимоотношений колонизирующего и колонизируемого, которые могут происходить посредством прямого воздействия, или через институциональные регуляторы, или через семиотическое поле [3]. В общем виде, согласно Стивену Слемону, основное направление постколониальных исследований рассматривает власть государственных аппаратов и политических и экономических взаимоотношений того или иного государства с сателлитами, принимая за модель их взаимодействия взаимоотношения империи и ее колонии. Эйприл Биккьюм фокусируется на дискурсе истории и развития как проблемной точке концепта империи и предлагает выделять глобализированную империю как современную форму империи эпохи постколониализма [4]. Обращаясь к современной дискуссии относительно понятия империи и ее современных форм, Марк Бейссингер предлагает ввести в научный оборот понятие имперскости (англ. empire-ness), что позволит не просто констатировать факт существования новых форм империи, но представить ее как некое переменное качество, смену состояний, претензию на господство. М.
Бейссингер отмечает: «…империя представляет собой ситуацию, в которой претензии на подчинение имперскому контролю становятся широко распространенными, набирают вес и становятся все более гегемонистскими» [5, р. 20].
Таким образом, значимой проблематикой зарубежных постколониальных исследований становится уточнение особенностей новой глобализированной формы империи, возникает необходимость выделения отдельного понятия имперскости как ее характеристики, требующей более детального теоретического рассмотрения.
Значительную трудность в определении имперскости создает неопределенность самого понятия империи в связи с вариативностью в ее типологизации. Рассмотрение конкретных исторических примеров позволило выработать большое число подтипов империй: империи суши или моря, военные или экономические, диктаторские или демократические, бюрократические, национальные, территориальные, колониальные или континентальные и т. д. К примеру, шотландский историк Нил Фергюсон придерживается довольно широкого понимания империи и сформулировал свою типологию, где необходимо учитывать большое число самых разных факторов. Так, политическая система может варьироваться от тирании до демократии, цели – от безопасности до налогообложения, предоставляемые общественные блага – от мира до заботы о здоровье, методы правления – от военного насилия до управления местными элитами, экономическая система – от рабства и системы плантаций до плановой, распределение выгоды разнится от интересов элит до всех жителей, характер общества – от геноцидального до ассимилятивного. В конечном итоге такое широкое понимание приводит к тому, что империями за всю историю человечества признаются порядка 70 государств, но не позволяет выделить имперскость как свойство империи [6, р. 19–20].
Альтернативную типологизацию с учетом современной ситуации постколониализма предлагает Элен Мейксис Вуд. Она отмечает, что за всю историю человечества существовало три типа империй: империи собственности (Рим, Китай), где власть удерживалась за счет собственности на землю и ее перераспределения, что давало возможность контролировать территорию, а власть над людьми осуществлялась с помощью армии; торговые империи (Османская империя, Испания, Голландия, Венеция и «первая» Британская империя XVII и XVIII вв.), чьим основным экспансионистским проектом был поиск новых торговых путей и мест, а контроль осуществлялся за счет условий перераспределения товаров; империи капитала, в основе которых лежит национальное государство с преобладанием экономического принуждения при разделении политической и экономической власти (Британская империя, французская колониальная империя или континентальная империя немецкого фашизма). Имперскость в данном контексте понимается как то, что характеризует империю, делает это состояние возможным. И в случае третьего типа империи в ее основу входят три аспекта: 1) непосредственная власть лежит в зависимости экономических субъектов от рынка, поскольку рынок ограничен и прямое принуждение становится косвенным; 2) разделение экономики и политики делает возможным многократное возрастание власти капитала; 3) различие между капиталистическим «центром» и «периферией», «ядром» и «краем», «внутренним» и «внешним» формируется экономическими рычагами. Глобальные формы империй также могут быть отнесены к третьему типу – империя капитала [7].
Более детально с понятием имперскости работают немецкоязычные авторы. Наиболее известен политолог Герфрид Мюнклер. Он употребляет понятие имперскости (нем. Imperialität) применительно к империи в том же смысле, как государственность – к государству. Таким образом, имперскость выступает определенным набором свойств и характеристик, формирующих империю, хотя сама по себе имперскость не подменяет государственность, а надстраивается над ней.
В рамках предыдущих исследований мы уже обращались к работе Г. Мюнклера [8], но для большей ясности остановимся на более подробном рассмотрении характеристик империи, чтобы уточнить понятие имперскости. В качестве имперскости как набора свойств и характеристик империи он рассматривает функции границ, распределение прав, особенности возникновения, протяженность во времени и пространстве, невозможность соблюдения нейтралитета и особую логику империй. Так, имперские границы обладают дополнительной функцией в качестве определителя степени влияния центра на периферию, полупроницаемостью для проникновения: жители империи обладают более высоким статусом и, соответственно, более свободным правом пересечения границы, нежели выходцы из соседних стран. Неоднородность наблюдается и в распределении прав: чем дальше от центра, тем меньше гарантий будет предоставляться. Что касается особенностей возникновения, то здесь Г. Мюнклер отмечает случайный характер империй: часто империи образуются по приглашению и по инициативе со стороны периферии. Империи также характеризуются как протяженные во времени и пространстве, причем последнее не всегда обозначает территорию, входящую в состав страны, но может включать и торговые пути и рынки сбыта товаров. Оценочный характер имперскости делает невозможным соблюдение нейтралитета в политическом плане. Г. Мюнклер отмечает, что «отсутствующая в рамках имперского “мира” возможность соблюдения нейтралитета, таким образом, обозначается тем, что в случае серьезной провокации этому “миру” приходится выбирать “за” или “против” имперского господства, а нейтральная сдержанность рассматривается как скрытое враждебное поведение» [9, с. 42]. В качестве еще одной характеристики империи выделяется особая имперская логика, которая позволяет осуществлять вмешательство в дела близлежащих государств-сателлитов за счет морального оправдания, часто имеющего под собой благородные посылы в виде предоставления гарантий прав и свобод и большей справедливости. Согласно Г. Мюнклеру, данные свойства империй характерны не только для классических империй прошлого, но и для современных глобализированных форм.
Профессор политической социологии Райнер Риллинг предложил наиболее подробный анализ имперскости для современных форм империи, или же, как он их описывает, имперских проектов. Первый аспект он рассматривает применительно к классической характеристике империи посредством разграничения центра и периферии. В этом ключе структура имперскости, или же имперского государства, будет состоять из главного органа управления как субъекта, формирующего взаимоотношения с периферией посредством эффективного политического контроля, чьи глубина и характер воздействия обеспечиваются посредством внутренней и внешней политики. Взаимодействие между центром и периферией организовано иерархически, где взаимосвязь с центром становится более значимой, нежели связь между отдельными частями периферии. Р. Риллинг отмечает, что «империи выделяются как своей “внутренней”, так и своей “внешней” периферией (средой), сильными преимуществами над ресурсами [капитал/богатство, закон, культура, сила] и своей способностью к присвоению (влиянию), которая устанавливает их суверенитет и локальную эффективность и, в принципе, не позволяет им покинуть имперское пространство ( выйти из него )» [10, S. 32]. Таким образом для имперскости нового типа характерно разграничение периферии: появляется внутренняя периферия, чье существование представляется как часть цивилизованного мира в соответствии с его нормами и правилами, и внешняя периферия, которая понимается как что-то исключенное из цивилизации, из империи.
Остальные аспекты имперскости оказываются связанными с характеристикой центра и периферии. К примеру, аспект политического контроля, и здесь можно говорить о формальном контроле посредством военной силы и нормативно-правового принуждения, а также о неформальном контроле-ограничении, которое накладывается экономикой и рынком. В рамках империи формируется иллюзорное социальное единство при фактическом внутреннем разнообразии и неоднородности. Империя позволяет управлять этой множественностью, опираясь и на государственные институты и акторов власти, и на своих посредников и сторонников. Устойчивость империи обеспечивается морально-политической стороной ее власти, когда силовая интервенция оправдывается высоким моральным потенциалом, например защита демократии или же предотвращение геноцида. Еще одним фактором имперскости выступает масштабирование власти посредством наращивания территорий с их ресурсами, что даст возможность наращивать экономический потенциал. Это порождает еще одну черту имперскости в виде стремления как к расширению в пространственном смысле, так и к углублению как качественному усилению характера влияния. Таким образом, границы империи становятся размытыми из-за постоянного процесса включения и исключения территорий и сфер влияния. Р. Риллинг отмечает, что «все более новая работа по разграничению внутреннего и внешнего, цивилизации и варварства, членства и изоляции, а также связанные с ними усилия войны, права, экономики и культуры по их обеспечению, которые всегда сопровождают историю имперских проектов, показывает этот постоянный импульс расширения и устранения устаревших различий» [11]. И наиболее значимой чертой имперскости выступает наличие стремления к мировому порядку и способность его установить, а в наши дни нужно вести речь о стремлении к глобализированным проектам и решении геополитических вопросов. Представленные характеристики имперскости Р. Риллинг объединяет в виде модели имперского проекта - общей структуры новых форм империи, которая характерна для эпохи постколониализма.
Итак, в рамках современных зарубежных исследований постколониализма все чаще поднимается вопрос о необходимости как систематики самого научного дискурса (С. Слемон), так и выделения специфических характеристик новых глобальных форм империи (Э. Биккьюм), которые могут быть объединены в понятии имперскости (М. Бейссингер). Исходя из типологизации империй Э.М. Вуд и теоретического осмысления имперскости в исследованиях Г. Мюнклера и Р. Риллинга, мы можем охарактеризовать имперскость как переменный набор качеств или же свойств, характеризующих государство, претендующее на господство в глобализированном мире, в число которых входят: разграничение центра и периферии с ранжированием последней на внутреннюю и внешнюю; полупроницаемость границ и неравномерное распределение прав в пользу центра; иллюзорность социального единства при фактической внутренней неоднородности общества; наличие политического контроля и морально-политического аспекта власти; протяженность во времени и пространстве, усиливающаяся стремлением к расширению; невозможность сохранения нейтралитета во взаимоотношениях с другими странами, выраженная в виде логики, оправдывающей правомерность вмешательства в дела государств с опорой на моральное оправдание. Дополнительной чертой имперскости применительно к новым формам империй в эпоху постколониализма выступает разграничение центра и периферии посредством экономических рычагов.
Ссылки и примечания:
Список литературы Теоретические подходы к понятию имперскости в зарубежных исследованиях постколониализма
- Саид Э.В. Культура и империализм / пер. с англ. А.В. Говорунова. СПб., 2012. 733 с.
- Саид Э.В. Ориентализм. Западные концепции Востока / пер. с англ. А.В. Говорунова. СПб., 2006. 636 с.
- Slemon S. The Scramble for Post-Colonialism // De-Scribing Empire: Post-Colonialism and Textuality / ed. by С. Tiffin, A. Lawson. L.; N. Y., 1994. P. 15-32
- Biccum A.R. Theorising Continuities Between Empire & Development: Toward a New Theory of History // Empire, Development & Colonialism: The Past in the Present / ed. by M. Duffield, V. Hewitt. Woodbridge; Rochester, 2009. P. 146-160
- Beissinger M.R. Rethinking Empire in the Wake of Soviet Collapse // Ethnic Politics After Communism / ed. by Z. Barany, R.G. Moser. Ithaca; L., 2005. P. 14-45
- Ferguson N. The Unconscious Colossus: Limits of (& Alternatives to) American Empire // Daedalus. 2005. Vol. 134, no. 2. On Imperialism. Р. 18-33.
- DOI: 10.1162/0011526053887419
- Wood E.M. Empire of Capital. L.; N. Y., 2003. 160 p
- Гудова Ю.В. Понятия "культурный империализм" и "имперскость" на стыке постколониальной и культурологической методологии исследований // Человек в мире культуры: проблемы науки и образования (XIV Колосницынские чтения): материалы Международной научной конференции / отв. ред. Н.Б. Кириллова. Екатеринбург, 2019. С. 20-23.
- Язовская О.В., Гудова Ю.В. Империалистический дискурс в постколониальную эпоху: обзор концептуальных подходов // Общество: философия, история, культура. 2018. № 12. С. 35-39.
- DOI: 10.24158/fik.2018.12.5
- Мюнклер Г. Империи. Логика господства над миром: от Древнего Рима до США / пер. с нем. И.В. Ланника. М., 2015. 398 с
- Rilling R. Risse im Empire. Berlin, 2008. (Reihe: Texte / Rosa-Luxemburg-Stiftung; Bd. 50). 180 S
- Rilling R. Risse im Empire. Berlin, 2008. (Reihe: Texte / Rosa-Luxemburg-Stiftung; Bd. 50). S. 41.