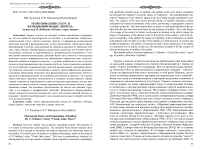Теоретический статус и функционирование эпитета: по рассказу В. Набокова "Облако, озеро, башня"
Автор: Кузнецов Илья Владимирович, Максимова Наталия Викторовна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 3 (54), 2020 года.
Бесплатный доступ
Термин «эпитет» не обладает точным понятийным содержанием. Это его свойство констатируется и в поэтике, и в лингвистике. Определить теоретический статус эпитета помогает переход от формально-семантической трактовки понятия к функциональной. Статья представляет собой анализ функционирования эпитетов, выполненный на материале рассказа В. Набокова «Облако, озеро, башня». Данный рассказ показателен, поскольку его отличает многочисленность эпитетов, их оригинальность, окказиональная сочетаемость и значительный семантический радиус действия. Кроме того, эпитеты в этом рассказе помогают усилить инвариантную для набоковского творчества тему «счастья». Взаимно связанные концепты «счастье» и «судьба» появляются в тексте, будучи сильно актуализированными при помощи эпитетов. Анализ рассказа показывает, что в нем образное содержание ряда эпитетов предвосхищает дальнейшее развитие действия, выполняя по отношению к сюжету криптографическую функцию. Сделанные наблюдения позволяют дать функциональное определение эпитета и предложить функциональные же основания для типологии эпитетов. Это степень охвата контекста действия, включенности в создание художественного образа; степень значимости определяемого слова для картины мира автора; степень оригинальности самого эпитета; степень оригинальности сочетания эпитета с определяемым словом. Так возникает представление об эпитете как полевой структуре, о его ядерных и периферийных свойствах. Возможность сформулировать индекс значимости эпитета в конкретном тексте или художественной системе закладывает теоретический фундамент для создания актуальных словарей эпитетов того или иного автора.
Эпитет, функциональный подход, в. набоков,
Короткий адрес: https://sciup.org/149127463
IDR: 149127463 | DOI: 10.24411/2072-9316-2020-00066
Текст научной статьи Теоретический статус и функционирование эпитета: по рассказу В. Набокова "Облако, озеро, башня"
Термин «эпитет» в филологии является проблемным. При кажущейся со школьной скамьи узнаваемости эпитета обозначающий его термин не имеет точного понятийного содержания. Все ли прилагательные являются эпитетами? Все ли прилагательные в переносном значении - эпитеты? Только ли прилагательные могут выступать в этой роли? Наконец, достаточно ли вообще формального критерия для определения этого понятия?.. Более того, сама постановка вопроса о критериях выделения «эпитета» в современном научном контексте отсутствует. Термин «эпитет» используется регулярно, но имеет маргинальный статус в теоретической поэтике, в стилистике, в лингвистической теории языковых средств выразительности и в теории иносказания в целом. Неслучайно словарная статья «эпитет» отсутствует как в «Лингвистическом энциклопедическом словаре» [Лингвистический 1990], так и в актуальном литературоведческом словаре «Поэтика» [Поэтика 2008] (в нем есть только отсылка к статье «Лирика»), Тогда как другие тропы представлены отдельными словарными статьями. А.П. Квятковский так определял эпитет: «Образная характеристика какого-либо лица, явления или предмета посредством выразительного метафорического прилагательного» [Квятковский 1966, 359]. Квятковский ввел понятия «эпитетные прилагательные», «эпитетные местоимения». При этом он отмечал (более 50 лет назад): «История эпитета и его роль в стилистике еще не разработана» [Квятковский 1966, 359]. С тех пор ситуация отчасти изменилась только в практическом аспекте: появился опыт составления авторских словарей эпитетов (Словарь эпитетов Бунина [Краснянский 2008], Словарь эпитетов Рубцова [Бесперстых 2016]). Но со стороны теории все остается по-прежнему. В «Словаре эпитетов», вышедшем в начале 2000-х гг, читаем: «Законченной и общепринятой теории эпитета пока не существует. В науке нет еще единого взгляда на понятие “эпитет”. Термин этот используется в самых разных смыслах» [Горбачевич 2002, 4].

Таким образом, проблема понятийного содержания эпитета не раз обозначалась впрямую.
Нерешенность вопроса об объеме понятия обусловлена, во-первых, неоднородностью признаковых конструкций, функционирующих в текстовом материале разных литературных эпох. Во-вторых, она усугубляется появлением нового отношения к слову в произведениях XIX XX вв. (особенно по сравнению с фольклорными текстами, да и с традиционной нормативной поэзией): слово здесь начинает мыслиться как инструмент преображения действительности. «Искусство <...> должно одухотворить, пресуществить нашу действительную жизнь», - определил задачу литературы и вообще искусства В. Соловьев [Соловьев 1991, 89]. Поэтому в литературе XX в. (и, в частности, у Набокова, о котором речь далее) функционирование языковых средств выразительности приобретает экспериментальный характер [Очерки 1995]. Ведь при помощи слова осуществляется творчество мира. Сильно повлиявший на XX в. Андрей Белый, считавший свое время «органическим» (в ницшеанской терминологии) периодом культуры, писал: «Мы бессознательно чувствуем, что в самом звуковом и образном выражении скрыт глубочайший жизненный смысл слова - быть словом творческим» [Белый 1994, 134].
На наш взгляд, недостаточно ставить вопрос только о широком и узком понимании эпитета - подобно тому, как это делается, например, в [Горба-чевич 2002]. Следует задаться вопросом о функциональной природе эпитета - в отличие от ее формально-семантической трактовки. Представляется, что сделать это можно на материале рассказов Владимира Набокова, среди которых мы остановимся на рассказе «Облако, озеро, башня» (далее - ООБ). В нем атрибутивная семантика создает одну из концептуально значимых линий, порождая разные формы выражения - в том числе разнообразные виды признаковых слов, большая часть из которых традиционно называется эпитетами. Функционирование эпитетов не только позволяет обнаружить и раскрыть специфику строения сюжета рассказа и создаваемых в нем образов. Данный рассказ (взятый в контексте всего творчества Набокова) дает возможность осмыслить само понятие эпитета, актуализировать его существенные признаки в теоретическом аспекте. Для этого в рассказе имеются несколько оснований. Это
-
- высокая плотность эпитетов в словесной ткани ООБ;
-
- их языковая оригинальность;
-
- окказиональная лексико-семантическая сочетаемость «эпитет + определяемое слово»;
-
- значительный «семантический радиус действия» [Ильенко 2003] ряда эпитетов, которые своим сквозным характером создают целостность смысла и текста ООБ.
Приведем из ООБ примеры «эпитетных конструкций», обладающих как концептуальным зарядом, так и языковой оригинальностью (они появляются с самого начала рассказа): кроткий холостяк; лето в полном разливе; рубашка вольного фасона, - одна из тех, которые с таким не-

терпением ждут стирки, чтобы сесть; поездка, навязанная ему случайной судьбой в открытом платье; утро - парное, с внутренним солнцем; с устрашающей легкостью; Шрам, с чем-то неопределенным, бархатногнусным, в облике и манерах. Такие определения, обладающие перечисленными выше признаками, в тексте ООБ функционируют весьма выразительно, создавая второй, атрибутивно-символический план. Их актуализация достигается разными способами: используются окказиональные эпитеты-прилагательные (бархатно-гнусный), окказиональная сочетаемость «эпитет + существительное» (бездейственно ропщущая чаща), необычно (иногда чрезмерно) развернутые определительные конструкции (причастный оборот, придаточное определительное, обособленное приложение, предикат с группой второстепенных членов) в функции эпитета, часто по принципу матрешки включающие внутрь себя определения новой ступени подчинения (самая дюжинная комнатка, с красным полом, с ромашками, намалеванными на белых стенах, и небольшим зеркалом, наполовину полным ромашкового настоя; см. также пример со словом «поездка», который приводится ниже).
В ООБ ряд эпитетов относится к словам, соотнесенным с ключевыми концептами набоковской картины мира. Это касается слова «счастье» и связанного с ним понятия. Тема счастья была сквозной у Набокова с того раннего времени, когда он подписывал свои произведения многозначительным псевдонимом: Сирин [Кузнецов 2000]. В прозе европейского периода эта тема просто-таки лежит на поверхности. Первый сборник рассказов «Возвращение Чорба», по сути, представляет собой манифестацию этой темы. Он и возник как цикл сюжетно разъединенных глав неосуществленного романа «Счастье»: «Сборник “Возвращение Чорба” весь, как околосолнечная система, поворачивается вокруг романа “Счастье”» [Толстой 1991, 148]. «Рассказы в “Возвращении Чорба” разнообразны по своей тональности, и пожалуй наиболее удивительным является острое ощущение счастья жизни. <...> Мотив жизнелюбия - сквозной для сборника» [Мулярчик 1997, 96].
Для самого писателя как личности счастье - это некий первообраз, архетип. А.К. Жолковский ввел для обозначения такого первообраза в индивидуальной творческой системе понятие «инвариантной темы»: «Инвариантная тема - это та любимая мысль автора, в свете которой он - вольно или невольно - видит вещи. Художественный смысл любого фрагмента образуется совмещением некой локальной темы (изображаемых объектов, выражаемых чувств) с инвариантной» [Жолковский 1976, 33]. Такой темой в творчестве Владимира Набокова и была тема счастья.
С другой стороны, утверждение темы счастья у Сирина / Набокова порождалось особенностями жизненной установки писателя, повлиявшей и на его эмигрантскую биографию. Набоков, как многие эмигранты, пережил трагическую зависимость от образа России, но совершенно по-особому. «Стержень творчества Набокова до отъезда за океан составляет изживание ностальгии» [Иванова 1989, 159]. Если посмотреть на писателя
сквозь призму этой задачи, то в концепцию личности Сирина-Набокова легко вписываются и установление дистанции с соотечественниками-эмигрантами, и последующий отказ от русского языка. Слово «счастье», как можно заметить, в самом лексиконе русской культуры представлено слабо. Зато в европейской культуре, во многом гедонистической, это понятие очень важно. И настойчивое утверждение его у Набокова объяснимо. Для писателя, поставившего себе целью войти в иную культуру, оно было своеобразным мостом. Введя в свой тезаурус слово «счастье», он тем самым расширил потенциальную аудиторию, задействовав также и ожидания носителей европейской культуры.
В ООБ концепт «счастье» четырежды представлен самим этим словом. При этом трижды - в окружении эпитетов, которые нестандартно сочетаются со словом «счастье». Первое употребление - «дрожащее счастье». Окказиональность этого словосочетания подтверждается его отсутствием в Словаре эпитетов русского языка [Горбачевич 2002], в Русском ассоциативном словаре [Русский 2002], в Национальном корпусе русского языка [Национальный корпус]. Необычность построения - знак актуального авторского смысла, привлекающий читательское внимание к разгадыванию намеченной здесь текстовой загадки. При помощи такого окказионального сочетания автор как бы говорит читателю: NB! Этот фасцинирующий прием здесь усиливается еще и тем, что словосочетание «дрожащее счастье» включено в более широкую определительно-сравнительную конструкцию, занимающую почти семь строк книжного текста. Приведем только ее часть: чудное, дрожащее счастье, чем-то схожее и с его детством, и с волнением, возбуждаемым в нем лучшими произведениями русской поэзии, и с каким-то когда-то виденным во сне вечерним горизонтом, и с тою чужою женой, которую он восьмой год безвыходно любил (но еще полнее и значительнее всего этого). В свою очередь это определение входит в более широкий определительный контекст, предметом которого является «поездка» - центральное сюжетное событие рассказа. (При этом актуализация образа-мотива зыбкости, призрачности, «дрожания» в тексте поддерживается еще одним употреблением того же эпитета: горел дрожащей звездой фонарь.) Здесь перед нами яркий пример укрупнения атрибутивной семантики, создаваемого по принципу матрешки (несколько уровней атрибуции).
Второй раз слово «счастье» появляется в кульминационной части рассказа, в одной фразе с ключевыми образами, вынесенными в заголовок. Предложение наглядно разделено при помощи тире на две части: внутренность комнаты / вид из окна. Вторая часть противопоставлена первой и стилистически (бытовое / возвышенное), и рематически (акцент конца предложения). В ней ничего не было особенного, - напротив, это была самая дюжинная комнатка, с красным полом, с ромашками, намалеванными на белых стенах, и небольшим зеркалом, наполовину полным ромашкового настоя, - но из окошка было ясно видно озеро с облаком и башней, в неподвижном и совершенном сочетании счастья . Здесь «счастье», с одной

стороны, входит в состав выразительного развернутого эпитета к «озеру с облаком и башней», а с другой - само имеет нестандартный эпитетный контекст (неподвижное и совершенное сочетание счастья). Соединение облака, озера и башни в кругозоре героя актуализирует идеал счастья-. зыбкого, нестандартного, уникального, неожиданного.
Третья конструкция «счастье + эпитет» относится к так называемым у Квятковского эпитетным местоимениям (ссылка, с. ...): то самое счастье, о котором он как-то вполгрезы подумал. Эта разновидность («тот самый..., который...») дополняет конструкции эпитетных местоимений. Показательно, что в рассказе только одно (четвертое) употребление слова «счастье» остается вне эпитетного контекста: «прозевал счастье».
В ООБ слово «счастье» актуализирует свое значение, близкое к слову «судьба». Слово «судьба» также появляется в рассказе; и его появление так же отмечено неординарными индивидуально-авторскими эпитетами: случайной судьбой в открытом платье ; (старался высмотреть хоть одну) замечательную судьбу - в форме скрипки или короны, пропеллера или лиры . Употребление индивидуально-авторских эпитетов способствует маркированию лексем «счастье» и «судьба» и их смысловому сближению.
Итак, роль эпитетов в ООБ не сводится к образному определению лексем. В ряде случаев именно эпитеты выражают концепты художественного мира Набокова - те мотивационные (мировоззренческие) категории, «которые работают в пределах данной индивидуальной системы художественного мышления» [Борухов 1992, 9-15]. И в этих самых случаях проявляется другая функция эпитетов в рассказе - проспективная, предвосхищающая, когда читательские действия остановки-удивления, разгадывания текстовой загадки [Фуксой 2007, 8-9], прогнозирования организованы с опорой на рематизацию эпитета. Функционирование эпитета часто связано с предстоящим развитием действия. Из-за подчеркнутой яркости эпитетов - сквозной для рассказа - возникает второй план действия, сюжета. Предвосхищение интриги происходит так: эпитет концентрирует нечто непонятное, что объясняется далее по ходу сюжета. (Почему холостяк - кроткий? Что значит лето - в полном разливе? Как это понять: воспоминание любви, переодетое лугом? Что имеется в виду: рюкзак - чудовищный?) Читатель разгадывает эту «криптограмму» эпитетов, если, конечно, не проходит мимо. Можно говорить о криптографической функции эпитета у Набокова: образная форма эпитета намечает смыслы, открывающиеся с развитием действия. Так создается не только второй план действия, но и второй событийный план («событие рассказывания») - читательский; возникает свойственная набоковским текстам «вторичная дискурсивность» [Дымарский 1999, 263-266].
* * *
Сделанные наблюдения приводят к идее систематической типологии эпитетов, имеющей функциональные основания. Параметрами для функционального описания эпитета выступят следующие позиции:
-
(1) степень охвата контекста действия, включенности в сюжетопостро-ение, в создание художественного образа. Охватывает ли данный эпитет ближайший контекст высказывания, соседних высказываний, фрагмента текста или же является сквозным для текста, его композиции, концепции?
-
(2) степень значимости определяемого слова (к которому относится эпитет) для индивидуальной картины мира автора, связь определяемого предметного концепта с опорными понятиями авторской художественной системы. Определяет ли эпитет ядерное в системе художественного мышления автора слово или относящееся к ее периферии?
-
(3) степень оригинальности (окказиональности) лексико-семантического сочетания «определяемое слово + эпитет». Является ли данное сочетание общеупотребительным, распространенным, общеязыковым или создается автором в данном тексте, принадлежит авторскому идиолекту?
-
(4) степень оригинальности (окказиональности) самого эпитета как определения. Является ли данный эпитет общеупотребительным, общеязыковым или создается автором в данном тексте, принадлежит авторскому идиолекту?
Определение контекстуальной значимости (1 и 2 позиции) требует читательской и исследовательской культуры - контекстного мышления [Максимова 2016]. А степень оригинальности / окказиональности эпитета (3 и 4 позиции) выявляется на основе его сравнения с данными, зафиксированными в таких источниках, как словарь эпитетов русского языка, словари эпитетов разных авторов, ассоциативные словари русского языка, корпусные данные (Национальный корпус русского языка, Корпус русского литературного языка), словари языка писателей, словари сочетаемости, а также иллюстративный материал толкового и других словарей.
Функциональная направленность типологии предопределяет иное содержание самого понятия «эпитет». Эпитет - это окказиональное (лексически, синтаксически) определение, образная значимость которого устанавливается контекстуально (сообразно включенности в концепцию текста). Функциональный принцип также связывает вопрос о статусе таких сочетаний, как «голубое небо», с их функционированием в конкретном тексте. Эпитет в функциональном понимании - это не слово, не словосочетание, а функция, устанавливаемая 1) по отношению к конкретному тексту 2) с применением сформулированных выше критериев. Интенсивность этой функции поддается квалификации. Приведем примеры:
дрожащее счастье - 1+, 2+, 3+, 4".
Шрам, с чем-то неопределенным, бархатно-гнусным, в облике и манерах - 1+, 2", 3+, 4+.
одно сборное, мягкое, многорукое существо, от которого некуда было деться - 1+, 2", 3+, 4".
чистое, синее озеро с необыкновенным выражением воды - 1+, 2+/_, 3+, 4".
каменными глазами - 1", 2", 3+, 4".
Соотношение «плюсов» и «минусов» по указанным критериям пока-
зывает степень ядерности или периферийности эпитета при его функционировании в тексте. Так, эпитет дрожащее (счастье) имеет три «плюса» -по первым трем критериям (1-2-3) и «минус» - по последнему критерию, поскольку само слово «дрожащее» не является окказионализмом. А эпитет бархатно-гнусным тоже обладает тремя плюсами, но с иными индексами (1-3-4), поскольку «бархатно-гнусный» - явный окказионализм, но не определяющий ядерное для авторской картины мира слово-концепт. Аналогично распределяются другие индексы к приведенным выше примерам: одно сборное, мягкое, многорукое существо, от которого некуда было деваться ++ (1-3); чистое, синее озеро с необыкновенным выражением воды +++ (1-2-3). Последний пример по второму критерию имеет обозначение «+ / -», поскольку определяемое слово является ключевым в контексте рассказа, но не в контексте всего творчества Набокова. Как видно, практический анализ и интерпретация конкретного текста указывает на возможность и потребность в более тонкой градации по тому или иному критерию.
Тот же практический анализ позволяет констатировать иерархичность системы эпитетов конкретного произведения (а также и в целом творчества автора). Одни эпитеты должны быть выделены и описаны в первую очередь, а другие - во вторую, третью и т.д. Представление о ядерных и периферийных свойствах функционирования эпитета, полевое по своей природе, открывает возможности идеографического описания эпитетов. Для каждого эпитета в конкретном тексте или в художественной системе автора можно сформулировать свой индекс значимости: тогда эпитеты с максимальным индексом составят ядро такого описания, а убывание индекса характеризует его периферию.
В этом контексте открывается и возможность создания актуальных (идеографических) словарей эпитетов разных авторов. Такие словари преодолеют два наиболее существенных недостатка имеющихся словарей эпитетов. Первый недостаток: построение существующих словарей эпитетов [Горбачевич 2002], [Бесперстых 2016] обыкновенно идет не от эпитета, а от определяемого слова (чтобы найти тот или иной эпитет, нужно обратиться к слову, которое он определяет). В практическом плане это существенно затрудняет поиск эпитета в словаре; не дает возможности сравнения эпитетов, оперирования ими. А в теоретическом плане - снижает статус эпитета как самостоятельного явления. Использование предложенных критериев позволяет идти в словаре не от определяемого существительного, а от эпитета. В таком случае слово-эпитет (и конструкцию-эпитет) можно расположить в качестве заголовочного компонента словарной статьи. Тогда словарь будет состоять не из определяемых слов, а из словарных статей, начинающихся именно эпитетом. По такому принципу впервые был построен словарь эпитетов И. Бунина [Краснянский 2008], однако обилие эпитетов, расположенных в алфавитном порядке и описываемых в словарной статье лишь иллюстративным способом, не позволило высветить специфику эпитета И. Бунина в отличие от эпитетов других

писателей.
Второй недостаток существующих словарей эпитетов: доминирование алфавитного порядка. Алфавитный принцип уравнивает все эпитеты, делая словарный список чрезмерно объемным, немаркированным, безразличным к степени значимости эпитетов для художественной системы данного автора. Целесообразно выделить «индексальные блоки» эпитетов, т.е. блоки с тем или иным показателем актуальности эпитета для конкретного текста или творчества автора в целом. Алфавитный же принцип может сохраняться, но внутри блока эпитетов с определенным индексальным показателем. (При этом следует учитывать и переходные случаи.) Тогда словник словаря эпитетов будет не только состоять из заголовочных эпитетов, но и начинаться ядерным для автора блоком эпитетов. Далее будут располагаться эпитеты, характеризующиеся меньшим индексом значимости. Блоков может быть несколько; внутри них алфавитный принцип может сохраняться - а может и вытесняться принципом частотности (степени встречаемости конкретного эпитета в текстах автора).
Гипотетически охарактеризованный словарь будет действительно словарем эпитетов (а не определяемых ими слов), и при этом - словарем эпитетов автора, отражающим его ценностное отношение к слову, мировоззренческие установки и индивидуальный словесный код. Такой словарь поможет как описанию авторского слова, так и исследованию концептос-феры автора.
Список литературы Теоретический статус и функционирование эпитета: по рассказу В. Набокова "Облако, озеро, башня"
- Белый А. Магия слов // Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 131-142.
- Бесперстых А.П. Словарь эпитетов Николая Рубцова (поэзия). Вологда, 2016.
- Борухов Б.Л. Введение в мотивирующую поэтику // Филологическая герменевтика и общая стилистика. Тверь, 1992. С. 8-18.
- Горбачевич К.С. Словарь эпитетов русского языка. СПб., 2002.
- Дымарский М.Я. Проблемы текстообразования и художественный текст. СПб., 1999.
- Жолковский А.К. К описанию одного типа семиотических систем (поэтический мир как система инвариантов) // Семиотика и информатика. Вып. 7. М., 1976. С. 27-61.
- Иванова Е. Владимир Набоков: выломавшее себя звено // Литературная учеба. 1989. № 6. С. 153-161.
- Ильенко С.Г. О семантическом радиусе действия предложения в тексте // Ильенко С.Г. Русистика: избранные труды. СПб., 2003. С. 352-358.
- Квятковский А.П. Поэтический словарь. М., 1966.
- Корпус русского литературного языка. URL: http://www.narusco.ru (дата обращения 12.07.2019).
- Краснянский В.В. Словарь эпитетов Ивана Бунина. М., 2008.
- Кузнецов И.В. Мистерия Сирина: анализ новелл Владимира Набокова, материалы для занятий. Новосибирск, 2000.
- Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
- Максимова Н.В. Культура ассоциирования как концептуальная база контекстного мышления // Концепт и культура: сб. статей VI Международной научной конференции. Кемерово; Ялта, 2016. С. 63-68.
- Мулярчик А.С. Русская проза Владимира Набокова. М., 1997.
- Национальный корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru (дата обращения 12.07.2019).
- Очерки истории языка русской поэзии ХХ века: опыты описания идиости-лей / под ред. В.П. Григорьева. М., 1995.
- Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / гл. науч. ред. Н.Д. Тамарченко. М., 2008.
- Русский ассоциативный словарь: в 2 т. / Ю.Н. Караулов и др. М., 2002.
- Соловьев В.С. Общий смысл искусства // Соловьев В.С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991. С. 73-89.
- Толстой Ив. Рассказ В. Набокова «Лик» - Малая Вселенная // Грани. 1991. № 159. С. 147-156.
- Фуксон Л.Ю. Чтение. Кемерово, 2007.