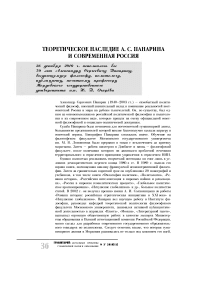Теоретическое наследие А. С. Панарина и современная Россия
Автор: Доленко Дмитрий Владимирович
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Персона номера
Статья в выпуске: 3 (11), 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются основные идеи и подходы теоретического наследия А. С. Панарина. Анализируются его концепция политики, политического прогнозирования, его взгляд на проблемы стоящие перед Россией в XXI веке
Политическая философия, политология, политика, культура, "реванш истории (российская стратегическая инициатива в xxi в.)", "искушение глобализмом", вестернизация, олигархическая демократия, номенклатурный капитализм
Короткий адрес: https://sciup.org/14720562
IDR: 14720562
Текст научной статьи Теоретическое наследие А. С. Панарина и современная Россия
Александр Сергеевич Панарин (1940 —2003 гг.) — самобытный политический философ, внесший значительный вклад в понимание реальностей постсоветской России и мира на рубеже тысячелетий. Он, по существу, был одним из основоположников российской политической философии и политологии в их современном виде, которые пришли на смену официальной советской философской и социально-политической доктринам.
Судьба Панарина была нетипична для постсоветской гуманитарной элиты, большинство представителей которой вполне благополучно сделали карьеру в советский период. Биография Панарина сложилась иначе. Обучение на философском факультете Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова было прервано в связи с исключением за критику марксизма. Затем — работа шахтером в Донбассе и вновь — философский факультет, после окончания которого он занимался проблемой сочетания территориального и отраслевого принципов управления в отраслевом НИИ.
Однако полностью реализовать творческий потенциал он смог лишь в условиях демократических перемен конца 1980-х гг. В 1989 г. вышла его первая книга, посвященная анализу французской неоконсервативной философии. Затем за сравнительно короткий срок он опубликовал 20 монографий и учебников, в том числе книги «Философия политики», «Политология», «Реванш истории», «Российская интеллигенция в мировых войнах и революциях», «Россия в мировом геополитическом процессе», «Глобальное политическое прогнозирование», «Искушение глобализмом» и др., большое количество статей. В 2002 г. он получил премию имени А. И. Солженицына за работы «Реванш истории: российская стратегическая инициатива в XXI веке» и «Искушение глобализмом». Панарин вел научную работу в Институте философии, руководил кафедрой теоретической политологии философского факультета Московского университета, занимался активной публицистической деятельностью в журналах «Власть», «Москва», «Литературной газете», выполнял огромную общественную работу в качестве эксперта Министерства образования и Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации, много сделал для разработки современного государственного образовательного стандарта по политологии. Следует отметить также, что история гуманитарного знания в Мордовии развивалась не только под влиянием его идей, но и благодаря его непосредственной помощи в становлении и развитии политологии в республике. Защита диссертаций, издание учебников и учебных пособий, открытие специальности «Политология» в Мордовском государственном университете — все это стало возможным благодаря участию Панарина. Вполне логично, что в 2002 г. он стал почетным профессором Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва.
Интеллектуальное и психологическое напряжение не могло пройти бесследно: жизнь Панарина оборвалась на пике научного творчества, но его идеи и концепции по-прежнему актуальны. Его сочинения по философии политики сделали политологию фундаментальной наукой. Политическое бытие и политическое сознание, политическая антропология и политическая праксеология, хронополитика и геополитика — вот некоторые основные концепты, на которых основана панаринская версия политологии. Научным своеобразием отличается и само понимание политики. Советский «исторический материализм» укоренил в общественном сознании представление о политике как о «надстройке» над экономическим базисом, логика развития которой предопределена столь же жестко обусловленной закономерностью развития этого самого базиса, а науке оставалось лишь узнать и понять эту логику, чтобы уверенно предсказывать ход событий. Поскольку самый передовой класс и его авангард (руководящая и направляющая партия) эту логику давно поняли, всем остальным предоставлялось право лишь выполнять их гениальные предначертания и указания. Панарин же понимал политику не как надстройку, а как вид человеческой практики, посредством которой люди воздействуют на социальную среду, свою судьбу и меняют свой статус в обществе.
В противовес «истматовскому» пониманию политики как вечного монолога передового класса Панарин рассматривал ее как партнерский диалог, как искусство достижения баланса разнообразных социальных интересов, каждый из которых одинаково законен и требует учета (здесь его понимание политики поразительно перекликается с бахтинской концепцией диалога, с тезисом о том, что истина по природе диалогична).
Панарин воспринимал политику не как предопределенный, жестко детерминированный процесс, а как игру, для которой характерны неопределенность, вероятностный характер событий, их принципиальная непредсказуемость в так называемых точках бифуркации (раздвоение), где любое случайное воздействие может стать решающим, а человек имеет возможность заново решать свою судьбу посредством нахождения новых альтернатив. Надо признать, что и здесь Панарин очень близок к М. М. Бахтину, его миропониманию, согласно которому ничего окончательного в мире еще не произошло, последнее слово мира и о мире еще не сказано, мир открыт и свободен, еще все впереди и всегда будет впереди. Из этого видно, что мыслители Бахтин и Панарин пришли к сходному пониманию истории как открытого и свободного процесса, про который никто (никакая партия, класс или гений) не сказал и не скажет окончательной истины и который никто не может предсказывать с абсолютной достоверностью. История, политика — это драма, сюжет которой не написан заранее, он выстраивается по ходу действия.
Понимание Панариным природы политики органически связано с его трактовкой природы политологического знания и прогнозирования. Панарин считал, что политология дает не проекты будущего, а инструментальное, «рецептурное» знание. Она представлена не пророками, а экспертами. При этом он отмечал, что в современных политических системах неравновесного типа (к ним относится и российская, находящаяся в стадии формирования) для политолога опасна беззаботность в отношении последствий своих рекомендаций и вмешательств в хрупкую ткань общественной жизни. Современный политолог, по мнению Панарина, находится в парадоксальной ситуации: ему противопоказаны проекты тотального переустройства общества ввиду полного незнания «высших идей истории» и ее путей; в то же время, вырабатывая проекты частичных переустройств, он должен помнить, что в сильно неравновесных системах даже слабые воздействия способны дать непредсказуемые, сильные эффекты. Исходя из этого он сформулировал «моральную максиму полиголога-эксперта»: никогда не претендовать на то, что их практические технологические рецепты и рекомендации могут изменить историю в заранее заданном направлении; постоянно помните, что они способны ее изменить в непредсказуемом смысле.
С позиции такого теоретического и методологического фундамента Панарин размышлял о месте и роли России в современном мире. Стоит отметить и тот факт, что, когда большинство гуманитариев в постсоветской России искали ответы в либерально-западнической философии, Панарин и на этом этапе оказался не в общем строю. Он одним из первых в 1990-е гг. обратился к евразийской идее и начал разработку ее современной версии, из которой и родился проект «реванша истории». В чем же выражается особенность панаринской версии евразийства? Как нам представляется, в отношении к современной, западной, либеральной демократии (это обстоятельство следует выделить, потому что в работах Панарина понятия «либерализм», «либералы», «демократы», «западники» чаще всего упоминаются в критическом плане). Классическое евразийство 1920-х гг., как известно, отвергало западную демократию как чуждую цивилизационную ценность, не совместимую с евразийской природой России, и противопоставляло ей в качестве альтернативы такие ценности, как «идеократия», «демотическое государство» и т. д.
Сущность подхода Панарина заключается в следующем: демократия является продуктом западной цивилизации, получившим к концу XX в. статус общечеловеческой ценности. В обществах, не принадлежащих к западноевропейскому типу, главным тормозом демократических реформ становится устойчивость принципа «власть — собственность». Судьба демократизации здесь определяется широтой ее социально-экономической базы и социокультурной легитимации, зависящей от совместимости с национальным наследием и потребностями сохранения идентичности. Панарин противопоставляет атлантическому сценарию развития России (стратегия вестернизации, копирование западной цивилизации) евразийский, ориентированный как на признанные демократические принципы, так и на сохранение цивилизационной самобытности России. Другими словами, этот сценарий выражается в наложении «цивилизационных универсалий современного мира» (демократия и частная собственность) на унаследованные «коды» сложившихся национальных культур, традиционные российские культурные ценности, важнейшей из которых он считал православную культуру.
В поиске оригинальной цивилизационной модели состоит вызов России в XXI в., и от ее способности найти ответ на этот вызов зависит возможность «реванша истории». Однако прежде чем перейти к анализу этого проекта, необходимо еще одно общее замечание, касающееся панаринского метода политического прогнозирования.
Для философии «истмата» логика Панарина совершенно не приемлема. Эту логику мы бы назвали культурологическим детерминизмом, согласно которому судьбы власти можно заранее прочитать, заглянув в книгу культуры, и если по законам материи будущее есть продолжение настоящего, то по законам культуры будущее представляет собой вызов настоящему. С помощью такой логической схемы можно понять смысл концепции, сформулированной в книге «Реванш истории: российская стратегическая инициатива в XXI веке».
Основной пафос книги направлен против вестернизации (уподобление всех стран мира Западу). Властные и интеллектуальные элиты России, по мнению Панарина, в XX в. вели себя как последовательные эпигоны: сначала левые западники-большевики заимствовали у Запада коммунистическую идеологию и на ее основе воздвигли новый строй, ничего общего не имевший с российской культурной традицией. В конце XX в. правые западники — демократы вновь реализовали заемный образец «импортированного либерализма», оказавшийся не менее разрушительным практически и не менее антинациональным по духу, чем прежний. Негативные последствия современной вестернизации проявляются в том, что, во-первых, она снижает социокультурное разнообразие мира, во-вторых, в результате заимствования незападными обществами западной модели общественного устройства происходит не столько пересадка продуктивных типов поведения, коренившихся в протестантской аскезе, сколько внедрение в незападные культуры продуктов декаданса, в частности потребительской психологии людей, не готовых работать так, как на Западе, но стремившихся потреблять по-западному. Сегодня результатом вестернизации России являются всеобщая деморализация, денационализация и предельная социальная поляризация.
Постсоветский общественный строй в России Панарин именовал номенклатурным капитализмом (результат номенклатурной приватизации), а политический — олигархической демократией, давшей реальные права лишь немногим. Альтернативой этому строю может быть так называемый народный капитализм, который, по мнению Панарина, должен базироваться на триумвирате идей: «белой» идее державности, «красной» идее социальной защиты и идее демократической самодеятельности в хозяйственной жизни.
Кроме формационной, проект «реванша истории» имеет и геополитическую составляющую. Здесь автор исходил из принципа устойчивого развития, которое определяется критериями стабильности. Применительно к России первый критерий подразумевает, что ее геополитическое положение должно быть достаточно безопасным, а границы — нерушимыми и легитимными. Второй критерий предполагает, что геополитическое положение страны не препятствует ее экономическому, социальному и культурному развитию, выходу к мировым коммуникациям. Интересы России, по его мнению, диктуют политику реинтеграции постсоветского пространства. Полноценное при- сутствие в Европе, выход к морям, реинтеграция — таковы, по мнению политолога, условия нормального развития России.
Таким образом, российская стратегическая инициатива в XXI в. предполагает решение двух сверхзадач: во-первых, изменение общественно-политического строя в соответствии с традиционными для России политическими и культурными ценностями и, во-вторых, восстановление в той или иной форме геополитического единства на постсоветской территории.
Вышеизложенная концепция была сформулирована Панариным в 1990-е гг. Сегодня можно оценить, насколько оправдались его теоретические представления. Очевидно, следует признать наличие положительных тенденций. Геополитическое положение стало более безопасным, налицо экономический рост, решена проблема легитимности границ. Успешно развиваются экономические и политические связи со странами Европы, положительные тенденции наметились в отношениях с США, расширяется присутствие России в других важных регионах мира.
Что касается постсоветского пространства, то интеграция не стала доминирующей тенденцией: наблюдаются как дезинтеграционные, так и интеграционные процессы.
В 2000-е гг. произошли заметные перемены и во внутренней политике России: укрепление государства, его единства и территориальной целостности, усиление регулирования социально-экономических процессов. Другими словами, эта политика вполне соответствовала «идее державности». Произошло определенное усиление социальной политики, что нашло проявление в государственных программах по решению наиболее важных социальных проблем.
Государственная власть демонстрирует намерение бороться с такими проявлениями «олигархической демократии» и «номенклатурного капитализма», как сращивание власти и крупного бизнеса и коррупция, предпринимает определенные меры для развития малого и среднего бизнеса.
Очевидны и изменения в культурной жизни страны, прежде всего процесс возрождения и подъема традиционных религий России. Особенно впечатляющим является рост авторитета и влияния в общественной жизни России Русской православной церкви. Ее сегодняшнее положение в России не сравнимо с ситуацией, которая существовала в советском государстве: православие переживает небывалый подъем после эпохи государственного атеизма, а современное российское государство, являясь светским, способствует этому.
Все вышеназванное в определенной степени соответствует представлениям и ожиданиям А. С. Панарина, который верил «в творческие возможности российской культуры, в ее способность найти конструктивный ответ на беспрецедентные вызовы эпохи».
ГУМА1Н1АРНЙ: актуальные
проблемы
ГУМАНИТАРНОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ