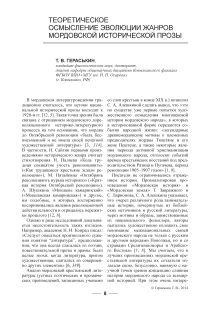Теоретическое осмысление эволюции жанров мордовской исторической прозы
Автор: Гераськин Тимур Владимирович
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Языковая палитра
Статья в выпуске: 3, 2014 года.
Бесплатный доступ
Автор предпринимает попытку рассмотреть процесс эволюции жанров в мордовской исторической прозе. Для этого привлекается исторический и фольклорный материал, использованный писателями в своих произведениях.
Историко-литературный процесс, трансформация жанра, историческая проза, крестьянская литература, роман-сказание, биографический роман
Короткий адрес: https://sciup.org/14723116
IDR: 14723116
Текст научной статьи Теоретическое осмысление эволюции жанров мордовской исторической прозы
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарёва»
(г. Ковылкино, РФ)
В мордовском литературоведении традиционно считалось, что истоки национальной исторической прозы восходят к 1920-м гг. [12, 5 ]. Такая точка зрения была связана с отрицанием мордовского дореволюционного историко-литературного процесса на том основании, что мордва до Октябрьской революции «была бесписьменной и не имела своей печатной художественной литературы» [3, 314 ]. В частности, Н. Сайгин первыми произведениями исторического жанра считает стихотворения Н. Паляева «Кода тру-диця сокицятне учость революциянть» («Как трудящиеся крестьяне ждали революцию»), М. Пятайкина «Октябрянь революциянть нурька историязо» («Краткая история Октябрьской революции»), А. Шушкина «Мокшень камаринскяй» («Мокшанская камаринская») и другие, им подобные, в которых восторженно воспринимались явления революционной действительности и отрицались пережитки прошлого [12, 8 ].
Однако в ряде исследований доказывается несостоятельность таких взглядов. Например, академик Н. И. Конрад писал: «Следует опасаться произвольного сужения понятия “литература”, предположения, что она всегда слагалась из поэзии, повествовательной прозы и драмы: были целые эпохи, когда литература, притом художественная, слагалась из совершенно других элементов» [6, 389 ].
Анализ мордовской крестьянской литературы (устных поэтических и прозаических произведений, записанных учеными со слов крестьян в конце XIX в.) позволил С. А. Алешкиной сделать вывод, что «это по существу уже первые попытки художественного осмысления многовековой истории мордовского народа», в которых в историзованной форме передаются события народной жизни: «легендарные древнемордовские мотивы о племенных предводителях мордвы Тюштяне и его жене Пештене, а также некоторые явления периода активной христианизации мордовского народа, отголоски событий времен крестьянских восстаний под предводительством Разина и Пугачева, период революции 1905–1907 годов» [1, 8].
Писатели не ограничивались отражением истории. Проанализировав произведения «Мордовская история» и «Мордовская земля» Т. Завражного и С. Ларионова, С. А. Алешкина указывает, что «через различного рода занимательные истории, почерпнутые из библейских источников и русской литературы, через мотивы и образы, заимствованные из национального фольклора, авторы пытались художественно изложить свое понимание межнациональных связей мордовского народа не только с русским и другими народами Поволжья, но и со странами Средиземноморья и Арабского Востока» [1, 8 ]. Мы считаем, что в лучших произведениях мордовской крестьянской литературы их создатели излагали свою, безусловно, наивную с научной точки зрения концепцию слияния истории мордовского народа со всемирной историей. При этом очень интере-
сен тот факт, что сюжетное действие не ограничивалось ни территориальными, ни временными рамками.
Революционная действительность потребовала от литературы беспощадной борьбы со старым миром. Стихотворения 1920-х гг. носили открыто агитационный, плакатный характер. Однако новая реальность внесла настолько огромные изменения в быт и психологию людей, что поэзия и фольклор не смогли осмыслить их сущность в полной мере. Этой причиной обусловлено появление новых жанров, новых традиций в мордовской литературе.
В тематике произведений происходило постепенное расширение действия во времени и пространстве. Герои изображались в разное историческое время: до революции и после. Сопоставление позволяло авторам показать влияние революционных событий на судьбу конкретного человека. Таким образом, в 1920-е гг. «формула “прошлое-настоящее” обрела контуры будущей исторической романистики, которая, зародившись в недрах поэтических жанров, постепенно осваивалась и жанрами прозаическими» [12, 9 ]. В середине 1920-х гг. ведущим литературным жанром стал рассказ. Писатели стремились осмыслить и отобразить участие своего народа в революционноосвободительной борьбе; наметилась тенденция к географическому прослеживанию судеб отдельных представителей мордовского народа в сражениях на фронтах Гражданской войны.
Отказ от статичной формулы «прошлое-настоящее» заметен в рассказе Д. Морского «Бедной Олодя» («Бедняк Володя», 1923). Характер главного героя, показанный в движении, «увеличивал событийное богатство произведения, требовал от художника умения из событийной цепи выбора главных, основных звеньев, подчинения их определенной художественной логике» [9, 31 ]. Следует отметить максимальное упрощение писателями сюжетов своих произведений, стремление к доступности, обусловленное общим уровнем культуры читателя.
А. Куторкин и А. Дуняшин в своем творчестве от рассказа переходят к созданию крупных художественных форм. С конца 1920-х – начала 1930-х гг. заметна тенденция писателей к осознанному историзму – достоверному воспроизведению исторических событий и характеров героев. Тема революционной борьбы народных масс обретает черты зрелости: социально-классовые конфликты разрешаются в динамике. Вследствие этого на рубеже 1920–1930-х гг. литераторы обращаются к исторической тематике: А. Куторкин в романе «Раужо палмань» («Черный столб», 1932), А. Дуняшин в романе «Кирва тол» («Вечный огонь», 1929).
При сохранении литературных традиций и национальных черт жанровое многообразие помогает писателям создать широкую панораму исторического прошлого своего народа. Особенностью современной мордовской исторической прозы является взаимопроникаемость различных жанрово-стилевых структур.
Литературовед М. М. Кузнецов говорит о появлении в 1920–1930-е гг. нового типа романа, приближенного к многоохватному эпическому жанру: «От романа ждали решения многих проблем: воплощения в самых широких, монументальных формах образа революционного народа; не только отражение, но и осмысление величайшего революционного перелома; ждали настоящего героя современности» [7, 257 ]. Уже на базе нового романа, продиктованного грандиозными сдвигами в истории и развитии литературы, выделяется исторический роман.
В мордовской литературе 1920–1930-х гг. также готовилось появление исторических романов. Время оказалось до отказа заполненным событиями огромной значимости (Октябрьская революция, Гражданская война и др.). В общественных отношениях, психике человека происходила глубинная перепашка – сама эпоха чУ) Финно–угорский мир. 2014. № 3 была исторична. Возникла потребность постичь прошлые эпохи.
Далекое историческое прошлое мордовского народа разрабатывается в эти годы в основном в поэтических жанрах: в поэмах П. Кириллова «Утро на Суре», Я. Кулдуркаева «Эрмезь», Н. Эркая «Песня о Раторе», романе в стихах А. Куторки-на «Ламзурь». Авторы этих произведений обращаются к разным периодам истории родного народа. Например, «Ламзурь» (1941) повествует о восстании мордвы Терюшевской волости Нижегородской губернии в 1743–1745 гг. «Ламзурь», по мнению М. И. Ломшина, – одно из первых в мордовской литературе произведений на историческую тему, в основе которого лежат подлинные события, а главные герои – реальные исторические лица [8, 7 ]. Лироэпическая поэма Н. Эркая «Песня о Раторе» (1934) посвящена борьбе мордовского народа против царского колониального ига. Интересны пьесы П. Кириллова «К. Алексеев» (1935) и «Литова» (1939). Первая посвящена восстанию мордвы 1808–1810 гг. под предводительством Кузьмы Алексеева. Сюжетную основу «Литовы» составили события, связанные с участием мордовского народа в антикрепостническом восстании под предводительством Степана Разина.
Рост национального самосознания мордовского народа объективно способствовал разработке исторической тематики. Однако, по мнению В. М. Макуш-кина, «не только недостаточное развитие исторической науки сдерживало обращение к другим эпохам... Хотя потребности того времени ставили такие задачи, наши художники еще не умели спрессовывать большие отрезки времени исторических эпох и увязывать их с современными потребностями общества» [9, 68 ].
В 1920–1950-е гг. преобладающей жанровой формой произведений мордовской литературы на историческую тематику являлись эпическая поэма и стихотворная драма («Литова» П. Кириллова, «Песня о Раторе» Н. Эркая, «Ламзурь» и «Яблоня у большой дороги» А. Куторкина, «Эр- мезь» Я. Кулдуркаева). Начиная с 1960-х гг. в произведениях исторической тематики заметно преобладают прозаические формы. Это качественно новый признак мордовской литературы того периода. В прозаическом произведении, как правило, влияние исторического документа превалирует над фольклорным источником. Писатели Мордовии активно осваивают жанр многопланового эпопейного историко-революционного романа.
Мордовский исторической роман во второй половине ХХ в. стремительно развивается, обретает новые внутрижан-ровые формы. Можно выделить четыре наиболее характерные разновидности исторического романа.
К первому типу относится историкореволюционный роман, сохраняющий устойчивые позиции. Среди произведений этого периода особое место принадлежит роману-трилогии А. Куторкина «Лажныця Сура» («Бурливая Сура», кн. 1. 1969; кн. 2. 1972; кн. 3. 1987), в котором писатель воссоздает события периода 1890–1930-х гг.
В 1970–1980-е гг. произведения мордовской литературы на историкореволюционную тематику тяготеют к крупномасштабным формам, прежде всего дилогиям и трилогиям. Выходят первые книги трилогии А. Щеглова «Кавксть чачозь» («Дважды рожденный», кн. 1. 1980; кн. 2. 1988), романы А. Мартынова «Толонь селмот» («Огненные крылья», 1984) и «Даволдо икеле» («Перед ураганом», 1988).
В историко-революционной прозе обновляющие тенденции переплетаются с традицией. Она уже не ограничивается художественным исследованием восприятия на территории Мордовии событий русских революций и Гражданской войны, но вбирает в себя все события русской истории первой половины XX в., все большее внимание перенося на изображение созидательных начал жизни.
Второй тип – это стремительно развивающийся жанр сказания. Например, в повести «Гурьян» В. Левина (1978) объ- ектом изображения стали ногайские набеги на мордву. Отсутствие достаточных исторических сведений об этом периоде заставило писателя построить произведение на основе легенд, что нашло отражение как в способе показа событий, так и в системе персонажей. Писатель яркими красками изобразил борьбу мордовского народа против ногайцев.
В конце 1980-х гг. два романа-сказания создал К. Абрамов: «Пургаз» (1988) – о жизни мордовского народа в конце XII – начале XIII в. и «Олячинть кисэ» («За волю», 1989) – о ходе Разинского восстания на территории Мордовии, во главе которого стояли Алена Арзамасская и Акай Боляев. Основу романов составили летописные материалы и архивные документы, что позволило К. Абрамову создать художественно достоверную картину прошлого [4].
Третий тип исторического романа, весьма близкий к роману-сказанию, составляет историко-приключенческий жанр. Это повесть М. Брыжинского «Половт» («Набат», 1982), рассказывающая о совместной борьбе русских и мордвы против монголо-татарских поработителей; роман Н. Учватова «Мар-куз и Лундан» (1985), в котором повествуется о драматических моментах сближения русского и мордовского народа, о первых шагах к установлению добрососедских отношений, сделанных князьями Пурешем и Юрием Всеволодовичем. Во многих эпизодах романов-сказаний (а частично и произведений историко-приключенческого жанра) заметно влияние фольклорных традиций, проявляющееся как в отборе изображаемых событий, так и в построении образной системы. Главный герой чаще всего идеализирован, а его антипод обладает всеми возможными недостатками. Ткань исторического повествования часто прерывается лирическими отступлениями, в чем ощутимо воздействие стихотворнофольклорных произведений.
Особенно сильно влияние устнопоэтического творчества сказалось при отборе художественно-изобразительных средств в повести В. Левина «Гурьян». Писатель часто использует риторикосинтаксические обороты, «зачины» многих эпизодов, что было оценено критикой как «недостаточная развитость национальных традиций художественноисторической прозы» [11, 205]. В историко-приключенческой повести М. Бры-жинского «Набат» колорит времени передается использованием архаизмов, а из арсенала фольклорных элементов писатель успешно использует художественный параллелизм.
В тематике произведений происходило постепенное расширение действия во времени и пространстве. Герои изображались в разное историческое время: до революции и после.
Сопоставление позволяло авторам показать влияние революционных событий на судьбу конкретного человека.
При сохранении литературных традиций и национальных черт жанровое многообразие помогает писателям создать широкую панораму исторического прошлого своего народа. Особенностью современной мордовской исторической прозы является взаимопроникаемость различных жанрово-стилевых структур. Происходит интенсивное внутрижанро-вое взаимодействие отдельных разновидностей исторической прозы.
В 1970-е гг. закладывает свои традиции в прозе и «биографический роман на основе богатого историко-познавательного и художественно-эстетического материала, на фоне широкой исторической панорамы сложнейшего периода русской и национальной истории» [10, 204 ]. У истоков историко-биографического романа в мордовской литературе стоял К. Абрамов. Трилогия «Сын эрзянский» (кн. 1. 1971; кн. 2. 1973; кн. 3. 1977) воссоздала жизнь и творческий путь великого скульптора С. Д. Нефедова (Эрьзи) и положила начало четвертому типу национального исторического романа.
Финно – угорский мир. 2014. № 3
Свое дальнейшее развитие жанр историко-биографического романа получил в творчестве М. Петрова. Главные герои его произведений – люди, жизнь которых оставила глубокий след в истории России: П. А. Румянцев-Задунайский, Ф. Ф. Ушаков, Алена Арзамасская. Романы «Румянцев-Задунайский», «Боярин Российского флота», «Алена Арзамасская» интересны углубленным пониманием исторических судеб мордовского народа, его неразрывной связи с русским народом [5, 215 ].
Во многом наличие исторических сведений о давно прошедших событиях предопределяло выбор писателями той или иной разновидности исторического романа. Так, роман-сказание предполагает более тесную связь с фольклором, во многом умозрительную трактовку героев, событий, поступков. Роман-сказание – прежде всего роман о «народной душе, веками складывающихся народных представлениях о доброте, честности, справедливости» [2, 37]. Писатели воссозда- ют цельный полнокровный образ народа, рисуют яркие народные типы. В этом жанре ощутимо сказывается стремление писателей восполнить недостающие исторические документы легендой или преданием. Эпизоды романов-сказаний часто весьма сомнительны с точки зрения исторической науки, но воссозданная в зримых образах и бытовых деталях жизнь народа, события далекой действительности, связанные с историческим прошлым мордвы, позволяют читателю заглянуть в глубину веков.
Для национальных исторических романов в целом характерны широкий спектр исторической типизации, реалистическое воссоздание прошлого, пристальное внимание к судьбам конкретных людей, в которых отражается жизнь. Многообразие жанров и жанровых форм повествования в мордовской исторической прозе связано с раздвинутостью тематических горизонтов жанра: здесь и далекая история, и история, которую еще помнят современники.
Список литературы Теоретическое осмысление эволюции жанров мордовской исторической прозы
- Алешкина, С. А. Формирование жанров и художественных традиций мордовской литературы конца XIX -начала XX века: автореф. дис. … канд. филол. наук/С. А. Алешкина. -Саранск, 1990. -16 с.
- Брыжинский, А. И. Современная мордовская проза: движение жанра/А. И. Брыжинский. -Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1995. -232 с.
- Воронин, А. Д. Литературные деятели и литературные места в Мордовии/А. Д. Воронин. -Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1976. -358 с.
- Гераськин, Т. В. Русь и Мордва в фольклоре и исторической прозе/Т. В. Гераськин, Е. А. Шаронова. -Саранск, 2013. -328 с.
- Гераськин, Т. В. Тема интеграции народов в современной мордовской исторической прозе (на примере произведений Михаила Петрова)//Финно-угорский мир: экономическое и социокультурное развитие. -Саранск, 2011. -С. 207-215.
- Конрад, Н. И. Запад и Восток/Н. И. Конрад. -М.: Наука, 1968. -442 с.
- Кузнецов, М. М. Пути развития советского романа/М. М. Кузнецов. -М.: Знание, 1971. -265 с.
- Ломшин, М. И. Творчество А. Д. Куторкина и развитие эпических традиций мордовской советской литературы: автореф. дис. … канд. филол. наук/М. И. Ломшин. -Саранск, 1990. -16 с.
- Макушкин, В. М. Начало пути/В. М. Макушкин. -Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1984. -148 с.
- Макушкин, В. М. Обретение зрелости/В. М. Макушкин. -Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1984. -224 с.
- Малькина, М. И. Современность исторической прозы//Современная мордовская литература. 60-80-е гг.: в 2 ч. -Саранск, 1991. -Ч. 2. -С. 200-210.
- Сайгин, Н. М. Мордовский исторический роман: автореф. дис. … канд. филол. наук/Н. М. Сайгин. -Рузаевка, 1977. -21 с.