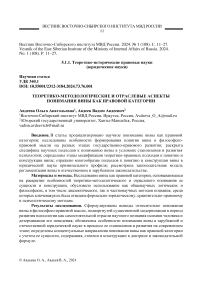Теоретико-методологические и отраслевые аспекты понимания вины как правовой категории
Автор: Авдеева О.А., Авдеев В.А.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd
Рубрика: Теоретико-исторические правовые науки (юридические науки)
Статья в выпуске: 1 (108), 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение. В статье проанализировано научное понимание вины как правовой категории; исследованы особенности формирования понятия вины в философско-правовой мысли на разных этапах государственно-правового развития; раскрыта специфика научных подходов к пониманию вины в условиях становления и развития психологии; определены этапы модификации теоретико-правовых подходов к понятию и конструкции вины; отражено многообразие подходов к понятию и конструкции вины в юридической науке криминального профиля; рассмотрена законодательная модель регламентации вины в отечественном и зарубежном законодательстве.
Правовое регулирование, правоотношение, правонарушение, субъективная сторона правонарушения, вина, виновность, юридическая ответственность
Короткий адрес: https://sciup.org/143182504
IDR: 143182504 | УДК: 340.1 | DOI: 10.55001/2312-3184.2024.73.76.001
Текст научной статьи Теоретико-методологические и отраслевые аспекты понимания вины как правовой категории
Правовое регулирование в условиях правовой государственности и формирования гражданского общества на современном этапе базируется на неукоснительном соблюдении основополагающих принципов права, одним из которых является принцип вины. Особое значение понимания вины заключается в том, что отступление от принципа виновной ответственности обусловливает нарушение законности и справедливости при принятии правового решения. Неправильная юридическая квалификация вины как признака субъективной стороны правонарушения влечет освобождение виновных от уголовной ответственности либо несправедливое осуждение лица за совершение менее опасного деяния. Неточное определение вины как признака субъективной стороны преступления на правоприменительном уровне предопределяет весьма значительную долю допускаемых судебных ошибок, варьирующуюся в пределах 20–50 % [1]. В этой связи актуализируется утверждение Г. С. Фельдштейна относительно целесообразности углубления знаний о вине и виновности лица, которые служат показателем уровня развития материального и процессуального права [2, с. 2].
В современных условиях принцип вины декларируется в нормах международного права, в частности Всеобщей декларации прав человека (ст. 11), Международном пакте о гражданских и политических правах (ст. 14), Конвенции о защите прав человека и основных свобод (ст. 6). Принцип вины постулируется в национальном законодательстве, прежде всего в конституционных нормах, в которых закреплена презумпция невиновности (ст. 49 Конституции России). Ответственности подлежит лицо лишь за виновно совершенное деяние. Объективное вменение, подразумевающее привлечение к ответственности за невиновное причинение вреда, исключается. Согласно постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 25.01.2001 г., наличие вины является общим принципом юридической ответственности во всех отраслях российского права1.
Формирование научных представлений о вине связано с развитием философско-правовой мысли, когда противоправность совершаемого деяния исследовалась в контексте с виной с учетом «восхождения» поведения человека от «чувственных форм». В античной философии, в частности в работах Аристотеля, изучению подлежала природа человека и взаимосвязь чувства вины и ответственности как основы его саморазвития. В Новое время вину стали изучать с учетом раскрытия объективных и субъективных причин ее возникновения. Так, в период развития классической немецкой философии И. Кант писал, что вина должна возлагаться на человека, учитывая его свободный разум и его действие, при всех эмпирических условиях осуществления преступления [3, с. 34].
В дальнейшем виновное осуществление деяния стало рассматриваться также с точки зрения психической деятельности человека, а именно его воли, позволяющей установить отношение к совершаемому действию. Так, Георг Вильгельм Фридрих Гегель подчеркивал, что индивид может признать своей виной «лишь то своим поступком и нести вину лишь за то, что ей известно о предпосылках ее цели, что содержалось в ее умысле» [4, с. 161]. Б. Спиноза и Г. Лейбниц в своих трудах акцентировали внимание на том, что основным признаком детерминации поведения человека является его свобода и воля [5; 6].
Таким образом, сложившееся в философско-правовой мысли представление о свободе воли означало власть человека над самим собой и свободу от внешнего принуждения.
Многообразие подходов к пониманию вины сложилось с учетом наращивания знаний в области социальной психологии. Исследования в области чувственноэмоциональной оценки вины проводились по мере развития экзистенциализма и нашли отражение в работах Э. Эриксона, Э. Фромма, К. Ясперса, М. Хайдеггера и др. Прежде всего была разработана концепция психологического механизма, согласно которой вина была включена в единый ряд регуляторов социального поведения, который представляют также страх и стыд. Действие стыда, страха и вины в качестве социальных регуляторов рассматривалось как единый психологический механизм, позволяющий обществу осуществлять контроль над соблюдением установленных социальных, в том числе моральных и этических норм. Вина как психологический механизм возникает лишь в том случае, когда человек не выполняет данные нормы. В развитие этой концепции была выдвинута вторая концепция, разработанная в соответствии с теорией эмоций, на основании которой вина представляет собой одну из этических эмоций и относится к чувствам, которые формируются у человека в результате происходящего процесса самосознания. Третий концептуальный подход, способствующий раскрытию понятия вины, был ориентирован на изучение вины как феномена, характеризующего эмоционально-ценностное отношение человека к себе и своим действиям. В данном случае исследованию подлежал процесс самооценки, когда человек за совершение им проступка испытывает чувство вины, которое возникает в результате осмысления возникшего конфликта его внутренних интересов и потребностей с общественными устоями. Вина была признана результатом чувственно-эмоционального восприятия человеком своего «рассогласованного» реального поведения с установленными общепринятыми стандартами поведения. Экзистенциальное чувство вины имеет место тогда, когда человек, являясь носителем определенных обязательств перед иными участниками общественных отношений и обществом в целом, осознает и понимает суть и последствия своего поведения. Поэтому исследователи в области экзистенциональной психологии акцентировали внимание на непосредственной взаимообусловленности чувства ответственности и вины. Что касается разработанных подходов к пониманию вины в области когнитивной психологии, то в основу исследования данного явления был положен так называемый «способ интерпретации событий», когда возникает самокритика и происходит установление взаимосвязи и причинной обусловленности событий.
Исходя из вышеизложенного, была предложена классификация вины, предусматривающая ее разграничение на три вида: 1) невротическую вину, которая порождается в результате осмысления предполагаемых к совершению действий по отношению к другим участникам общественных отношений; 2) подлинную вину, которая возникает в результате осмысления уже совершенного деяния; 3) экзистенциальную вину, которая выражает отношение человека к себе и своим поступкам с учетом осознания «неправильно прожитой жизни», «нереализованности собственных возможностей» и проявляется в виде сожаления.
Теоретико-методологические основы понимания вины как правовой категории стали разрабатывать по мере формирования и развития юридической науки. В юридической литературе активному обсуждению подлежала теория опасного состояния, суть которой состоит в том, что противоправное деяние, реализованное человеком, следует воспринимать как следствие опасного состояния личности, к которой необходимо применять меры государственного принуждения. Глубокий анализ теории опасного состояния человека был дан в трудах итальянского ученого Рафаэля Гарофало (1852– 1934 гг.). В основу избранного им подхода к правовой оценке поведения человека был положен анализ свойственных индивиду психологических и психических процессов, обусловливающих перманентную и имманентную склонность к совершению правонарушений, в том числе преступлений, что заведомо требует установления и правильной реализации мер превентивного характера.
В отечественной юридической науке учение о вине получает развитие в XIX в. в трудах Г. Ф. Шершеневича, который писал, что государство, устанавливая право и определяя меру дозволенного в поведении индивидов, должно понимать, что данные нормы «стремятся угрозою воздействовать на сопротивляющуюся волю отдельных членов», что неизбежно порождает совершение ими правонарушения [7]. Правонарушение в социальном смысле означает противоречащее или способное причинить вред правам и интересам человека и обществу в целом поведение индивида, которое затрудняет либо дезорганизует развитие общественных отношений. Правонарушение есть акт противоправного социально вредного поведения, который выражается в волевых действиях или бездействии и порождает юридическую ответственность в виде различных установленных законом неблагоприятных последствий для правонарушителя. Независимо от отраслевой принадлежности правонарушения в совокупности влекут нарушение установленного правопорядка и режима законности. Степень вины субъекта определяется предвидением или непредвидением виновным последствий своего деяния, его отношением к деянию и его последствиям.
В развитие данной теоретико-правовой конструкции вины Н. С. Таганцев считал, что лицо, учиняющее преступное или иное наказуемое деяние, при совершении противоправного посягательства находится в известном соотношении с сознанием, психической работой, предшествовавшей деятельности, проявляет хотение или волю действующего. Вследствие этого воля есть сущностный критерий при правовой оценке виновности. Всякая виновность представляет результат недостатка или дефекта воли, самонаправления и деятельности человека [8, с. 452–453]. Правовая оценка вины как признака противоправного деяния была дана в работах Н. Д. Сергиевского, который предлагал рассматривать ее через такие аспекты, как «осознание запрещения законом», понимание лицом «свойства совершаемого», «предвидение или предусмотрение последствия», «руководство осуществляемой деятельностью». В дальнейшем совокупность перечисленных признаков стали трактовать как «субъективную виновность».
-
С. В. Познышев, анализируя законодательную формулу привлечения лица к юридической ответственности, подчеркивал, что основным в материальном и процессуальном праве является доказательство вины человека. Вина в формальном и материальном смыслах может быть доказана, когда установлено, что субъектом проявлено настроение, при котором лицо действует преступным образом, осознавая или имея возможность осознавать преступный характер своего поведения, и находится при таких обстоятельствах, что мог от данного поведения удержаться, если бы у него не были недоразвиты противодействующие последнему чувства и представления [9, c. 266]. Ученый разграничивает в вине два детерминирующих поведение элемента: первый (чувственный) элемент представлен настроением лица, которое «вызывает» преступный образ действия (бездействия) (теория настроения), второй – волевой элемент, заключающийся в том, что субъект, обладая возможностью, не подавил это настроение (волевая теория).
В юридической науке XIX – начала XX вв. последовательному раскрытию по мере законодательной регламентации ответственности за виновно совершенное деяние подлежали вопросы относительно разграничения вины по степени и объему. В этой связи Н. С. Таганцев отмечал, что соотношение между волей и преступным посягательством характеризуется «различными оттенками, начиная от направления преступной деятельности соответственно с предположениями, желаниями и завершая причинением вреда или нарушением закона, в момент действия учинившим непредвиденных». Поэтому данные «оттенки виновности» порождают разграничение двух «типов» вины – умысла и неосторожности. Н. С. Таганцев утверждал, что неосторожная вина служит дополнением вины умышленной, представляя два оттенка, когда: 1) у действующего было сознание совершаемого при отсутствии хотения (преступная самонадеянность); 2) отсутствовало самосознание (преступная небрежность) [8].
Конструкция, предложенная С. В. Познышевым относительно оценки критериев разграничения вины, также содержит несколько элементов. Первым исходным элементом является наличие или отсутствие сознания того, что данное поведение и его следствие преступно. Второй элемент позволяет дать оценку поведения, когда человек, находясь в таком настроении, не сознавал следствие своего поведения. При разграничении данных критериев предлагается выделить две формы вины – умысел (dolus) и неосторожность (culpa). Разработанная теория умысла основывается на сочетании первоначально возникшей волевой теории и теории представления, предложенной во второй половине XIX в. Согласно волевой теории умысел есть хотение иметь событие, заключающее в себе преступление. «Волимые» результаты есть по своей сути желаемые результаты. Вместе с тем предлагается причислить к числу волимых такие результаты, которые субъект считал возможными следствиями своего действия, которых он не желал, но относился к ним безразлично. Согласно разработанной теории предлагается: 1) в преступном деянии различать а) действие и бездействие, б) результат, т. е. наступившие изменения, которых он достигает своим поведением; 2) умысел – рассматривать как волимую деятельность или бездействие, предвидение и хотение вероятного результата.
Поддерживая взгляды Ф. Листа, С. В. Познышев писал, что стоит разграничивать два вида умысла. Первый – преднамеренный, когда представление о результате является побудительной силой (причиной, целью, решимостью) совершения данного поведения. Прямой умысел предусматривает, что субъект считает наступление результата непосредственной и исключительной целью. Второй вид умысла предполагает, что субъект предвидел результат, но он не является побудительной силой (причиной, целью) совершения данного поведения. В данном случае имеет место эвентуальный (непрямой) умысел, когда субъект наступления результата не желает, но предвидит его и считает возможным. При этом ученый предложил выделить третий вид умысла – альтернативный, когда субъект предвидит наступление нескольких результатов. Неосторожность как вторая форма вины предполагает, что субъект не осознает, что преступный результат наступит, он не предвидит преступный результат либо предвидит его, но надеется избежать. При разграничении данных критериев неосторожности ученый усматривает возможность разграничения двух «оттенков» (видов), а именно небрежности и самонадеянности.
В XIX в., по мере активизации правотворческого процесса в области уголовной ответственности, происходит дальнейшее наращивание знаний о формах вины. По мнению А. Ф. Кистяковского, понятие неосторожности является растяжимым и относительно условным. В одних правонарушениях признаки неосторожности очевидны, в других – едва уловимы. Анализ каждого данного случая позволяет определить, принадлежит ли он к неосторожным или случайным правонарушениям. С точки зрения В. Д. Спасовича, понятие неосторожности должно включать все случаи произвольных действий преступника, не предвидевшего и не желавшего вредных последствий, с возможностью предвидения при условии предусмотрительных действий. Н. А. Неклюдов писал, что под неосторожностью стоит разуметь такие деяния, которые происходят от неосмотрительности лица. По характеру неосторожные деяния совпадают со случайными деяниями в силу сложности их практического разграничения.
Интерес представляет позиция ученых, предлагавших объединить в одном преступном деянии наличие одновременно умысла и неосторожности. Н. С. Таганцев подчеркивал, что встречаются и осложненные типы, когда преступное событие является воплощением двух или более умыслов, двух или более неосторожностей или же умысла и неосторожности. Разработке подлежала теория смешанной виновности, возникающей при совершении двух самостоятельных деяний, связанных между собой тем, что возникновение одного обусловливается предшествовавшим существованием другого. Смешанная виновность возможна при распространении последствий преступного деяния на большее, нежели предполагалось, число объектов (например, убийство, повлекшее неожиданно для виновного смерть третьего лица).
В ходе развернувшейся дискуссии, касающихся форм и видов вины, П. А. Фейербах, критически анализируя формулу «непрямого умысла» (dolus indirectus), предлагал, исходя из стечения злого намерения с неосмотрительностью, использовать новую формулу – определенная злым намерением неосмотрительность (culpa dolo determinata). В. Д. Спасович писал, что наличие в одном деянии умысла и неосторожности указывает на необходимость их рассмотрения как двух самостоятельных преступлений, требующих установления по каждому из них особого вменения. Детализируя условия, устраняющие вменение в вину, Н. С. Таганцев отмечал, что случайность деяния имеет место, когда: вполне дееспособное лицо по моральному, интеллектуальному развитию и возрасту действовало при осознании преступного деяния, влекущего преступные последствия; вынужденное физической силой деяние при осознании лицом его преступности находилось в объективных условиях, исключающих избежание нарушения закона, вследствие непреодолимой силы.
Физическое принуждение может исходить от сил природы, совершающихся в человеке биологических процессов, например, при рефлективных движениях и действиях от животного, человека, действующего бессознательно, сознательно или преступно. Таким образом, случайность посягательства исключает виновность и ответственность. Э. Я. Немировский сущность вины рассматривал с позиции совершения лицом противоречащего общественному порядку действия, имеющего характер отрицательного поведения с наличием «преступного настроения». В данном определении вины в качестве основного положения артикулируется мысль о том, что «преступный эпизод» поведения человека связан со «свойствами личности человека». Установление вины служит наложению «справедливого наказания и полному выполнению предупредительной функции» [10].
Полемика, возникшая в юридической литературе относительно сущности и дефиниции вины, правовой конструкции ее форм и видов, продолжала активно развиваться на протяжении XX в. Теоретико-методологическая конструкция вины в советской юридической литературе основывалась на определении правонарушения как виновного, противоправного, наносящего вред обществу деяния праводееспособного лица или лиц, влекущего юридическую ответственность. Вина рассматривалась как понимание и осознание лицом противоправности (недопустимости) своего поведения и возникающих при этом последствий. В результате форму вины предлагается исследовать в контексте внутренних психических процессов, отражающих содержание, связь интеллекта и воли, направленных на действие (бездействие) как объект оценки и управления. Форма вины есть способ выражения интеллектуального и волевого элементов, раскрывающих психическое отношение субъекта к общественно опасному деянию и его последствиям. Форма вины раскрывает интеллектуальное и волевое взаимодействие лица с объективными обстоятельствами, характеризующими юридическую сторону правонарушения.
Б. С. Утевский писал, что вина представляет собой совокупность обстоятельств, заслуживающих отрицательной общественной оценки от имени государства и требующих ответственности подсудимого [11, c. 59]. Поэтому, по мнению А. Н. Трайнина, актуальным является более «тщательное выяснение мысли законодателя для установления необходимой для состава преступления формы вины». Э. Я. Немировский считал, что в неосознаваемой неосторожности нет вины, но репрессия ее полезна (или даже необходима) для охраны правовых благ при современном уровне распространенности механических двигателей и развития техники. М. П. Карпушин и В. И. Курляндский, обосновывая разграничение форм вины, акцентировали внимание не на наличии связи между психической оценкой человеком происходящего и фактически наступившими последствиями, а невнимательностью, неосмотрительностью, проявленными человеком в предшествующем наступлению вреда поведении. О. С. Иоффе рассматривал в качестве основного критерия свободу воли, которая предполагает наличие способности принять решение, сделать сознательный выбор цели и осуществить необходимые для ее достижения действия.
Согласно исследованиям М. Н. Марченко, умысел как форма вины предполагает, что лицо сознает общественно опасный характер своих действий, предвидит их общественно-опасные последствия и желает (либо допускает) их наступления. Прямой умысел имеет место, когда лицо, сознавая общественно опасный характер своих действий, предвидит возможность и неизбежность его вредных последствий и желает их наступления. Косвенный (эвентуальный) умысел имеет место, когда лицо, сознавая общественно опасный характер своих действий, предвидит возможность и неизбежность его вредных последствий, но, не желая их наступления, допускает такую возможность либо безразлично к этому относится.
Неосторожность как вторая форма вины разграничена на два вида – самонадеянность (легкомыслие) и небрежность. Самонадеянность предусматривает, что лицо сознает общественно опасный характер своих действий, предвидит их общественноопасные последствия, но легкомысленно рассчитывает их избежать. Небрежность имеет место, когда лицо, сознавая общественно опасный характер своих действий, не предвидит возможность и неизбежность их вредных последствий, но может и должно было их предвидеть.
Развитие научных знаний в области юриспруденции, психологии и социологии повлекло разработку новых подходов к правовой оценке вины, что послужило более детальному осмыслению конструкции правонарушения и субъективной стороны как одного из его признаков. Исследователи отмечали, что психофизиологические качества человека влекут, с учетом происходящих психических регулятивных процессов, наступление как позитивных, так и негативных последствий.
Субъективная сторона правонарушения характеризуется осознанием субъектом как участником правовых отношений, регулируемых нормами права, внешних объективных признаков совершаемого деяния и его отношением. Содержание субъективной стороны правонарушения стало рассматриваться в контексте установления ее соотношения с теоретико-правовой конструкцией вины. Указывалось, что субъективная сторона правонарушения состоит в совокупности психофизиологических качеств, которые нашли выражение в поведении лица, в результате которого произошли негативные изменения в окружающей его объективной реальности. Таким образом, правонарушение рассматривается как результат психических процессов, происходящих внутри индивида.
Детальное изучение в юридической литературе субъективной стороны правонарушения предопределило оформление трех подходов к пониманию правовой конструкции вины.
Первый подход предусматривает позицию ученых, предлагающих отождествлять субъективную сторону правонарушения и вину, основываясь на установлении органической взаимосвязи между интеллектуально-волевой деятельностью человека и его мотивационно-эмоционального поведения. В этой связи П. С. Дагель писал, что вина представляет внутреннюю, субъективную сторону и выражена в психическом отношении лица как непосредственно к самому совершаемому общественно опасному деянию, так и к последствиям его совершения [12, c. 78]. Данная точка зрения аргументирована тем, что в законодательной формуле, регламентирующей вину и виновность, не содержится упоминания о входящих в ее содержание цели, мотиве и эмоциях. Поэтому, по мнению ученых, цель, мотив и эмоции, характеризующие психическую деятельность человека, входят в содержание субъективной стороны правонарушения через понимание формы вины, в частности при раскрытии таких категорий, как неосторожность и умысел. Такой подход к соотношению субъективной стороны и вины основан на идентификации данных понятий и взаимосвязи интеллектуально-волевой и эмоционально-мотивационной деятельности человека.
Второй подход основывается на том, что субъективную сторону правонарушения образует внутренняя психическая деятельность лица, включающая как вину, так мотив и цель. Например, И. Г. Филановский писал, что субъективную сторону преступления составляет психическое отношение лица к совершаемому преступлению, которое характеризуется формой вины, мотивом и целью. Именно анализ психологической сущности и юридического значения субъективной стороны правонарушения позволяет включить в ее содержание мотив и цели наряду с виной. Закон определяет вину через ее формы, не включая в понятие вины иных психологических моментов. Поэтому в интеллектуальном и волевом элементах умысла и неосторожности отсутствует место для мотива или цели. Таким образом, указанные элементы, согласно данному подходу, не могут выражать психическое отношение лица к деянию и его последствиям.
Третий подход к соотношению субъективной стороны правонарушения и вины основывается на психологическом содержании субъективной стороны правонарушения, которое образуют как вина, мотив, цель, так и эмоции, которые позволяют отразить формы психической активности человека.
В развитие вышеуказанных подходов исследователи указывают, что вина, являясь важнейшей составляющей субъективной стороны правонарушения, не исчерпывает ее содержания, т. к. в качестве иных ее частей стоит рассматривать мотив, цель, эмоции [13, c. 124]. Также существует точка зрения, согласно которой субъективная сторона правонарушения должна включать в свое содержание такие составляющие, как эмоции, аффект и заведомость.
Рассматривая проблему соотношения субъективной стороны правонарушения и вины, стоит отметить, что ряд исследователей предлагает понимать вину в более широком понимании. Ю. А. Демидов подчеркивает, что вина не может сводиться к конкретному элементу состава преступления, так как находит выражение, как в объективной, так и субъективной стороне правонарушения. Г. А. Злобин, разделяя данную точку зрения, пишет, что вина, составляя субъективную сторону, выступает необходимым и достаточным основанием для привлечения лица к ответственности.
Вследствие познания сущности, содержания, конструкции вины и субъективной стороны правонарушения сложились четыре теории – психологическая, оценочная, субъективно-объективная и нормативная.
В основу психологической теории в развитие вышеуказанных положений В. А. Якушин предлагает положить определение вины как психическое отношение лица к совершаемому общественно опасному и противоправному деянию, выраженное в определенных законом формах, раскрывающих связь интеллектуальных, волевых и чувственных процессов психики лица с деянием и являющихся основанием для субъективного вменения, квалификации содеянного и определения пределов юридической ответственности. В. В. Лунеев подчеркивает, что вина как психологическая категория предполагает психическое отношение лица как к совершаемому им общественно опасному и противоправному деянию, так и его общественно опасным последствиям, а также другим юридически значимым обстоятельствам совершения преступления. Эмоциональный компонент психики человека, входящий в содержание составляющего вину психического отношения, подлежит выражению посредством изменения нервно-психического тонуса эмоционального состояния, реакции человека на внезапно возникшие обстоятельства либо наличия избирательности в эмоциональных отношениях (отрицательное или положительное) применительно к определенному объекту правовой охраны. В правонарушающем поведении эмоции могут выполнять роль мотива (например, жестокость, страх, ненависть), характеризовать протекающие интеллектуальные и волевые процессы, а также обусловить возникновение состояния аффекта, представляющее собой внезапно возникшее эмоциональное состояние кратковременного характера, вызванное изменением значимых для лица жизненных обстоятельств.
Оценочный подход к правовому пониманию вины активно обсуждается на страницах юридической литературы с середины XX в. В рамках данной теории были определены два основных направления правовой оценки вины. Во-первых, предлагается при установлении вины дать оценку совокупности как объективных, так и субъективных обстоятельств совершения правонарушения. Во-вторых, вина квалифицируется с учетом моральнополитической оценки поведения человека, исходя из его «классовой» принадлежности. Оценочная теория понимания вины претерпела существенную модификацию с учетом специфики этапов государственно-правового развития и взаимосвязи морально-политических, идеологических и классовых представлений. Г. В. Верина указывает, что вина, проявляемая в форме умысла и неосторожности, имеет как психологические, так и оценочные моменты. Поэтому Г. В. Назаренко было высказано мнение о том, что целесообразным является дать юридическую оценку как содержанию, так и социальной сущности и степени вины.
Субъективно-объективный подход к пониманию вины, согласно точке зрения Б. С. Утевского, предполагает наличие таких оснований, как: 1) характеризующие обстоятельства объективного и субъективного характера, мотив, условия и последствия совершения правонарушения (преступления); 2) отрицательная на нормативном уровне правовая оценка данных обстоятельств со стороны государства; 3) принятие судом решения на основании данной оценки относительно виновности лица и привлечения к ответственности. А. М. Трухина в этой связи пишет, что вина как деятельное отношение, выраженное в поведении лица, характеризуется субъективными и объективными признаками, которые характеризуют асоциальную установку в поведенческом цикле человека и общественную опасность как социальное свойство виновного, что обусловливает применение правовых мер.
Что касается нормативной теории, то в уголовном праве под субъективной стороной преступления предлагается понимать психическую деятельность лица, направленную на формирование мотива и цели в связи совершением преступления и характеризующуюся виной. Вина признается обязательным признаком субъективной стороны каждого состава преступления. Самостоятельное значение вины как института уголовного права находит отражение в главе 5 УК РФ. Вместе с тем в уголовном законе отсутствует определение понятия вины. Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) раскрывает понятие вины в контексте законодательного оформления различных ее форм и видов. В рамках данной главы Общей части оформлению подлежат формы вины, совершенные умышленно и по неосторожности преступления, ответственность за преступления с двумя формами вины, невиновное причинение вреда (ст. 24–28 УК РФ). Уголовный кодекс регламентирует, что лицо подлежит уголовной ответственности за общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина (ст. 5 УК РФ). Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние умышленно либо по неосторожности (ст. 24 УК РФ).
Содержание субъективной стороны преступления включает три признака – вину, мотив и цель, так как каждый из названных признаков характеризует определенные виды психической деятельности. Указанные признаки следует считать взаимосвязанными и взаимообусловленными. Однако вина является неотъемлемым признаком каждого состава правонарушения, в то время как мотив и цель характеризуют отдельные составы преступлений, выступая в качестве обязательных или квалифицирующих признаков либо смягчающих или отягчающих наказание обстоятельств. Например, мотив законодательно регламентирован в составах преступлений против жизни, здоровья, свободы (п. «е1», «з», «и», «м», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «д», «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ, п. «д», «е» ч. 2 ст. 112 УК РФ, п. «а», «б» ч. 2 ст. 115 УК РФ, п. «а», «б» ч. 2 ст. 116 УК РФ, п. «з» ч. 2 ст. 117 УК РФ, ч. 2 ст. 119 УК РФ, п. «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Цели преступления имеют квалифицирующее значение в преступлениях против основ конституционного строя и безопасности государства и правосудия (ст. 276, 277, 279, 281, 2821, 294, 295 УК РФ). Законодатель предусматривает специфику ряда составов преступлений, в процессе квалификации требующей установления эмоций лица, которые он испытывает в момент совершения противоправных деяний. В предусмотренных законом случаях, например в ст. 107, 113 УК РФ, эмоции рассматриваются как подтверждающий факт, свидетельствующий о состоянии душевного волнения, и обусловливают мотив совершения преступлений. На основании вышесказанного заключаем, что признаки субъективной стороны отдельных составов преступлений надо толковать согласно диспозиции норм статей Особенной части УК РФ. Более того, для правильной квалификации субъективной стороны отдельных составов преступления применяются правила юридической техники и толкования права. В частности, следует обратить внимание на Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам об убийстве», в соответствии с которым по каждому уголовному делу данной категории должна быть установлена форма вины, выяснены мотив, цель и способ совершения преступления2.
Таким образом, в современной юридической науке в понимании вины, ее сущности, степени и объема доминирует взаимосвязь нормативного, оценочного и психологического содержания вины [14, 15]. Преобладает мнение о том, что психологическое содержание субъективной стороны преступления составляет многообразие форм психической активности человека, которые следует рассматривать с точки зрения таких юридических признаков, как вина, мотив и цель. Каждый из данных признаков предлагается исследовать с учетом их самостоятельного содержания и значения. Мотив и цель не следует включать в содержание вины ввиду того, что данные категории никаким образом не связаны с ее составляющими признаками, которыми выступают воля и интеллект. При этом ученые полагают, что мотив и цель совершения преступления предопределяют содержание вины. В контексте современных взглядов относительно форм вины стоит сказать, что В. Е. Квашис полагает, что рассмотрение неосторожной вины с аксеологических позиций приводит к необходимости понимания неосторожности, выходящего за рамки психического отношения субъекта к последствиям действий и их общественной опасности, указывающего на более широкое социально-политическое и социальнопсихологическое содержание [16, с. 29].
Вина как правовая категория имеет правовое значение для отраслей материального права, в то время как виновность относят к категории процессуального права. Например, среди обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, подлежит виновность лица в совершении преступления (п. 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ). Виновность в процессуальном праве представляет собой вину лица, доказанную с учетом обстоятельств совершения правонарушения (проступка или преступления) и установленную вступившим в законную силу приговором суда с учетом порицаемого государством психического отношения лица к его совершению и общественно опасным последствиям.
В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что теоретико-методологические и отраслевые доктринальные подходы к пониманию вины сопровождаются дальнейшим углублением знаний, ориентированным на установление взаимосвязи психологической, оценочной, субъективно-объективной и нормативной теорий, теории опасного состояния личности, позволяющих раскрыть сущность, содержание, формы и виды вины, определить степень и объем вины с учетом последствий совершенного противоправного деяния. Вина, рассматриваемая в контексте действия психологического механизма регуляции поведения человека, позволяет сделать вывод о том, что человек, вступая в правовые отношения, регулируемые законом, реализует определенные интересы, вызванные конкретной необходимостью. Осознание данного интереса влечет поиск предмета его удовлетворения, что порождает цель и мотив осуществляемой деятельности. В результате человек, руководствуясь с учетом необходимости возникшими интересом, целью и мотивом, стремится их достичь для удовлетворения своих потребностей. При наличии у лица альтернативных вариантов прогнозируемого (правомерного или правонарушающего) поведения происходит, с учетом «борьбы мотивов», выбор и принятие субъектом волевого решения об осуществлении конкретного действия, а также избираются средства достижения поставленной цели и затем реализуется задуманное деяние. Поэтому правонарушение следует характеризовать с учетом соотношения в поведении человека интеллектуального, эмоционального и волевого компонентов.
Необходимой следует признать дальнейшую последовательную трансформацию дефиниции вины с учетом противоправности поведения человека. Критериями правового понимания вины следует считать качественные и количественные характеристики, в том числе ее сущность, содержание, степень, формы и виды. Качественной характеристикой вины прежде всего является ее сущность. При этом вина как правовая категория имеет асоциальную сущность, которая проявляется в наличии у лица асоциальных установок, позволяющих ему выражать в форме действия или бездействия свое пренебрежительное, отрицательное или недостаточно бережное отношение к объектам правовой охраны. Содержание вины, выступая качественным признаком, позволяет установить осознание лицом вида и характера объектов посягательств, влекущих социально-негативные последствия.
В содержании вины в контексте анализа психической стороны деятельности лица первостепенную роль среди критериев играют три составных элемента – интеллект, сознание и воля. Наличие интеллекта определяет умственную, мыслительную деятельность человека. Если сознание с учетом состояния нервной деятельности человека рассматривается как его способность мыслить, рассуждать и определять свое отношение к предполагаемым асоциальным действиям, то субъективная воля есть способность человека принимать решение, определять правомерность и неправомерность своего поведения с имеющихся знаний и учетом чувств. Лицо в ходе осмысления предполагаемой реализации деяния осуществляет мыслительную деятельность, направленную на предвидение причинения вреда общественным отношениям, охраняемым законом. Воля рассматривается как способность человека самостоятельно осуществлять регуляцию своей деятельности, руководить своими действиями и контролировать свое поведение. Волевой акт предусматривает установление лицом цели, а также планирование средств ее достижения. Воля – практическая сторона сознания, направленная на регулирование практической человеческой деятельности. Волевое регулирование поведения предполагает сознательное направление лицом своих физических и умственных усилий на достижение поставленной цели или удержание от совершения каких-либо действий.
Волевой критерий правовой оценки содержания вины состоит в психическом отношении лица, предметом которого является отношение к предполагаемым последствиям, которое может проявляться в: 1) сознательном допущении наступления негативных последствий; 2) желании наступления негативных последствий; 3) расчете на предотвращение негативных последствий. При правовой оценке воли индивида стоит рассматривать соотношение таких критериев как: 1) свобода воли, то есть возможности самостоятельно выражать свою волю, которая проявляется в свободном выборе линии; 2) причинность с учетом взаимной связи явлений, которая заложена как в объективной действительности, так и субъективных качествах человека; 3) необходимость как потребность, без которой нельзя обойтись.
Количественной характеристикой вины является ее степень, которая позволяет определить уровень «поражения» нравственных и ценностных ориентаций лица. Понятие степени вины характеризует количественные критерии оценки асоциальной сущности вины. В результате степень вины определяется степенью отрицательного отношения лица к охраняемым законом интересам личности, общества и государства, которое проявляется в совершении правонарушения. Степень вины конкретного человека измеряется в совершении конкретного правонарушения с учетом степени искажения его ценностных ориентаций и представлений об основных социальных ценностях. Именно увеличение уровня осознания индивидом общественного асоциального значения последствий предполагаемого совершения деяния отражается на возрастании степени вины. Степень вины – это количественная социально-психологическая характеристика вины, выражающая меру отрицательного, пренебрежительного или недостаточно предусмотрительного отношения субъекта к личности, обществу или государству, проявившегося в совершении правонарушения. Возрастание вины лица в совершенном правонарушении должно иметь место по мере «увеличения» осознания общественного значения последствий деяния.
В результате определения сущности, содержания и степени вины определению и разграничению подлежат ее формы и виды. Состояние и соотношение сознания и воли образуют определенные формы вины, которые органически взаимосвязаны с мотивами и целями поведения. Форма вины – уровень соотношения интеллектуального и волевого элементов, раскрывающий психическое отношение субъекта к совершаемому общественно опасному деянию и его последствиям. Вина как психическое отношение в рамках проходящего в сознании лица мыслительного процесса к совершаемому правонарушению и предполагаемым общественно опасным последствиям находит выражение в двух формах – умысле или неосторожности.
Таким образом, значение данной теоретической конструкции на правоприменительном уровне состоит в том, что вина, выступая обязательным признаком субъективной стороны правонарушения, учитывается при отграничении правомерного от неправомерного деяния, влияет на структурирование состава правонарушения, его квалифицирующих признаков, признается субъективным основанием для привлечения лица к юридической ответственности. Теория психологического механизма регуляции поведения человека позволяет рассматривать вину с позиции субъективной стороны правонарушения и оценить внутреннюю психологическую характеристику противоправного поведения лица, заключающуюся в его психическом отношении к совершаемому деянию. Сочетание психологического, оценочного, субъективнообъективного и нормативного подходов к пониманию вины позволяет регламентировать на законодательном уровне ее конструкцию в виде форм и видов, юридически грамотно определить степень общественной опасности деяния и наступивших негативных последствий.
Список литературы Теоретико-методологические и отраслевые аспекты понимания вины как правовой категории
- Рарог, А. И. Вина в советском уголовном праве: монография. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1987. 186 с.
- Фельдштейн, Г. С. Природа умысла // Сборник правоведения и общественных знаний. М., 1898. 22 с.
- Кант, И. Сочинения: в 6 томах. М., 1965. Т. 4. Ч. II. 478 с.
- Гегель, Г. В. Ф. Философия права. М.: АН СССР, Институт философии, Изд-во «Мысль», 1990. 524 с.
- Лейбниц, Г. Новые опыты о человеческом разуме. М.–Л.: Соцэктиз, 1936. 484 с.
- Спиноза, Б. Избранные произведения. В 2-х томах. Т. 1. М.: Госполитиздат, 1957. 631 с.
- Шершеневич, Г. Ф. Общая теория права // Шершеневич, Г. Ф. Избранное: В 6 т. Т. 4, включая Общую теорию права / Вступ. слово, сост.: П.В. Крашенинников. М.: Статут, 2016.
- Таганцев, Н. С. Русское уголовное право: лекции. Часть общая. Т. 1. Тула: Автограф, 2001. 800 с.
- Познышев, С. В. Основные начала науки уголовного права. Общая Часть уголовного права. Изд. 2-е, доп. М.: Издание А. А. Карцева, 1912. 653 с.
- Немировский, Э. Я. Меры социальной защиты и наказание в связи с сущностью вины // Задачи по уголовному праву: с приложением статьи "Меры социальной защиты и наказание в связи с сущностью вины". № 51. Изд. 2-е. 2016. 136 с. (Серия: Академия фундаментальных исследований: История права).
- Утевский, Б. С. Вина в советском уголовном праве. М., 1950. 318 с.
- Дагель, П. С. Содержание, форма и сущность вины в советском уголовном праве // Известия высших учебных заведений. Правоведение: науч.-теорет. журн. Л.: Изд-во Ленингр. гос. ун-та. 1969. № 1. С. 78–88.
- Советское уголовное право. Часть общая / Под ред. Г. А. Кригера, Н. Ф. Кузнецовой, Ю. М. Ткачевского. М., 1988. 367 с.
- Валуйсков, Н. В., Бондаренко Л. В., Арутюнян А. Д. Понятие вины и виновности в уголовном праве // Балтийский гуманитарный журнал: науч. журн.: электрон. версия. Тольятти: «Институт направленного профессионального образования». 2017. Т. 6. № 3 (20). С. 345–347. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-viny-i-vinovnosti-v-ugolovnom-prave (дата обращения: 18.12.2023).
- Тарханов, И. А. Проблемы вины, виновности и деятельного раскаяния в основных уголовно-правовых системах современности (доктринальный и законотворческий аспекты) // Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2019. Т. 161. Кн. 1. С. 121–140.
- Квашис, В. Е. Преступная неосторожность. Социально-правовые и криминологические проблемы. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1986. 192 c.