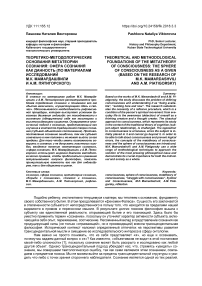Теоретико-методологические основания метатеории сознания: сфера сознания как данность (по материалам исследований М.К. Мамардашвили и А.М. Пятигорского)
Автор: Пашкова Наталия Викторовна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье по материалам работ М.К. Мамардашвили и А.М. Пятигорского рассматривается проблема определения сознания и понимания его как «бытия наличного», «существующего здесь и сейчас». Обосновывается необходимость рефлексивной процедуры, которая выступает условием духовного движения индивида: от повседневности к осознанию (обнаружению) себя как мыслящего и мыслесозидающего существа. Оспаривается классический подход к сознанию, представляющий его изучение в контексте традиционной теории познания (субъект-объектного соотношения). Противопоставление сознанию ошибочно, так как субъект изначально в нем положен и не может выйти за его пределы. Для того чтобы иметь возможность говорить о сознании и не допускать логических ошибок, вводятся понятия «метатеория сознания», «сфера сознания». М.К. Мамардашвили и А.М. Пятигорский используют широкий диапазон методологических приемов, чтобы приблизиться к решению актуальнейшего вопроса философии, показать принципиальную важность его как для индивидуума, так и для общества в целом.
Сознание, сфера сознания, метатеория сознания, "борьба с сознанием", "символ и сознание", м.к. мамардашвили, а.м. пятигорский, рефлексия
Короткий адрес: https://sciup.org/14941462
IDR: 14941462 | УДК: 111:165.12 | DOI: 10.24158/fik.2018.3.3
Текст научной статьи Теоретико-методологические основания метатеории сознания: сфера сознания как данность (по материалам исследований М.К. Мамардашвили и А.М. Пятигорского)
Подобно ребенку, инстинктивно тянущемуся к матери, мы тяготеем к основанию, фундаменту своего собственного бытия. В этом преодолевается «феномен Фалеса». Сущность его заключается в отвлеченности субъекта от непосредственного в пользу того, что находится за пределами нашей видимости в прямом и переносном смысле. В результате долгих поисков философия вышла к субъекту как единственной реальности, открывающей бытие и его познающей. Здесь было бы уместно применить термин «сознание», поскольку он уточняет характер активности субъекта, включающей в себя опыт, переживание, соотнесение. Несомненный вклад в представление сознания как продуцирующей силы (не только «отражающей», но и производящей) внесла трансцендентальная философия. Исторический контекст наложил определенный отпечаток на перспективы развития трансцендентальной мысли и смещение ее исследовательского интереса в сферу онтологии.
Нам важно не просто понимать, что из себя представляет «я», но еще и осознавать, почему мы задаем данный вопрос о «я»? Как известно, «объективизм не видит в этой постановке какой-либо сложности» [1], поскольку сознание может быть раскрыто и исследовано как любой другой объект. Однако трансцендентальный подход убеждает нас, что, стремясь «увидеть» сознание, мы совершаем тавтологическую ошибку, так как сами являемся этим сознанием, совпадаем с предметом поиска. Мы не можем выйти за пределы трансцендентальной структуры и увидеть что-либо с точки зрения стороннего наблюдателя. Сознание является одной из тех реалий, которые мы считаем само собой разумеющимися. Мы используем все ресурсы, которые они предполагают, но стоит о них задуматься, как их сущность ускользает от нас.
Констатируя данную проблему, философская наука задается необходимостью создания трудоемких технологий по тематизации сознания. Важнейшие философские стратегии в данном направлении были намечены М.К. Мамардашвили. Отталкиваясь от уже имеющихся исследований, он пришел к собственному пути «работы» с сознанием. «Работа» с сознанием предполагает особенный подход, требующий от созерцающего (философствующего) определенной подготовки. М.К. Мамардашвили скрупулезно, с точностью «хирурга» сосредоточивается на «предмете». Перед нами стоит множество дорог, каждая из которых, вполне возможно, выведет к правильному решению. Главное, не принять симулякр за истину, иметь дело с самим сознанием, а не его фикцией.
Глубокое погружение в этот непростой поиск состоялось в «Символе и сознании» - работе, которая «до сих пор еще не нашла должного отклика в философском сообществе и пользуется популярностью “темного”, “непонятного” текста» [2, с. 5]. В соавторстве с А.М. Пятигорским М.К. Мамардашвили вскрывает тему сознания, продвигаясь к сути двумя дорогами - в контексте древнеиндийской и европейской философии.
Сплетение парадоксов в области сознания, понимания и языка находит свое отражение в метатеории сознания [3]. Уточняя смысл метатеории сознания, М.К. Мамардашвили отмечал: «Понимание сознания, работа с сознанием, борьба с сознанием - отсюда и попытки построения какой-то своей метатеории сознания... вызваны нашим желанием дойти до какого-то доступного нам сейчас предела, причем предела не в чистом умозрении, не в поисках какого-то абстрактного категориального сознания, а предела в поисках основы своего сознательного существования» [4, с. 33].
Для того чтобы понять логику движения мысли М.К. Мамардашвили, необходимо прежде всего сформулировать основные принципы его методологии. Иными словами, в рассмотрении концепции сознания мы отталкиваемся от основы, а не от готовой идеи.
Теоретические основания методологии М.К. Мамардашвили не могли исключать те установки, которые стали точкой отсчета рационализма, открывшего субъект как активную, продуцирующую силу в познании. Интерес к Р. Декарту или И. Канту со стороны М.К. Мамардашвили не был историко-философской формальностью (связующим звеном между прошлым и настоящим), он был обусловлен прежде всего готовностью этих мыслителей отречься от всего в пользу неизвестного. Например, приблизив себя к границе мыслимого, Р. Декарт остановился на «я» - субстанции, что привело к формированию нового принципа философствования, отталкивающегося в своем поиске от субъекта. И. Кант еще более углубил проблему познания, сведя ее к внутренним основаниям - субъективной предпосылке, разделив субъект и объект непреодолимой пропастью.
Работая с историко-философским материалом, М.К. Мамардашвили увидел нечто большее, чем идеи, к которым пришли те или иные мыслители. Новая идея не могла случиться без работы индивидуального сознания. Наблюдения М.К. Мамардашвили трансформировались в методологический принцип - осуществление процедуры «извлечения» сознания (слушателя или читателя) из «зоны комфорта», по-другому - «инициация». Инициация с успехом применяется ученым в «Символе и сознании».
Как мы уже отметили, метатеория сознания раскрывается М.К. Мамардашвили в совместном философском эксперименте с А.М. Пятигорским - в «Символе и сознании». Пересказать или пытаться объяснить его содержание не имеет смысла, поскольку проект задуман таким образом, что причастность читателя и его вывод целиком и полностью будут зависеть от индивидуального вовлечения в текст (другое сознание). Потому уместно остановиться на методологических приемах, благодаря которым становится ясно, как именно авторы видят преодоление проблемы дефиниции сознания, как именно нужно ставить вопрос о сознании и к чему это может привести нас.
Позволим себе небольшое отступление, чтобы стало понятно, в какой плоскости будет развиваться мысль авторов. А.М. Пятигорский изначально сообщает, что философия сознания - это «гораздо больше о философе, чем о философии (включая его собственную). Более того, это гораздо больше о “здесь”, чем о “сейчас”, поскольку “здесь” означает буквально контекст философствования» [5, с. 13].
Мысль о сознании - рефлексия, выталкивает нас из каждодневной рутины - реагирования на внешние раздражители и механистического выполнения конкретных задач. Отсюда вытекает следующее.
-
- Рефлексия сознания онтологизирует объект, поскольку философ, анализируя нечто, превращает его в «свое». Бессмысленно искать философию без ее причастности к конкретному субъекту. Таким образом, философия исторична, а философствование всегда «в контексте». М.К. Мамардашвили для более глубокого погружения в суть проблемы использует метафору «борьбы с сознанием». По сути, это объясняет «ментальную необходимость» познания сознания, или «работы с сознанием». Как только мы задумываемся о сознании, мы выходим за рамки спонтанного процесса, решая прежде всего вопрос собственного существования. Отсюда следующий тезис.
-
- Метатеория сознания - это сознание, лишенное содержания в виде желаний, эмоций и т. д. Осуществляется процедура, сходная с гуссерлевской эпохе (Ёпохп). Самое интересное то,
что остается после данного исключения. Здесь и происходит чудо понимания, новая стихия мысли, доступная для разумения только ее обладателю.
Важнейшим термином метатеории сознания является «сфера сознания». Авторы намеренно уклоняются от необходимости определения сознания, поскольку не желают столкнуться с противоречиями и тем самым зайти в тупик.
Есть какая-то данность и то, что к ней относится, но отсутствует четкое построение данности, поскольку ее содержание постоянно обновляется. Вводя сферу сознания, мы можем, описывая тот или иной объект или явление, говорить о том, относится он к ней вообще или нет. Достаточно основательно обозначенную проблему определила Д.Э. Гаспарян, справедливо отмечая, что в ее решении мы можем довольствоваться только «мало чем подкрепленной интуицией» и обыденным опытом [6, с. 49].
Методологический принцип, используемый для обозначения проблемы определения сознания, схож с апофатическим приемом, суть которого – приблизиться к недосягаемому объекту за счет намека, полного отрицания, молчания и т. д. Сферу сознания можно символично представить «молчанием» в контексте видения сознания М.К. Мамардашвили и А.М. Пятигорским. Мы не можем взять сознание за объект изучения, поскольку в этом случае нам необходимо перестать мыслить, что невозможно. Это первый шаг к вопросу о сознании. Но и до него нужно дорасти хотя бы пониманием о том, что сознание не есть обычное отражение вещей, объективно существующее, или некая реальность, которая мне, как ее обладателю, присуща. Тупик заставляет искать выход из него, что разрешается в применении «сферы сознания», выступающей предельным основанием.
Когда мы вникаем в рассуждение М.К. Мамардашвили (как и А.М. Пятигорского) о сфере сознания, создается впечатление, будто это условное допущение трансформируется в умозрительную метафизическую категорию, типа «Единого» Плотина. Сознание, по М.К. Мамардашвили, не имеет пространственно-временной характеристики, а также ясных критериев присутствия или отсутствия (т. е. нельзя сказать, «это относится к сфере познания, а это не относится»). Значит, оно вневременно, внепространственно, а соответственно, не связано с конкретными социально-культурными и социально-историческими условиями. Тем не менее оно положено в нас как некая интуиция и не может быть прямо выведено ни из языка, ни из культуры, ни из деятельности человека.
Отважимся на некоторое заключение по этому поводу. Большинство специалистов, которые решаются проанализировать «Символ и сознание», ждут какой-то конкретный ответ авторов на изначально поставленный ими проблемный вопрос: как возможно сознание, почему мы задаемся вопросом о сознании? По мере продвижения по тексту становится ясно, что, скорее всего, ответ мы получим в самом конце, как лучшую награду за изнурительное движение по лабиринтам авторских размышлений. Любое начало мысли должно завершиться каким-то результатом. Это и есть стандартизированный подход, от которого М.К. Мамардашвили и А.М. Пятигорский «открестились» буквально «с порога». Не случайно А.М. Пятигорский заметил, что сознание – это не о философии, а о философе, «результат» будет целиком и полностью зависеть от того, какой урок лично для себя извлечет читатель. Почему бы не допустить сознание как некую аксиому, которую не нужно доказывать и определять в силу того, что она очевидна для его обладателя? Другое дело, если сознание ограничивать какими-то материальными условиями или замыкать его, изучая как объект познания.
Редкий случай, когда работа задумывается ради процесса, где само действие мысли есть необходимое условие понимания «работы с сознанием».
Таким образом, заслугами авторов являются правильная постановка проблемы о сознании, моделирование интуитивных способов ее решения, а это отнюдь немало. От постановки вопроса зависит и выбор пути, по которому пойдет исследователь. Данный путь, как нам кажется, авторы вполне ясно обозначили. Методологические принципы, описанные нами в контексте работы «Символ и сознание», универсальны и могут быть применены в любом философском исследовании.
Ссылки и примечания:
-
1. Более подробно данный аспект освещается в работе Анет Георгиевой, которая подвергла критике натуралистический, психологический и лингвистический подходы. См., например: Гергиева А. Аналитичната философия и метафи-зиката на съзнанието. София, 2007.
-
2. Конев В.А. Критика опыта сознания. Самарские семинары по трактату М.К. Мамардашвили и А.М. Пятигорского «Символ и сознание». Самара, 2008. 156 с.
-
3. Метатеория сознания – это умозрительное отгораживание от устоявшегося культурного мышления (фиксированными символами сознания), а также «вынесение за скобки» психологической, эмоциональной, объективированной обусловленности сознания.
-
4. Пятигорский А.М., Мамардашвили М.К. Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, символике и языке. М., 1997. 224 с.
-
5. Там же. С. 13.
-
6. Гаспарян Д.Э. В защиту феноменального сознания: аргументы против физикализма в современной аналитической философии (часть I) [Электронный ресурс] // Философские проблемы информационных технологий и киберпространства. 2013. № 2. С. 43–55. URL: http://pglu.ru/upload/iblock/ce5/fenomenalnoe-soznanie-_gasparyan_.pdf (дата обращения: 11.10.2017).
Список литературы Теоретико-методологические основания метатеории сознания: сфера сознания как данность (по материалам исследований М.К. Мамардашвили и А.М. Пятигорского)
- Гергиева А. Аналитичната философия и метафизиката на съзнанието. София, 2007.
- Конев В.А. Критика опыта сознания. Самарские семинары по трактату М.К. Мамардашвили и А.М. Пятигорского «Символ и сознание». Самара, 2008. 156 с.
- Пятигорский А.М., Мамардашвили М.К. Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, символике и языке. М., 1997. 224 с.
- Гаспарян Д.Э. В защиту феноменального сознания: аргументы против физикализма в современной аналитической философии (часть I) //Философские проблемы информационных технологий и киберпространства. 2013. № 2. С. 43-55. URL: http://pglu.ru/upload/iblock/ce5/fenomenalnoe-soznanie-_gasparyan_.pdf (дата обращения: 11.10.2017).