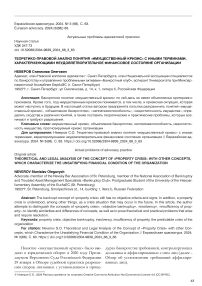Теоретико-правовой анализ понятия «имущественный кризис» с иными терминами, характеризующими неудовлетворительное финансовое состояние организации
Автор: Неверов С.О.
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Актуальные проблемы адвокатской практики
Статья в выпуске: 3 (68), 2024 года.
Бесплатный доступ
Банкротное понятие «имущественный кризис» по сей день не имеет объективных критериев и признаков. Кроме того, под имущественным кризисом понимается, в том числе, и кризисная ситуация, которая может наступить в будущем. В настоящей статье автором предпринята попытка разграничить понятия «имущественный кризис», «объективное банкротство», «неплатежеспособность», «недостаточность имущества», определить сходства и различия понятий, а также поставить теоретические и практические проблемы, которые возникают и требуют разрешения.
Имущественный кризис, объективное банкротство, неплатежеспособность, недостаточность имущества, прогнозируемый кризис организации
Короткий адрес: https://sciup.org/140305969
IDR: 140305969 | УДК: 347.73 | DOI: 10.52068/2304-9839_2024_68_3_63
Текст научной статьи Теоретико-правовой анализ понятия «имущественный кризис» с иными терминами, характеризующими неудовлетворительное финансовое состояние организации
Из буквального толкования абзаца 7 пункта 3.1 вышеуказанного Обзора следует, что имущественным кризисом является не любое обстоятельство ухудшения экономического положения организации, а только такое, возникновение которого влечет необходимость обращения должника в суд с заявлением о собственной несостоятельности (пункт 1 статьи 9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве)).
Вместе с тем, как известно из пункта 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве», руководитель (контролирующее лицо) может не обращаться с заявлением о банкротстве подконтрольной организации в ситуации, когда финансовые затруднения носят временный характер (не свидетельствуют об объективном банкротстве) и могут быть преодолены путем выполнения экономически обоснованного плана.
В свою очередь, под объективным банкротством понимается неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, в том числе об уплате обязательных платежей, из-за превышения совокупного размера обязательств над реальной стоимостью его активов (пункт 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве»). Данное определение было введено в целях разграничить ложную неплатежеспособность от подлинной при рассмотрении споров о привлечении к субсидиарной ответственности [2, с. 24].
Без глубокого анализа понятия «имущественный кризис» и «объективное банкротство» представляются идентичными по содержанию. Этому способствует тот факт, что оба легальных определения подразумевают наличие обстоятельств, порождающих обязанность у руководителя (контролирующего лица) по обращению с заявлением о банкротстве подконтрольной организации, а также затруднительное экономическое положение должника.
Однако, как обоснованно указывают авторы комментария к Обзору об установлении требований аффилированных лиц, само по себе введение нового термина является свидетельством того, что объективное банкротство и имущественный кризис – понятия не тождественные, поскольку в ином случае происходило бы неоправданное умножение сущностей [1, с. 51]. В связи с изложен- 64
ным целесообразно найти те самые признаки, которые отличают одно понятие от другого.
Первое, что обращает на себя внимание, это тот факт, что имущественный кризис может носить не фатальный характер для деятельности должника, в отличие от объективного банкротства.
Второе: имущественный кризис – это все иные обстоятельства, перечисленные в пункте 1 статьи 9 Закона о банкротстве, помимо недостаточности имущества. Данный аргумент также справедливо применить к вопросу о различиях имущественного кризиса и неплатежеспособности, поскольку последняя является одним из признаков имущественного кризиса.
Кроме того, как правильно указывают Р.Т. Мифтахутдинов и И.А. Шайдуллин в своем комментарии, под имущественным кризисом может пониматься «трудная экономическая ситуация», когда признаков банкротства может и не быть.
Так, Верховный Суд отметил следующее: «Иными словами, должник в момент уступки уже находился в ситуации имущественного кризиса, под которым понимается не только непосредственное наступление обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 9 Закона о банкротстве, но и ситуация, при которой их возникновение стало неизбежно» (пункт 6.2 «Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований, контролирующих должника и аффилированных с ним лиц» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.01.2020)). Приведенный вывод может быть подтвержден иными положениями данного обзора (3.2, 3.4, 9), а также судебной практикой (определение Верховного Суда РФ № 304-ЭС18-14031 от 4 февраля 2019 года по делу № А81-7027/2016).
Таким образом, одно из главных отличий понятия имущественного кризиса от иных понятий заключается также в том, что он может иметь место еще до того, как наступило какое-либо из обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 9 Закона о банкротстве. Вместе с тем такое толкование понятия имущественного кризиса порождает следующие теоретические и практические проблемы.
Наличие внутреннего противоречия
Как известно, субординация требований направлена на перераспределение риска неудачной санации, когда у контролирующего лица возникла обязанность по подаче заявления о банкротстве подконтрольной организации, а вместо этого им был выдан займ, в результате чего банкротство было отсрочено, но не преодолено.
Однако, с точки зрения контролирующих лиц, действующих от имени должника, организация либо отвечает признакам банкротства, либо нет. В действующем законодательстве отсутствует обязанность (только право) у контролирующих лиц по подаче заявления о банкротстве в тот момент, когда контролирующие лица предвидят возможное возникновение признаков банкротства, но эти признаки формально еще не наступили (статья 8 Закона о банкротстве). В то же время субординации не подлежит финансирование в ситуации, когда у контролирующего лица отсутствовала обязанность по подаче заявления о банкротстве подконтрольной организации (пункт 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 № 44 «О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).
Таким образом, наблюдается очевидное внутреннее противоречие между содержанием понятия и правилами, по которым оно должно применяться в институте, для которого оно было создано.
Непрозрачность правовых последствий
Правовая определенность и прогнозируемость является неотъемлемым свойством качественной нормы права. Не ясно, каким образом контролирующим лицам организаций, возможно, в будущем несостоятельных, соблюдать надлежащим образом обязанность по обращению в суд с заявлением о банкротстве подконтрольной организации, если даже среди юристов нет единодушного мнения относительного того, как поступать директору в кризисной ситуации. Для иллюстрации можно привести следующие примеры.
Юлия Михальчук (адвокат, преподаватель Высшей школы экономики, специализируется на делах о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности), давая интервью и обсуждая вопрос о том, что делать директору, если он наблюдает кризис, но участники не намерены обращаться в суд с заявлением о банкротстве, советует: «Единственная, на мой взгляд, более-менее разумная рекомендация: как только директор понимает, что корабль начинает тонуть, – сразу бежать в суд и подавать заявление о банкротстве» [3, с. 57].
Александра Улезко (адвокат, эксперт в области банкротства) и Иван Стасюк (адвокат, канд. юрид. наук, эксперт в области банкротства) в своем монографическом исследовании, констатируя непопулярность статьи 8 Закона о банкротстве, указывают следующее: «Как отмечается в литературе, одной из проблем применения ст. 8 Закона о банкротстве, которая описывает, по сути, состояние планируемой неплатежеспособности, является риск привлечения руководителя к ответственности за фиктивное банкротство, поскольку предвидение является оценочной категорией, и руководитель может ошибаться. Также обращается внимание на то, что при ошибочном обращении в суд с заявлением о банкротстве (т. е. тогда, когда компания имела возможность рассчитаться по своим обязательствам) у кредиторов возникнет право требовать возмещения убытков» [4, с. 98].
И если ранее обязанность директора по обращению с заявлением в суд наступала после возникновения объективного банкротства, то с момента введения в оборот понятия имущественного кризиса и института субординации требований такая обязанность сместилась в период, когда неплатежеспособность только предвидится.
Из этого вытекает ряд последствий. Во-первых, такое положение дел дестимулирует директоров и контролирующих лиц раскрывать сведения о несостоятельности на ранних этапах, что наиболее предпочтительно для кредиторов, поскольку такое обращение может повлечь уголовную и гражданско-правовую ответственность, а позднее – только гражданско-правовую, как это ни парадоксально.
В то же время отсутствуют четкое разграничение и смешение понятий: имущественный кризис, признаки банкротства, объективное банкротство этому способствуют, поскольку определение даты, когда обязанность по обращению с заявлением должна была быть исполнена, зачастую становится делом случайного набора доказательств и пояснений той или иной стороны, вовлеченной в спор.
Во-вторых, в действующем законодательстве о банкротстве отсутствуют эффективно применяемые реабилитационные процедуры, а понятие «имущественный кризис» не имеет каких-либо объективных минимальных критериев, в связи с чем любое финансирование на возвратной основе связанного с участником общества носит высокорисковый характер. Перспектива возврата такого финансирования в случае последующего наступления кризиса у организации не предсказуема даже при условии надлежащего соблюдения контролирующими лицами обязанности по обращению в суд с заявлением о банкротстве подконтрольной организации.
Смена приоритетов в фидуциарных обязанностях руководителей
Необходимость учитывать интересы кредиторов при принятии контролирующим лицом деловых решений является свидетельством того, что фидуциарные обязанности перед акционерами (участниками) могут иметь меньший приоритет, чем обязанности перед кредиторами юридического лица. Вместе с тем действующее законодательство не содержит каких-либо норм, устраняющих целый ряд неясностей, связанных с данной проблематикой. В частности, если обязанность действовать в интересах акционеров «смещается» на интересы кредиторов, то в таком случае необходимо определить и конкретный момент, когда это происходит. Ответ на данный вопрос способен существенно влиять на многие субъективные права лиц, вовлеченных в корпоративные отношения (допустимость оспаривания сделок; взыскание убытков с лиц, принимающих корпоративные решения; принятие высокорискового антикризисного плана и т. п.). Кроме того, не ясно содержание такой обязанности, а также по каким критериям оценивать разумность и добросовестность лица, принимающего деловое решение в условиях кризиса, как с позиции акционеров (участников), так и с позиции кредиторов.
Перечисленные выше проблемы и противоречия красноречиво свидетельствует о необходимости упорядочивания понятий, характеризующих неудовлетворительное финансовое состояние организации, а также о необходимости научной разработки и исследования существующего опыта применительно к изменению обязанностей контролирующих лиц в ситуации, когда имущественный кризис организации предвидится в будущем.
Список литературы Теоретико-правовой анализ понятия «имущественный кризис» с иными терминами, характеризующими неудовлетворительное финансовое состояние организации
- Мифтахутдинов Р.Т., Шайдуллин И.А. Научно-практический комментарий к Обзору судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований, контролирующих должника и аффилированных с ним лиц, утв. Президиумом ВС РФ 29.01.2020 // Вестник экономического правосудия РФ: приложение к выпуску. 2020. № 9. C. 51. Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс".
- Суворов Е.Д. Статья: "К вопросу о понятии банкротства" // Lex Russica. 2020. Ноябрь. Т. 73. № 11 (168). С. 24 [Электронный ресурс] URL: https://lexrussica.msal.ru/jour/article/viewFile/1605/971.
- Цивилисты о банкротстве: сборник научно-практических статей. М.: Ассоциация выпускников РШЧП, 2021. С. 57.
- Улезко А.С., Стасюк И.В. Кризисные состояния юридического лица в Российском банкротном праве. М.: Статут, 2022. С. 98.