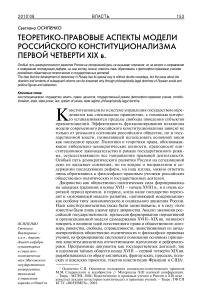Теоретико-правовые аспекты модели российского конституционализма первой четверти XIX в
Автор: Осипенко Светлана Викторовна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 8, 2010 года.
Бесплатный доступ
Особый путь демократического развития России на сегодняшний день не вызывает сомнения, но на вопрос о направлении и содержании последующих реформ, на наш взгляд, можно ответить лишь обратившись к философско-правовым учениям российских общественно-политических и государственных деятелей.
Конституционализм, государство, власть, право, ценности, государственный режим, философско-правовое учение
Короткий адрес: https://sciup.org/170165471
IDR: 170165471
Текст научной статьи Теоретико-правовые аспекты модели российского конституционализма первой четверти XIX в
К онституционализм в системе управления государством определяется как специальное правомочие, с помощью которого устанавливаются пределы свободы поведения субъектов правоотношений. Эффективность функционирования механизма модели современного российского конституционализма зависит не только от реального состояния российского общества, но и государственной власти, позволяющей использовать основной закон как послушное орудие. Политики и теоретики права, обосновывающие либерально-демократические ценности, преподносят конституционное законодательство в рамках государственного режима, осуществляющего все направления правовой деятельности. Особый путь демократического развития России на сегодняшний день не вызывает сомнения, но на вопрос о направлении и содержании последующих реформ, на наш взгляд, можно ответить лишь обратившись к философско-правовым учениям российских общественно-политических и государственных деятелей.
Дворянство как общественно-политическая сила формировалось на западных традициях в конце XVII – начале XVIII в., и в очень короткий период времени, в период, когда наше государство переходит к «догоняющей модели» развития, «догоняющей модернизации» как особому типу экономического и социального движения России. Идеи конституционализма также были заимствованы, и в силу этого известны были лишь узкому кругу дворянства. Анализ эволюции российской государственности, процессов формирования нормативной и организационной модели самодержавия XVIII–XIX вв. позволяет говорить о влиянии идей естественного права и общественного договора, равенства, свободы, справедливости, заимствованных из западноевропейских общественно-политических и философско-правовых учений, на формирование системного понимания основных принципов конституционализма отечественными идеологами и реформаторами. Программные документы как государственных деятелей, так и идеологов тайных обществ конца XVIII – первой четверти XIX вв. разрабатывались по образу английских, французских, прусских, польских и шведских проектов, текстов конституции Франции и США1.
Сложность подготовки такого рода проектов заключалась в том, что в России отсутствовали какого-либо рода предпосылки для развития конституционализма:
– отсутствовал средний класс – «третье сословие» как основной элемент, гарант экономической и политической стабильности государства1;
– население страны было исторически инертно, так как верховная власть всегда выступала инициатором всех реформ, что выработало психологическую потребность россиян в ожидании каких-либо действий от власти;
– Россия имела огромные пространства, слабые экономические, социальные и коммуникативные связи, ей была свойственна многоконфессиональность, социальная и национальная конфронтация, разобщенность.
В XIX в. русскими общественно-политическими деятелями впервые была предпринята попытка соединить феодальную и буржуазную модели конституционализма с целью решения крестьянского вопроса в России и внедрения конституционных идей. На Западе решение этой задачи носило эволюционный характер, в России, в силу обозначенных нами ранее особенностей, освобождение крестьян и ограничение власти монарха воспринималось как покушение на государственные устои империи, к тому же этот процесс затрагивал интересы дворянства, составляющего основную часть администрации и военной силы государства. С одной стороны, дворянский конституционализм в своем стремлении соединить идеи ограничения самодержавия путем разделения властей и сохранить зависимость основной части населения – крестьян носил поверхностный или двойственный характер. С другой стороны, в истории российской государственности дворянство как самостоятельная политическая сила выступало в наиболее сложные моменты. XIX в. – век рационализма – воспитал в целом поколении несокрушимую веру в силу разума и, как неизбежное следствие, влияние учений эпохи Просвещения, уверенность в установлении свободы и равноправия как основы нового общественного устройства.
Не учитывая воздействие либеральных идей конституционализма, правового государства и гражданского об- щества на ход развития отечественной истории, невозможно понять все коллизии идейно-политической борьбы XIX– XX вв2. Для русских основоположников умеренного либерального конституционализма (в частности, М.М. Сперанского) наиболее значимой стала не французская республиканская модель правового государства и не английская – парламентской монархии, а именно германская модель конституционной монархии с сильно выраженным монархическим принципом. В Англии в XVII в. идеи классического либерализма совершенствовались в процессе длительной борьбы третьего сословия с государством (монархией) за политическую власть путем достижения компромисса и утверждения верховенства права. В Германии, как и в России, рациональность модели конституционной монархии объяснялась исторически сложившимся характером отношений общества и государства, ролью государства в модернизации. Реальный смысл данной концепции заключается в объяснении перехода от традиционных социальных порядков к гражданскому обществу с учетом специфики этих процессов в России.
Либеральная философия права и в Германии, и в России вынуждена была считаться с отсталостью страны. Двойственная позиция либерализма (теория разработана Г. Гегелем, а также философами права К. Валькером, К.-Л. Галлером3) нашла отражение в политических и философско-правовых проектах М.М. Сперанского, пытавшегося модернизировать механизм власти, предугадать фундаментальные конфликты общества и государства в условиях движения от абсолютизма в направлении правового государства и гражданского общества. В перспективе политического развития конституционная монархия являлась идеальной политической формой такого преобразования, сочетающей народное представительство (парламентское начало) и сильную исполнительную власть (монархическое начало).
Становление национальной модели либерализма в России первой четверти XIX в. сопровождалось усилением консервативных элементов; как необходимые и актуальные воспринимались лишь те элементы либерализма, которые могли быть органично адаптированы в рамках сложившейся социокультурной среды. Причина этого заключается в том, что своих собственных корней в России либерализм не имел даже в среде прогрессивно мыслящих людей того времени, не достигнувших понимания значения политических, гражданских личных прав и свобод; идеи свободы были сформулированы неопределенно, расплывчато и абстрактно. Заимствованные либеральные ценности, воспринятые большинством народа в привычных категориях заботы и покровительства со стороны императора и правительства, также не получили реализации в проектах политических реформ.
В монографии «История либерализма в России»1, исследователь русского либерализма В.В. Леонтович утверждает, что «либерализм – творение западноевропейской культуры» и отрицает наличие каких-либо его признаков в России. Изначально «идеологически и практически русский либерализм в общем был склонен к тому, чтобы получать и перенимать от других, извне»2. В то же время следует сказать о некоторых нюансах такого рода утверждения. В России консервативный либерализм появляется как раз на этапе становления капиталистического общества, в условиях абсолютизма он был вынужден воплощать в жизнь идеи Великой французской буржуазной революции. Это обстоятельство оказывало существенное влияние на содержание основных положений программных документов, где борьба за конституцию, парламентаризм и правовое государство велась с учетом сложившихся национальных традиций. Поэтому на этапе становления новой формы государственного устройства допускалось сосуществование различных политических институтов, совмещение такого рода было присуще и правительственному (консервативному) направлению либерализма.
В ранних трудах А.Н. Радищева, М.М. Сперанского, Н.С. Мордвинова, так же как в свое время и у Дж.Ст. Милля, можно обнаружить вполне определенные указания на важность и необходимость охранительного или консервативного элемента в либерализме (о чем и шла ранее речь). И что наиболее принципиально, кем бы ни проводились реформы, они изначально предусматривали сохранение отдельных элементов, так же как и любая либеральная доктрина, в той или иной мере содержащая консервативный элемент. Либерализм и консерватизм – это понятия не взаимоисключающие (как, например, либерализм и социализм, либерализм и радикализм, действительно являющиеся противоречивыми в своей основе), а лишь в определенной степени противоположные, точнее, разнонаправленные и предполагающие наличие массы различных оттенков – переходных состояний, ступеней развития и т.д.3 Возможность сосуществования разнонаправленных компонентов позволяет говорить о формировании национальной модели либерализма – русского консервативного либерализма4.
В качестве доказательного обоснования такого рода суждения мы используем некоторые положения проекта А.Р. Воронцова «Les articles du comte de Worontsoff», содержащего либеральные понятия свободы личности, слова и вероисповедания, неприкосновенности собственности, подготовленного по инициативе императора для обсуждения на одном из заседаний Негласного комитета. В заметках Н.Н. Новосильцева содержится подробный конспект вопросов, рассмотренных на заседании Негласного комитета 23 ию- ля 1801 г., в частности предложения графа А.Р. Воронцова по реализации естественных гражданских прав путем отмены тотального контроля за передвижением граждан по всей территории Российской империи, уничтожения постов и шлагбаумов на дорогах («за преступником должна наблюдать полиция, а честные люди должны иметь право свободного передви-жения»1). Автор был уверен, что установленные государством правовые гарантии безопасности личности, с одной стороны, будут способствовать активизации гражданской позиции населения, а с другой – позволят эффективно пресекать произвол местной администрации. Подобного рода решения свидетельствуют о противоречивом стремлении императора и его ближайшего окружения создать демократические основы правового государства, утвердить политические права и свободы гражданина при сохранении крепостного права.
В опубликованной известным исследователем В.П. Семенниковым редакции «Жалованной грамоты российскому народу», сохранившейся в личных бумагах К.Г. Репинского, принцип неприкосновенности личности был сформулирован предельно четко2. Некоторые статьи грамоты свидетельствуют о готовности к серьезным политическим реформам и о том, что ее авторы не были бы удовлетворены простой декламацией политических прав – речь шла о создании действенного механизма правовой защиты личности от посягательств со стороны кого бы то ни было. Так, в §18 проекта Жалованной грамоты российскому народу была предусмотрена процедура обжалования неправомерного действия государства или отдельных лиц в случае нарушения ими принципа неприкосновенности личности. Гражданин наделялся правом требовать рассмотрения всех обстоятельств его незаконного задержания в судебном порядке, даже после освобождения: человек «может произвесть иск на взявшего его под стражу, или посадившего его в тюрьму, или задержавшего, или давшего на то поведение, в оскорблении личной безопасности и убытках, и сей повинен ответствовать в суде в произведенном на него иске». Внедрение практики рассмотрения подобных исков должно было бы уменьшить количество случаев необоснованного ограничения естественного права личности на безопасность.
На основании этого материала мы имеем возможность обозначить некоторые элементы, характерные для представителей раннего отечественного либерализма:
– отсутствие прочной социальной поддержки в обществе;
– антидемократический характер;
– принцип монархизма;
– сильное и ярко выраженное консервативное начало;
– отсутствие реальной перспективы законодательного утверждения гражданских прав и свобод в российском обществе.
Представленные нами свидетельства не раскрывают всей гаммы отличительных оттенков, свойственных отечественной либеральной мысли на раннем этапе развития. А.Н. Медушевский в сравнительном анализе классического западноевропейского и русского либерализма отмечает, что западноевропейский выступал за «активное преобразование общества государством, которому не было никакой реальной альтернативы в России. Суть их (либералов. – С.О. ) теоретических, правовых и исторических взглядов в целом как раз и сводилась к тому, чтобы побудить государство или передовых его представителей – просвещенную бюрократию – к последовательному проведению демократизации страны, невзирая на трудности и сопротивление консерваторов»3. В чем-то А.Н. Медушевский и прав, особенно если учитывать, что в России, в отличие от Западной Европы, на тот исторический момент не были даже сформированы какие-либо конституционные институты (парламент, независимая судебная власть). Но при всем при этом не следует сводить деятельность представителей отечественного либерализма к роли некоего стимулятора правительства, и в своих проектах они не руководствовались действиями правительствующих кругов 4.
Западноевропейский либерализм глубоко уходит корнями в историческое прошлое, имеет социальную опору в виде растущей буржуазии и длительное время рассматривался как активная политическая сила. В восточноевропейском либерализме подобные черты отсутствуют. В силу того что восточноевропейский либерализм не имел глубоких корней в прошлом страны, возник очень поздно и не опирался на сколько-нибудь широкие слои населения, он был тесно связан с правящим классом и государством, а потому не мог претендовать на активную политическую роль1.
Европейские просветители первыми заговорили о конституционных правах человека, о равенстве, о праве народов на самоопределение. Подчеркивая приоритет права нации, французские просветители отдавали первенство единому человеческому роду как целому перед любой из его частей (индивидом, семьей, нацией), демонстрировали антропологический подход и во взглядах на взаимоотношения народов и наций в мировом сообществе2.
Российские же общественно-политические и государственные деятели в своих политических конструкциях отечественной модели конституционализма (правового государства) конца XVIII – первой четверти XIX вв. руководствовались не только образцами английских, французских, прусских, польских и шведских проектов, текстов конституции Франции и США, но и осознавали всю сложность построения правового государства на крепостной основе, с учетом специфики политико-правовых и социально-экономических процес-сов3.