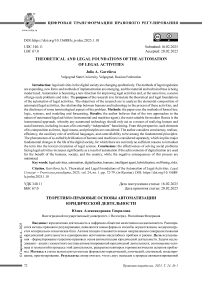Теоретико-правовые основы автоматизации юридической деятельности
Автор: Гаврилова Ю.А.
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Цифровая трансформация правового регулирования
Статья в выпуске: 1 т.24, 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение: юридическая деятельность в цифровом обществе качественно видоизменяется. Расширяются методы правового регулирования, появляются новые формы и способы осуществления, модернизируется материально-техническая база. Автоматизация становится новым направлением совершенствования юридической деятельности и одновременно источником масштабных проблем и рисков. Цель исследования – формулирование теоретико-правовых основ автоматизации юридической деятельности. Задачи исследования – анализ элементного состава автоматизированной юридической деятельности, соотношение человека и технологий в процессе этой деятельности, раскрытие некоторых терминологических аспектов проблемы. Методы: в статье используются методы формально-юридический, логический, системный, моделирование, прогнозирование. Результаты: автор считает, что из двух подходов к природе автоматизированной юридической деятельности (инструментального и машинно-агентного) наиболее подходящим для современной России является инструментальный подход, в соответствии с которым любая автоматизированная технология должна выступать лишь средством реализации человеческих и социальных интересов, в том числе в случаях ее внешне «независимого» функционирования. Под этим углом зрения рассматриваются такие элементы ее состава, как формы, правовые средства и принципы. К числу основополагающих принципов автор относит системность, реалистичность, оперативность, вспомогательную роль искусственных языков, подконтрольность. Отдельно рассматривается феномен так называемой гибридизации человека и машины, который предполагает большие фундаментальные перемены в жизни цифрового общества, для которых в данный период нет достаточных причин, позволяющих ввести в лексический оборот правовой науки указанный термин. Выводы: эффективность решения социальных задач, поставленных перед юридической деятельностью, значительно повышается в результате автоматизации, если достижения цифровизации будут использоваться на благо человека, общества и страны, и минимизируются негативные последствия этого процесса.
Юридическая деятельность, автоматизация, цифровизация, человек, интеллектуальный агент, гибридизация, благополучие, риски
Короткий адрес: https://sciup.org/149148172
IDR: 149148172 | УДК: 340.11 | DOI: 10.15688/lc.jvolsu.2025.1.10
Текст научной статьи Теоретико-правовые основы автоматизации юридической деятельности
DOI:
В период динамичных цифровых трансформаций ранее сложившиеся правовые понятия, конструкции и категории не забываются, а получают новую оценку, критически переосмысливаются, адаптируются к требованиям современного общества и потребностям государственной политики. В настоящее время в юридической литературе наблюдается «бум» исследований, направленных на изучение инновационных цифровых процессов и явлений.
Предметом изучения становятся общие вопросы цифровизации (понятие, субъекты, тенденции), специальные юридические аспекты использования достижений цифровизации (электронное голосование, электронная торговля, электронное правительство, цифровая криминалистика и т. д.). Отдельно ученые рассматривают технические средства реализации цифровых решений: алгоритмы, программы, базы данных и технические устройства их хранения и работы: компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны и др. Одним из малоисследованных аспектов этой проблемы в общей теории права можно назвать автоматизацию юридической деятельности.
Основная часть
В Российской Федерации юридическая деятельность, как и все общество, находится в режиме существенной трансформации ее методологических, законодательных и прикладных основ. С развитием цифровых технологий появилась автоматизация как новая тенденция развития юридической деятельности. В законотворчестве, государственном управлении, правосудии и т. п. используются сложные, быстро работающие и разнообразные «умные» технологии, включающие в себя алгоритмы, большие данные, системы искусственного интеллекта, цифровые «двойники» и ряд других форм [2, с. 12–15; 5, с. 68; 8, с. 38; 10, с. 14–15; 11, с. 55].
Однако критерии оценки автоматизированных технологий юридической деятельности (Legal Tech) для человека нуждаются в прояснении. Автоматизация правовой деятельности приносит субъектам права скорость, транспарентность, функциональную доступность, пользу, единообразие правового инструментария, снижение затрат. Однако при огромном росте перспективных возможностей автоматизированных технологий решения правовых проблем существуют значительные риски их негативного влияния на правовую систему и жизнь общества, вплоть до разрушения привычного юридического ландшафта и создания нового технологического «царства».
На наш взгляд, принимая во внимание разные трактовки места и роли автоматизированных технологий юридической деятельности в системе правовых средств, отметим, что в обобщенном виде эта роль может быть сведена к двум моментам:
-
1) автоматизированные технологии – «помощники» людей, позволяющие получать новые знания о правовых явлениях и на этой основе решать новые юридические проблемы цифрового общества;
-
2) автоматизированные технологии направлены на замещение человека в процессе принятия решений, когда его последующее вмешательство уже не требуется.
Безусловно, существуют и промежуточные варианты, когда машинообучаемые «помощники» людей не только являются внешними носителями информации и источниками больших данных, но и «встроены» в тело человека, благодаря использованию которых он приобретает новые биологические, психологические и когнитивные функции. Иногда встречается и противоположный вариант наделения машины искусственными аналогами нейрофизиологических функций и биологических структур, в результате чего можно говорить о «живой» и «думающей» машине.
Но сказанное не меняет сути методологических подходов к интерпретации природы автоматизированной юридической деятельности. Мы ведем речь либо об инструментализации ее функционального назначения, либо об относительно самостоятельной роли интеллектуального агента.
В состав компонентов автоматизированной юридической деятельности (с учетом подробной разработки общего понятия правовой деятельности в теории) необходимо включить субъекты, объекты, формы и принципы, правовые средства и многое другое. Рассмотрим их кратко.
Субъектами автоматизированной юридической деятельности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации всех форм собственности, должностные лица и граждане. Данные субъекты анализируются в определенном ракурсе обеспеченности деятельности с помощью информационных технологий и уровня их применения для решения практических задач.
Объектами автоматизации в юридической деятельности становятся общественные отношения как родовое понятие, так и отдельные их разновидности, но не все, а те из них, которые «вовлечены» в процесс цифровизации. Это дает возможность оценить объем и мас- штаб цифровой трансформации общества, степень цифровой зрелости гражданина, динамику уровней и конкретных показателей общей и индивидуальной правовой культуры в цифровую эпоху.
По форме (внешней и внутренней) автоматизация расширяет возможности правового регулирования. С позиции внешней формы она позволяет значительным образом оптимизировать и интенсифицировать процесс принятия правовых актов и совершения иных юридически значимых действий. «Умные» технологии оперативно собирают и распределяют необходимую информацию и ресурсы, и их использование предлагает современному человеку даже типовые автоматизированные формы юридических документов: исковое заявление, ходатайство, обращение, протокол следственного действия, постановление о применении меры пресечения и т. д.
Внутренняя форма автоматизированной юридической деятельности – это действия, операции, процедуры, порядки, регламенты, условия, гарантии выполнения функций публично-правовых и частноправовых субъектов, которые могут быть созданы и воплощены в жизни с помощью внедрения устройств по автоматизации деятельности человека. На автоматизированных началах происходит работа гражданина на Портале государственных и муниципальных услуг, информационный обмен между органами публичной власти в межведомственной системе электронного взаимодействия.
В процессе правоприменительной и правоохранительной деятельности «умные» технологии обеспечивают поиск адекватной практики и эмпирической информации как для установления фактической и юридической основы дела, так и для принятия процессуальных решений. Правоохранительные органы мгновенно производят выявление и розыск преступников, располагая новейшими базами персональных данных и сведениями, получаемыми с камер видеонаблюдения.
Существенную теоретическую и практическую роль выполняют определенные принципы автоматизированной юридической деятельности. Они представляют собой основополагающие условия, на которых она должна строиться, а их закрепление в качестве тре- бований в действующем законодательстве будет способствовать профилактике правонарушений в виртуальной среде, укреплять законность и правопорядок.
К числу этих принципов, безусловно, следует отнести общеправовые и отраслевые принципы права, являющиеся основой для правильного и справедливого применения цифровых технологий в жизни общества. Частично они уже закреплены в нормативных правовых актах: законность, соблюдение конституционных прав и свобод и правомерности их ограничений, открытость и достоверность информации, обеспечение безопасности информационных технологий и т. д. Специальные же принципы автоматизированной правовой деятельности не изучены. Мы предлагаем в качестве некоторых важнейших таких специальных принципов считать следующие.
Принцип комплексности означает, что автоматизированные технологии юридической деятельности должны охватывать полный цикл управленческой деятельности, исключать изоляцию инновационных информационных технологий и содержательное дублирование информации в функционирующих информационных системах.
Принцип своевременности представляет собой необходимость создания и ввода в эксплуатацию технологий автоматизации в возможно короткие сроки, чтобы эффект от их внедрения не отставал, а соответствовал, а лучше опережал темпы развития процессов цифровизации.
Принцип адекватности состоит в том, что автоматизация юридической деятельности должна быть не самоцелью, а отражать потребности общества, организаций и граждан. Кроме того, жизненная адекватность есть условие инновационности самой деятельности, так как любая появляющаяся технология автоматизации должна обладать именно новыми свойствами и качествами, должна отличаться от аналогичных продуктов, разработанных другими исследователями, совпадающих по степени функциональности в пределах общих подходов к решению проблемы.
Принцип разумного сочетания и сбалансированности естественного юридического языка и искусственных (формализованных) юридических языков в процессе достижения целей юридической деятельности означает органическую взаимосвязь этих двух инструментов автоматизации, при которой они дополняют друг друга. Но при этом программные технологии не должны выполнять исключительно организующую роль, устранять существующие правовые технологии или ставить их в зависимость от новейших изобретений. Должно осуществляться дублирование, копирование, обеспечение сохранности данных, исходных материалов и сведений, послуживших основой разработки той или иной технологии.
Последние размышления характеризуют и соотношение традиционных правовых средств и автоматизации как относительно нового средства юридической деятельности. Мы не поддерживаем стремление некоторых ученых и практиков унифицировать машиночитаемые формы, программные коды, цифровые микродирективы как варианты управленческих команд в правовой сфере, сделать их основными регуляторами отношений людей, опосредуемых в правотворчестве, правоприменении, реализации и защите права. В этих случаях «борьба» за право или его содержание может перерасти в нечестную, неконкурентную «борьбу» технологий и тех, кто ими владеет, а в указанной ситуации целью станет не прогресс общества, а удовлетворение властных амбиций отдельных лиц.
Соответственно, принцип подконтрольности означает, что организация и руководство процессами разработки, тестирования, внедрения автоматизированных информационных продуктов должны находиться в руках человека, и только он должен определять их судьбу и нести за это ответственность.
Вопрос о субъектах автоматизированной юридической деятельности является ключевым и фундаментальным. Точка зрения, раскрывающая инструментальную природу автоматизированных правовых технологий, является наиболее верной и соответствующей реальному состоянию технического и социально-культурного развития современного российского общества. А.В. Корнев справедливо замечает, что право в системе общественных отношений выступает инструментом, способом организации социальных взаимодействий, поэтому в некотором смысле инструмент не может проявлять одушевленные черты «рискового» поведения субъекта [6, с. 18], но можно говорить об эффективности или неэффективности таких инструментов, как автоматизированные правовые технологии.
Иными словами, инструментальный подход к автоматизации правовой деятельности сохраняется даже в том случае, когда машины принимают решения внешне «самостоятельно», но и здесь человек присутствует в процессе принятия решения косвенно и подразумевается, что он задает программу работы устройства с соответствующей технологией. Из этого следует, что человек может в любой момент времени изменить программную часть технологии либо прекратить ее функционирование, особенно тогда, когда решения в сфере Legal Tech нарушают не только правовые процедуры, но и затрагивают моральные нормы.
К позиции понимания автоматизированных правовых технологий как относительно самостоятельного интеллектуального агента нужно отнестись критически. В нашем понимании интеллектуальная автономия может иметь разные степени проявления. Конечно же, «сознательно» думающие машины-терминаторы, в том числе принимающие правовые решения, – это все-таки пока больше удел фантастики. Поэтому чаще всего в современной научной литературе стали говорить о таком явлении, как «гибридизация».
В словарях и энциклопедиях содержатся данные о биологическом происхождении термина «гибридизация». Он означает скрещивание разнородных организмов для получения более эффективных наследственных признаков или скрещивание разных родовых и видовых характеристик биологических организмов в целях совершенствования механизмов эволюции [9].
При междисциплинарном применении термина в других науках должно соблюдаться правило «переводимости» или адаптации к предмету иной отрасли знаний. Возможно наделение «родственного» термина для одной науки специфическим значением для предмета другой науки, где его планируют использовать, но при условии сохранения основного смыслового значения закрепленного в термине явления: «скрещивание», «перекрещивание».
В этой связи термин «гибридизация» по-разному понимается отдельными дисциплинами. Так, в частности, имеются исследования по гибридным политическим режимам, которые трактуются как неоднородные образования, совмещающие черты классической демократии и преобладания авторитаризма, когда под видом народовластия как формы объективируется абсолютная власть узкой политической элиты как содержание [7, с. 103].
Употребляется термин «гибридизация» в лингвистической науке, где наличие явления гибридизации констатируется там, где в структуру специального правового понятия спонтанно включаются наивные обыденные представления. Утверждается, что вследствие этого юрист фактически всегда использует не специальный юридический язык, а «гибрид» языка естественного и юридического [3, с. 64].
Следовательно, в социально-гуманитарных науках наблюдается восприятие термина «гибридизация» как «смешивания», «наслоения», «ассимиляции» [1, с. 175].
Отсюда противоречивостью новизны обладает термин «гибридизация» в правоведении. Он понимается как сочетание и взаимозависимость в будущем цифровом обществе реального источника права и его цифрового «двойника»; «вкрапление» в содержание права элементов программного кода [12, с. 15].
В других работах «гибридизация» воспринимается как объединение усилий человека и машины в обработке правовой информации [4].
Можно сказать, что юристы осторожно, но слишком разно понимают гибридизацию в качестве правового явления, сводя ее то к уровню соционормативной регламентации, то к уровню субъектов, носителей и агентов правовой деятельности.
На наш взгляд, термин «гибридизация» вряд ли является точным и благозвучным для практического применения в праве.
Во-первых, гибрид – это смешанная совокупность родов и видов организмов, что исключает наделение этим смысловым значением способов нормативной регламентации. Для обозначения комплементарного действия социальных норм: правовых, технических, этических и др. существует привычный для юриста термин «интеграция».
Как в случае гибридизации, так и в случае интеграции речь идет о сложных системах, состоящих из разнородных компонентов, учитывающих социальный характер права и его взаимодействие с условиями социальной действительности. Интеграция, гибридизация – это отдельные компоненты системного и комплексного подхода, с той разницей, что в природе это происходит в большей мере естественно, а в социальной жизни – под влиянием человеческого воздействия и целесообразности.
Во-вторых, для утверждения о гибридизации человека и машин ни в философском, ни в технологическом плане в настоящее время нет достаточных оснований. При всех позитивных аспектах влияния автоматизированных цифровых технологий на бытие права, человек остается главным агентом юридической деятельности, и только от него зависит характер и пределы действия цифровых технологий в правовой системе общества.
В-третьих, гибридизация предполагает, как правило, объединение феноменов одного уровня организации, одного уровня функционирования. Однако основной водораздел между человеком и машиной сегодня – это проблема сознания. И в этой связи надо четко понимать, что у машины отсутствует сознание, имеющееся у человека, а словосочетание «машинное сознание», «машинный разум» – не более чем концептуальная метафора.
В-четвертых, при соединении разноплоскостных, разноуровневых явлений правильно говорить об их интеграции в смысле кибер-физической системы (человек с телесно имплантированными элементами техники) либо в смысле антропоморфной машины, когда программа управляет компонентами биологических тканей, клеток, организмов, подключенных к этой программе через соответствующие интерфейсы. Но в этих случаях технология – это средство, а не агент.
Итого, термин «гибридизация» для обозначения новых свойств автоматизации правовой деятельности является расплывчатым, не проясненным и весьма неопределенным. Для гибридизации человека и машины нужны уникальные прорывные технологии движения к будущему, которых пока не наблюдается, поэтому о гибридизации в праве говорить еще рановато.
Выводы
Таким образом, автоматизированные технологии юридической деятельности выполняют инструментальное назначение для решения правовых проблем общества и человека. Их надлежащая разработка и функционирование в правовой жизни должно соответствовать принципам комплексности, своевременности, адекватности, разумного сочетания и сбалансированности естественного юридического языка и искусственных (формализованных) юридических языков, подконтрольности. «Умное» применение автоматизированных технологий юридической деятельности нацелено на рост благосостояния гражданина, общества и государства, преодоление негативных рисков их использования.