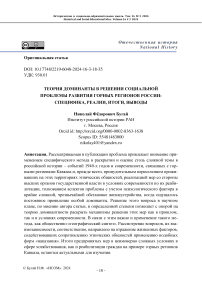Теория доминанты в решении социальной проблемы развития горных регионов России: специфика, реалии, итоги, выводы
Автор: Бугай Н.Ф.
Журнал: Историческая и социально-образовательная мысль @hist-edu
Рубрика: Отечественная история
Статья в выпуске: 3 т.16, 2024 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваемая в публикации проблема привлекает внимание применением специфического метода в раскрытии и оценке столь сложной темы в российской истории - событий 1940-х годов и современности, связанных с горными регионами Кавказа и, прежде всего, принудительным переселением проживавших на этих территориях этнических общностей, реализацией мер со стороны высших органов государственной власти в условиях современности по их реабилитации, толкованием аспектов проблемы с учетом психологического фактора в крайне сложной, чрезвычайной обстановке жизнеустройства, когда ощущалось постоянное проявление особой доминанты. Решение этого вопроса в научном плане, по мнению автора статьи, в определенной степени позволяет с опорой на теорию доминантности раскрыть механизмы решения этих мер как в прошлом, так и в условиях современности. В связи с этим важно и применение такого метода, как общественно-«географический синтез». Рассмотрение вопросов, их взаимозависимости, соответственно, направлено на отражение жизненных факторов, содействовавших сопротивлению этнических общностей применению подобных форм «наказания». Итоги предпринятых мер в неимоверно сложных условиях в сфере хозяйствования, как и реабилитации граждан на примере горных регионов Кавказа, остаются актуальными для изучения.
Доминанта, спецпереселенцы, адаптация, интеграция, время, пространство, горы, программа, реализация, итог
Короткий адрес: https://sciup.org/149146014
IDR: 149146014 | УДК: 930.01 | DOI: 10.17748/2219-6048-2024-16-3-18-35
Текст научной статьи Теория доминанты в решении социальной проблемы развития горных регионов России: специфика, реалии, итоги, выводы
Организаторы международной научно-практической конференции культурно-просветительского фонда Dialogforum (Венгрия) и Республики Грузия обратились к интересной проблеме – горы и «горный текст» в экономической системе: содержание, направленность, научный подход, реализация сложной задачи через систему регулирования процессов, выявление определенной специфики применительно к регионам Кавказа1.
Прежде чем приблизиться к освещению самой темы применительно к кавказскому региону (Северный Кавказ, Закавказье), необходимо четко определиться в направлении исследуемой проблемы, ее фиксации в рекомендациях, применении социальных технологий. Этим аспектам уделяется пристальное внимание, проявляется живой интерес и забота о них, особенно к дальнейшему развитию направления, занимающего одно из приоритетных положений в системе экономики, сопровождаемых параллельно такими аспектами, как развитие названных сфер, их роль в формировании и совершенствовании методов решения задач, в первую очередь имевших целью приумножение экономического потенциала государства, т.е. с более эффективным развитием горных районов государства.
Представленная к анализу тема постоянно привлекает внимание общества. Ученые не только констатируют степень изученности проблем населения горных районов, но и анализируют процесс совершенствования жизненных условий человека. И в данном случае на передний план выступает метод, принцип изучения проблемы, в частности такой как «общественно-географический синтез», известный с давних времен, а также факторы нашего жизненного бытия, например адаптация и интеграция, пространство и время, проявляющие себя на всех этапах развития той или иной цивилизации. Они органичны и относятся к самым весомым в жизненном цикле населения и отдельного человека.
«Язык гор» этой поры, по мнению автора, скорее отличался наличием многообразия карательных функций, а также созидательных начал в условиях гор, что, конечно же, требует самостоятельного изучения.
Материалы и методы изучения
В основе публикации использовались материалы предшественников, проявлявших интерес к настоящей проблеме, а также архивные документы, содержащие сведения по раскрываемой теме, в частности министерств и ведомств, хранящиеся в фондах центральных архивов (Фонды Госархива Российской Федерации. Ф. 10107, 10366, 10121 и др.).
При изложении исторического материала автор отдает предпочтение известным методам и принципам осуществления исторического исследования, в том числе пока слабо применяемого метода «общественно-географического синтеза». Именно в этой публикации обращено особое внимание на горные территории Кавказа, его составной части – Северного Кавказа, где имели место все рассматриваемые положения изучаемой темы.
Использован также метод Мишеля Фуко в конкретном случае исследования, в том числе малых территорий, в частности горных, выявить специфику развития общества, выдать оценку совершаемым действиям общества в замкнутой системе и др. Учтена при этом и теория доминанты в изучении общества известного ученого-физиолога Алексея Алексеевича Ухтомского, согласно учению которого подбираются впечатления, образы, убеждения и интегрируются в целую картину того, что происходило [3, c. 136].
Результаты
Автор обратился к таким понятиям, как горы, их роль и место в формировании системы экономики страны в границах территорий регионов, роль человека в освоении этих своеобразных богатств государства, подчинение горных территорий человеку, к решению таких вопросов, как прирастание эконмического потенциала региона (республика, край, область, национальный округ и пр.), приумножение духовного наследия.
Привлекает внимание и выделение таких сложных социальных факторов, как пространство и время, которые меньше всего подчиняются человеку и требуют особых усилий в их преодолении. Убедительно звучит в этом плане и сравнение их с факторами адаптации и интеграции личности, трудового коллектива, особенно в чрезвычайных условиях существования. Автор применяет также учение о доминанте к событиям, связанным с принудительным переселением народов.
Рассмотрены роль и место учения доминанты применительно, в частности, к обстановке обитания советских граждан в условиях их принудительного переселения. Обозначены разные причины действий, вызывающих доминантное состояние, в том числе и в условиях применения карательных мер.
Почему выбор пал на горные регионы страны, в частности Кавказ, Северный Кавказ? Потому что значительная часть населения (около 1 млн человек) Закавказья и Северного Кавказа как раз и подпадала под принудительное переселение.
Переселенцам пришлось выдержать сложный жизненный экзамен на выживаемость, выдержать жесткие, трудно переживаемые воздействия на психику путем деструктивного давления со стороны органов партийной и советской власти. В этих условиях контингенты людей подверглись последствиям доминантного состояния, при помощи которого только этому явлению, связанному с нарушением психики через впечатления, создаваемые образы, прежде всего поиск виновного в случившемся, убеждения в том, что происходило в реальности.
Исходя из этого положения, рассмотрены и другие аспекты обозначенной в публикации научной проблемы.
Обсуждение
Занимаясь изучением проблемы принудительных переселений в Союзе ССР в 1920–1950-е годы, автор при анализе условий жизнеобеспечения обращает внимание на трудовую занятость спецпереселенцев, испытавших на себе названную принудительную меру.
Следует признать, что многие исследователи заостряют внимание на такие факторы, как адаптация и интеграция, придавая им особую роль в формировании отношения к принудительно высланному контингенту на местах его обитания. Наблюдается некоторое увлечение этими характеристиками. Хотя, как показывает исследование этой стороны, не всегда это соответствует действительности, а также способствует выявлению реалий в ходе раскрытия темы.
Дело в том, что эти факторы влияют на обустройство людей в особенной обстановке, т.е. независимо от того, где бы они не находились, под каким статусом не осуществлялось их проживание. Некоторые спецпереселенцы свидетельствуют о том, что увлечение этими факторами не является главным в обустройстве их жизни. Самыми главными, по их убеждению, выступают такие факторы, как пространство и время, с их характеристиками применительно к практике.
А.А. Ухтомский известен как создатель учения о доминанте. Он полагал, что в этих процессах приобретают значение более труднопреодолимые факторы нашего бытия, такие как пространство и время, и особенно в положении граждан, оказавшихся в числе принудительно переселенных.
Понятие «доминанта» А.А. Ухтомский правомерно рассматривает применительно и к другим сторонам состояния. Доминанта выступает как главенствующая идея, основной признак или важнейшая составляющая часть чего-либо. Временно господствующий очаг возбуждения в центральной нервной системе, способный оказать и тормозящее влияние. Словом, доминанта выступает как явлением, возбуждающим в определении состояния, так и «устойчивым очагом повышенной возбудимости нервных центров». Принцип доминанты в психологической сфере должен выступать в качестве главного принципа в характеристике положения людей, организации поведения их в возникавших условиях.
К проблеме обращались и ученые, журналисты, политологи. По нашему мнению, ученый, публицист Алан Касаев, увлекшись вопросом ослабления влияния России в Закавказье в середине 1990-х годов, несколько поторопился с выводом о воздействии этих процессов и на положение в северокавказском регионе, отмечая при этом якобы наблюдавшееся отключение России от капитала из республик Северного Кавказа [8, c. 5].
Изучение вопроса о сосредоточении Чечни вокруг суверенитета пока не позволяет делать столь категоричный вывод. Чечня даже не воспользовалась этой возможностью после окончания первой воны 1994–1996 гг., а отдельные силы в республике вообще выступали в своей повседневной практике за суверенитет в составе Российской Федерации. Конечно, единства в этом вопросе не было. Так, спикер Чеченского парламента Хусаин Ахмадов по этому поводу замечал: «Мы за сохранение с Россией прозрачных границ и горизонтальных отношений во всех сферах жизни, но без вассально-вертикальной подчиненности. Это формула нашего суверенитета» [7, с. 9]. Анализировались при этом и механизмы реализации этих вопросов.
Более убедительным звучит в этом плане утверждение А. Касаева о наличии экономических программ в северокавказских республиках, пробуждавших надежду на улучшение ситуации в экономическом отношении, их расширении, в частности по Республике Дагестан («Федеральная целевая программа стабилизации социально-экономического развития Республики Дагестан на период до 2001 года»), Ингушской («О мерах по обеспечению стабилизации в Ингушской Республике»), Кабардино-Балкарской («Социально-экономическое развитие национально-культурного возрождения балкарского народа в 1996–2000 гг.»), Северной Осетии – Алании («О первоочередных мерах социально-экономической поддержки Моздока и Моздокского района Республики Северная Осетия – Алания»)1.
Подобные действия тащили за собой и невыполнение намеченных планов, например, по модернизации транспортных узлов (Махачкала), аэропорта (Ингушская Республика), других отраслей народного хозяйства. Попирались права на производство алкоголя (Республика Северная Осетия – Алания). Но для рассмотрения этого периода на юге, за исключением Краснодарского и Ставропольского краев, остальные субъекты региона оставались высоко дотационными (Республика Ингушетия – до 98%). Всего в стране в это время оставалось только шесть самодостаточных субъектов. Эти проблемы ощущались продолжительное время. Хотя и было разработано более 150 программ, 20 из которых – «Горы», тем не менее на практике реализация нескольких программ составляла до 10–20%.
Касаясь проблем подготовки программ «Горы», необходимо заметить, что эта сторона находила отражение в системе мер по реабилитации репрессированных народов. Значительная часть этнических общностей была принудительно переселена с горных местностей, в частности на Северном Кавказе с территории таких субъектов, как Чеченская Республика, частично Дагестанская ССР, Карачаево-Черкесская АССР, Кабардино-Балкарская АССР.
Перед многонациональным сообществом непосредственно России стояла главная задача – восстановить экономический потенциал государства и, как замечал Президент Российской Федерации В.В. Путин, только решение этой задачи создавало необходимые условия для обеспечения безопасности страны. Об этом говорилось и в принятом в 2012 г. политическом документе «Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года». В этом плане усилия будут направленны на формирование условий для обеспечения государственной безопасности, безопасности территорий проживания народов, их семей [9, c. 2].
Несомненно, экономический потенциал – основа экономического возрождения государства, что также выступает приоритетным направлением в закавказских государствах – республиках Грузия, Армения и Азербайджан.
И в данном случае повсюду приобретала особое значение проблема формирования экономической основы российской государственности как базы совершенствования федеративных отношений.
Анализ зависимости состояния национальной политики от положения в экономическом секторе позволяет выявить пути улучшения взаимосвязи состояния федеративных отношений, эффективного использования ресурсов, инвестиций, направленных на поддержку регионов, улучшение положения населения независимо от национальной принадлежности.
Государственные органы власти, к сожалению, не поспевали с выработкой механизмов поддержки системы экономики регионов. В целом особо учитывались и территориальные особенности, специфика территорий в развитии экономического сектора.
В новых условиях существования государства основой становилось поэтапное решение комплекса проблем в сфере экономики регионов. Постановлением Верховного Совета РФ 25 декабря 1992 г. № 4240-1 «Государственная программа развития экономики и культуры малочисленных народов Севера» была включена в перечень федеральных программ. Государственным заказчиком становился Гос-комсевер России.
Начиная с 1994 г. функции по реализации программы переходили в ведение Миннац России.
Как известно, в 1990-е годы основой эффективного развития регионов был признан путь разработки программ социально-экономического развития и культурного возрождения этнических общностей, что включало и составляющие национальной политики. Разумеется, что эти процессы требовали комплекса мер по отходу от территориального разделения труда, постепенного выравнивания ситуации путем распределения централизованных капитальных вложений.
В этой ситуации, конечно, основная роль принадлежала государству. Оно обязано было регулировать меры, связанные с самой поддержкой территории. С этой целью создавались специальный Фонд поддержки субъектов Российской Федерации, а также другие федеральные фонды. Механизмы осуществления намеченных мер на практике - дотации, субвенции, разного рода льготы, разграничение полномочий и предметов ведения, управление собственностью, ссуды и др. В данном случае образовалось тесное переплетение региональной и национальной политики, сочетание этих направлений в государственном развитии.
Экономисты-практики занимались в это же время выработкой механизмов реализации намеченных мер по сбалансированному развитию экономического сектора Федерации в целом и ее регионов, что обусловливалось в 1990-е годы состоянием экономического сектора, федеративных отношений (определенная федеральная поддержка, принятие федеральных программ, региональное прогнозирование, полный контроль над использованием федерального бюджета и др.).
Уже в начале 1990-х годов было очевидно, что состояние системы экономики России оставалось одним из самых сложных разделов и в государственной национальной политике. Она по-прежнему составляла основу для развития самой экономики. И не случайно этому приоритетному вопросу постоянно уделялось внимание в практической деятельности Миннац России, а также в соответствующих структурах, призванных курировать экономическую систему, занимавшихся ее развитием и совершенствованием с учетом многонационального фактора российской государственности.
Многие ученые, политики (Ю. Борисов, Д. Рогозин и др.) в последнее время все чаще утверждали, что «только национальная промышленность способна обеспечить стабилизацию экономики и создать новые рабочие места». В этом случае цель сводилась к задаче обеспечения высокотехнологичной индустрии, и главное условие – не решать эту проблему «за счет монетаризации и продажи углеводородного сырья». Несомненно, это был бы скрепляющий фактор и в системе межэтнических отношений.
Начиная с 1994 г. функции по реализации программы в Российской Федерации переходили в ведение Миннац России. Ситуация выглядела таким образом, что программа оставалась, например, для народов Севера, «единственным источником жизнедеятельности». В программу включались такие направления, как возведение жилья и социально-бытовой инфраструктуры, поднятие отраслей хозяйствования, обеспечение трудовой занятости, проведение мер по организации сети здравоохранения, культурно-массовых учреждений, народного образования.
Ответственность за реализацию несли местные органы исполнительной власти. Оценивая первые шаги в реализации Госпрограммы развития экономики и культуры малочисленных народов Севера на 1991–1995 гг. (Программа № 145), следует заметить, что проводились эти меры при поддержке федеральных органов исполнительной власти. Были в срочном порядке подготовлены долговременные программы строительства жилья. В этом случае 30% затрат возлагалось на Мин-нац России.
По этой причине приходилось на практике прибегать к замораживанию многих объектов, расторжению договоров, штрафам. В этом направлении отмечалась активизация деятельности Министерства по делам национальностей Российской Федерации.
Эта задача в 1990-е годы возлагалась на Минэкономики России, Министерство национальной и региональной политики России. Министерствами определялись и приоритетные для регионов направления: регулирование регионального воспроизводства, финансовая поддержка субъектов путем принимаемых программ развития и совершенствования федеративных отношений.
С учетом специфики расселения и трудовой занятости населения это требовало и особых подходов в новых условиях рыночных отношений, чтобы приспособиться к изменениям во всех сферах общества, что оставалось сложной задачей.
Конечно, этот процесс требовал огромных усилий по интеграции регионов России и взаимной поддержке развития. Поэтому не случайно, что задачи решались совместно с таким структурами государственной власти, как Минэкономики России, Минкультуры, Минобороны, Минсельхоз, МИД, МВД, Минфин России. Для этой работы характерным оставался принцип тесного взаимодействия и согласования.
Федеральным программам по мере их разработки придавалось на практике особое значение. Однако для структур их реализации был свойственен остаточный принцип, что наносило вред самой эффективности программ. Как отмечал в то время по этому поводу первый замминистра по делам национальной и региональной политики А.М. Поздняков, «эту задачу решал Минфин России» [10, c. 7].
Были определены и теоретические подходы к решению проблемы, присущие многонациональному государству, что во многом определяло его специфику, в первую очередь выработка «Концепции социально-экономического развития Федерации», ее составляющих субъектов. Эта мера рассматривалась как наиболее важная проблема государственной национальной и региональной политики. Органичное их существование вызывало к жизни в 1990-е годы необходимость формирования специальных институтов в сфере экономики, одним из которых и являлись Ассоциации экономического взаимодействия как новой организационной формы территориального управления, выступавшей в тот период национальнотерриториальной «моделью» управления.
Надо отметить, что уже в первой половине 1990-х годов активно велась подготовка по созданию нормативно-правовой базы. И в то же время следует признать, что с развалом прежней командно-территориальной системы управления народным хозяйством были утрачены и применявшиеся хозяйственные принципы региональной политики. Уходили в прошлое и имевшиеся тесные хозяйственные связи, развивавшиеся как по вертикали, так и горизонтали. Остро ощущалась разбалансированность в экономических и правовых преобразованиях этой сферы, они вступали в противоречие с теми мерами, которые предлагались в новых условиях существующей государственности.
В начале 1990-х годов можно было наблюдать и противостояние экономических интересов политическим (нерешенность множества проблем в сфере межэтнических отношений, местного самоуправления, зависимость от государственных возможностей и др.). В связи с этим уже в начале 1990-х годов перед законодательными органами власти четко формулировалась задача – обосновывать и развивать нормативно-правовую сторону межрегиональных ассоциаций и других хозяйственных объединений, обеспечивающих экономическую интеграцию, укрепление единого экономического пространства.
В концентрированном виде основные положения и состояние дальнейшего развития были сформулированы заместителем Председателя Правительства России, министром Российской Федерации по делам национальностей и региональной политики Н.Д. Егоровым. Они сводились к тому, чтобы не допускать искажения экономических интересов, элитной политизации региональных интересов, а также содействовать: укреплению единого экономического пространства, развитию межрегиональных ассоциаций и других объединений, обеспечивающих экономическую интеграцию; подготовке региональной концепции социально-экономического развития; осуществлению сбалансированного перевода экономики регионов на рыночный механизм хозяйствования, согласованный механизм правительственных решений; развитию субъекта как целостной социально-экономической и производственной системы, эффективного саморегулирования, финансирования, самоуправления и др. [4, c. 180–181; 6]. Эти факторы учитывались и в завершавшемся процессе разграничения государственной собственности на всех уровнях, упорядочивались земельные отношения на местах.
Уже на первых состоявшихся совещаниях перед органами власти субъектов Федерации ставилась задача разработать в рамках государственной национальной политики, в том числе региональной, «Концепцию социально-экономического развития» (республика, область, край, автономная область, автономный округ). В документе предполагалось изложить принципы политики, в том числе на региональном уровне, согласованные социально-экономические и научно-технические направления развития регионов между собой, а также с учетом приоритетов Федерации.
С одной стороны, усиливался элемент доверия, а с другой – переложение обязанностей центральных органов власти, управлявших экономической системой, в ведение органов власти на региональном уровне. Разумеется, что органы власти занимались поиском новых форм осуществления второго этапа приватизации с учетом интересов регионов, разработкой программ осуществления мер, связанных с этим процессом1.
В этой ситуации Миннац России провел адресную работу по государственной поддержке регионов, что не обошлось без ошибок, особенно в плане перекосов в использовании средств, выделяемых по целевому назначению. Сложной оставалась, как было отмечено выше, задача, которая в тот период возлагалась на Миннац России, по обеспечению регионов Крайнего Севера, когда на практике применялся «безвозмездный порядок финансирования». Конечно, это не могло не приводить к определенной «утечке, потере средств целевого назначения».
Итоги изучения вопросов межэтнических отношений, развития сотрудничества в России на базе прочной экономической основы, учитывающей интересы этнических общностей, особенности и специфику их проживания, трудовой деятельности содействовали решению перечисленных задач, связанных с осуществлением национальной политики.
В связи с этим надо признать, что был верным предпринятый шаг, связанный с готовившимся Миннац России во взаимодействии с другими министерствами и ведомствами «Планом деятельности правительства РФ по реализации экономической реформы. Основные положения Государственной региональной политики». Полагалось, что они будут содействовать выстраиванию отношений по вертикали и горизонтали. Тем не менее судьбы этих планов по большей части были схожими: для их реализации не хватало средств в государственной казне.
Так, на Северном Кавказе, в Республике Дагестан, в первой половине 1990-х годов было высвобождено из системы республиканской экономики 45 тыс. работавших граждан. В целом к середине 1990-х годов безработица уже составляла не менее 170 тыс. человек [5, с.25]. Более того, обстановка, как отмечает М.Н. Абдуллаев, усугублялась также вспыхнувшими претензиями, неурегулиро-ванием вопроса о границах автономных образований, этническим сепаратизмом и национал-патриотизмом. В основе этих социальных явлений было основное требование – отделение от Российской Федерации.
В этой ситуации было правомерным признать, что фактором социальной напряженности становилась социальная поляризация многонационального сообщества Федерации. И вызвана она была прежде всего устранением государства из сферы регулирования доходов его граждан, неконтролируемым перераспределением национального богатства, также повлекшим расслоение общества. В 1991 г. соотношение доходов беднейших и самых богатых слоев населения в целом по России составило 1:13,5 раза [1, c. 24–25].
В целях улучшения ситуации необходимым было принятие конкретных мер в масштабе как страны, так и ее регионов. На федеральном уровне было принято более 150 программ социально-экономического развития регионов страны. Но их результативность длительное время оставалась крайне низкой.
Это не могло не сказываться на общем состоянии экономической системы во многих регионах Российской Федерации, подпадавших под статус депрессивных. И в этом плане многое зависело от организаторских способностей руководителя территории. Кстати, следует отметить, что в середине 1990-х годов в числе недотационных регионов оставалось только 9 из 89 по стране. Затем этот показатель сократился до 6 регионов. И все это служило основой для разработки новых программ социально-экономических преобразований. Это касалось и горных регионов страны, применительно которых министерствами, в том числе с участием Миннац России, было подготовлено более 40 программ . Они оставались неисполненными. Их пересмотр вел к сокращению численности.
Экономическая составляющая была отражена в первую очередь в «Основных направлениях государственной национальной политики РФ на Северном Кавказе» (1998–1999), предусматривавших решение социально-экономических и финансовых вопросов, формирование комиссий по контролю над целевым использованием материальных ресурсов, развитие и совершенствование экономических и культурных связей с другими субъектами. Все это подводит к мысли, что разработчики предложенных программ исходили из того понятия, что горы - это не только составляющая часть географического региона, природного ландшафта, это прежде всего и составная часть экономической системы, а также художественноэстетического потенциала, что, как замечают многие исследователи, «придает самой проблеме междисциплинарный характер».
Изучение этой проблемы во все времена актуально, и в этом плане накоплен богатый как научный, так и практический опыт.
Постановлением Совета Министров России от 16 ноября 1993 г. (№ 918) применительно к Северному Кавказу, наряду с научно-практическими объединениями, развернула работу и Ассоциация социально-экономического сотрудничества краев, областей региона, возглавляемая Н.Д. Пивоваровым [4, c. 180–181].
Северный Кавказ длительное время оставался зоной депрессивной экономики, вследствие чего протекавшие здесь многие социальные и этнополитические процессы приобретали кризисный характер. В регионе, по имеющимся данным, насчитывалось около двух десятков скрытых, вялотекущих конфликтов. Сказывалась и нерешенность процессов экономической реабилитации принудительно выселявшихся народов региона.
Состояние дел в сфере экономики можно проследить на примерах краевого и республиканского субъектов региона. Как недотационный субъект примером может служить Краснодарский край, на территории которого проживали представители более 120 этнических общностей, а также Кабардино-Балкарская Республика и другие субъекты региона с учетом специфики их развития.
Полное представление о развитии экономической системы к началу 2000-х годов дают информационно-аналитические материалы Управления информации и социально-экономического прогнозирования Администрации Краснодарского края. Граждане, занятые в производственных сферах, вносили заметный вклад в развитие экономической системы как основы состояния межэтнических отношений. Все меры в этом секторе политики проводились в 1990-е годы в условиях усиления государственного регулирования и контроля над реальными направлениями экономики, поддержки отечественного качественного производства. Основой выступали комплексные и отраслевые программы, разработанная к этому времени нормативно-правовая база.
Определенной спецификой в этой сфере отличалась ситуация в КабардиноБалкарской Республике. В условиях бурного всплеска этнической мобильности масс (начало 1990-х годов) балкарское сообщество в республике принимало усилия к самостоятельному существованию, велись острые дебаты и об экономике региона, о границах, территории, образовании, восстановлении духовных ценностей и др.
Оргкомитет предстоявшего Международного конгресса горцев, проведение которого планировалось на 1-2 августа 1999 г., в ходе подготовки
(июль 1991 г.) наметил обсудить приоритетные вопросы. В их числе значились возрождение этнической мобильности, регулирование в сфере отраслей хозяйства, рыночных отношений, применение форм и модели совершенствования социально-экономического развития. Также предлагалось рассмотреть возможности возрождения и преумножения духовных ценностей.
В отношении этнических общностей Северного Кавказа, в частности балкарцев, предлагалась своеобразная программа первоочередных мер. Совет балкарского народа, избранный съездом ВСКБ (19 ноября 1991 г.), был представлен 18 февраля 1994 г. в качестве единственного органа власти балкарского народа. Естественно, он уделял внимание вопросу экономического развития районов проживания балкарцев.
В данном случае была ценной инициатива самих регионов, в частности республик, краев, областей. Это находило понимание и на местах. В апреле 1992 г. с инициативой подписать соглашение об экономическом сотрудничестве с Республикой Абхазия выступил президент Кабардино-Балкарской Республики В.М. Коков. Затем география участников договора была расширена. Предложение принимало форму четырехстороннего соглашения, включая такие республики, как Адыгея и Карачаево-Черкесская [ЦГА КБР. Ф.1196. Оп.2. Д.18. Л.6]. И для реализации этой меры были все основания: при объединении ресурсов можно было решать многие задачи экономического развития. В подписании соглашения 19-20 мая 1992 г. участвовали руководители от Совета Карачаево-Черкесии В.Н. Савельев и известный политик и государственник, 1-й заместитель Главы администрации республики А.Г. Озов.
По инициативе В.М. Кокова и Президента Республики Адыгея А. Джаримова была подготовлена программа сотрудничества в сфере экономики и развития культуры в новых условиях рыночных отношений [ЦГА КБР. Ф.1196. Оп.2. Д.18. Л.6].
Определенным мобилизующим к поднятию производства в новых условиях фактором, вселявшим и некую надежду, явилось принятие 14 октября 1992 г. Указа Президента РФ «О мерах по государственной поддержке социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики», которым предусматривалось структурирование земельной экономики. Правительство КБР разработало и утвердило «Программу структурной перестройки народного хозяйства КБР на 1993–1995 гг.» [ЦГА КБР. Ф.1196. Оп.2. Д.18. Л.6]. В связи с этим предусматривалась разработка 40 самостоятельных проектов. В письме в Правительство Российской Федерации В.М. Коков изложил просьбу для реализации этой задачи в масштабе республики выделить из госбюджета средства в сумме 70 млрд рублей [ЦГА КБР. Ф.1196. Оп.2. Д.18. Л.6].
Основываясь на том, что научно-технические и экономические интересы субъектов Северокавказского региона тесно переплетались, В.М. Коков выступил с предложением о создании «политико-экономического и культурного пояса вокруг Кабардино-Балкарской Республики», включая также административные края Юга России [ЦГА КБР. Ф.1196. Оп.2. Д.1198. Л.1236.].
Не оставалась без внимания и Чеченская Республика. Вопрос о положении в Чечне рассматривался 24-25 января 1995 г. на совещании руководителей субъектов, входивших в Ассоциацию социально-экономического сотрудничества республик, краев, области Северного Кавказа. По вопросам о социально-экономическом положении Чеченской Республики, а также целевого финансирования казачьих общественных объединений на территории республики, восстановления прав турок-месхетинцев участники приняли решение обраться к Правительству Российской Федерации в целях организации более эффективной работы, придать названной Ассоциации статус экспертно-консультативного органа при Правительстве Российской Федерации [10, c. 181–182].
Все это необходимо было для своевременного осуществления социальных выплат населению республики, организации Межведомственной информационной службы с ежемесячным выпуском информационных бюллетеней.
Конечно, экономический сектор Чеченской Республики не мог в тех условиях разворачиваться в полную силу. Хотя к 2004 г., по данным Аппарата министров республики, валовой внутренний продукт ее составил 17 млрд рублей. Было решено к 2010 г. довести его до 43 млрд рублей1.
При этом указывалось, что основной упор будет сделан на нефтедобывающую отрасль, строительную индустрию. Предусматривалось и дальнейшее развитие агропромышленного комплекса.
Одним словом, проблемы продолжавшегося социально-экономического кризиса в регионе оставались по-прежнему в центре внимания и в последующее время. Имелось основание для выхода экономики из обозначенной ситуации в масштабе России, но Северокавказский регион пока отличался экономическим спадом.
По имевшимся сведениям, за первое полугодие 1997 г. только в Карачаево-Черкесской Республике был отмечен прирост производства на 1,3%, в остальных же регионах спад производства составлял от 6,8% в Республике Дагестан до 27,4% в Республике Ингушетия.
Снижался и уровень жизни населения Северного Кавказа, возрастала численность безработных, а в соответствии с этим возрастала преступность (Кабардино-Балкарская Республики – 103,7%, Республика Северная Осетия-Алания – 100,7%, Ставропольский край – 101,7%, Российская Федерация в целом – 90,2%)2.
Выводы
Таким образом, проблемы продолжавшегося социально-экономического кризиса в регионе оставались по-прежнему в центре внимания и в последующее время. Имелись основания для выхода экономики из обозначенной ситуации в масштабе России. Однако Северокавказский регион пока отличался экономическим спадом.
Вряд ли были возможны преобразования в многонациональном государстве без соблюдения сбалансированного развития системы экономики, составляющей основу модернизации в техническом отношении и, как следствие, преобразования политического и общественного сектора жизни населения.
Эти задачи как раз и возлагались на разработчиков Программы социальноэкономического развития и этнокультурного возрождения регионов России, включая горные регионы. Все они основывались на согласовании интересов проживавших в стране, а также ее составляющих территориях, этнических общностей, обеспечении правовой и материальной основы для их развития и выгодного сотрудничества. Все это позволяло на практике преодолевать и возникавшие доминантное состояние, а также вызывавшее по этой причине доминантное настроение в обществе.
Список литературы Теория доминанты в решении социальной проблемы развития горных регионов России: специфика, реалии, итоги, выводы
- Абдуллаев М.Н. К межнациональному вопросу в Республике Дагестан. - Махачкала, 1997. - 63 с.
- Абдуллаев М.Н. Межнациональные отношения в Дагестане. 1985-1995 гг. Опыт, проблемы, уроки: Автореф.. к.и.н. Специальность - 07.00.02. - Махачкала, 1997. - С. 4.
- Большая советская энциклопедия. - Т. 23. - М., 1931. - С. 136.
- Бугай Н.Ф. Русские на Северном Кавказе: социальное положение, трансформации этнической общности. 1990-е годы - начало ХХI века. - М., 2019. - С. 180-181.
- Дагестанская правда. - 1997. 25 апр. - С. 24-25.
- Егоров Николай Дмитриевич. - URL: http://www.biografija.ru/biography/sapiro-evgenij-saulovich.htm (дата обращения: 15.02.2024).
- Емельяненко В. Российские войска вышли к границам Чечни - и это оказалось спасением для режима генерала Дудаева // Московские новости. - 1992. 22 нояб. - № 47. - С. 9.
- Касаев А. О новом единстве Большого Кавказа // Независимая газета. - 1998. 14 авг. - С. 5.
- Михайлов В.А. "Все определит народ Чечни" // Правда. - 1995. 4 авг. - С. 2.
- Поздняков А.М. Региональная политика: проблема становления и методы реализации // Информационный бюллетень. - № 2. Федерация и народы России. - М., 1995. - С. 7 (48 с.).