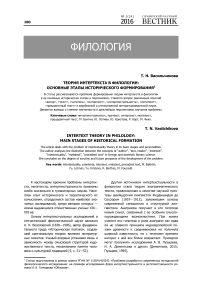Теория интертекста в филологии: основные этапы исторического формирования
Автор: Васильчикова Татьяна Николаевна
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 2 (24), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема формирования теории интертекста в филологии в ее основных исторических этапах и персоналиях. Ставится вопрос различения понятий «автор», «текст», «читатель», «интертекст», «интертекстуальность», «метатекст», «прецедентный текст» в зарубежной и отечественной литературоведческой науке. Делаются выводы о степени изученности и дальнейших перспективах изучения проблемы.
Интертекстуальность, претекст, интертекст, метатекст, прецедентный текст, м. бахтин, ю. лотман, ю. кристева, р. барт, м. фуко
Короткий адрес: https://sciup.org/14114340
IDR: 14114340
Текст научной статьи Теория интертекста в филологии: основные этапы исторического формирования
К настоящему времени проблемы интертекста, метатекста, интертекстуальности признаны особо значимыми в гуманитарных науках. Накоплен опыт исторического и теоретического их осмысления, определился состав наиболее значимых исследований, среди авторов которых — имена выдающихся отечественных ученых XIX— XXI вв.
Основу интертекстуальных исследований в отечественной филологической науке заложил А. Н. Веселовский (1838—1906), автор фундаментального труда «Историческая поэтика», создавший оригинальную теорию влияния литературных сюжетов. Ученый впервые установил связь и зависимость между смысловой структурой художественного текста, механизмами памяти человека и культурной традицией [5, с. 51—52].
Другим источником интертекстуальности в филологии стала теория анаграмматического текста, предложенная в качестве научной гипотезы швейцарским лингвистом Фердинандом де Соссюром (1857—1913), заложившим основы современной семиологии и структурной лингвистики. Анаграмма получает в его гипотезе новый смысл, связанный с ее особыми смыслопорождающими возможностями. При жизни ученого его гипотеза о роли анаграмм как едва ли не главного принципа индоевропейской поэзии древности и средневековья не получила широкой известности, но с течением времени интерес к ней все более возрастает. Примером могут послужить исследования А. В. Пузырева, И. А. Дементьева и других [Дементьев, 2015; Пузырев, 1995].
Анаграмма понимается Ф. де Соссюром как способность языка разделяться на первичные единицы, из которых можно составить новые слова с новым смыслом. Открытое ученым явление позволило получить наглядную модель того, как элементы одного текста, включенные в другой, могут изменять значение последнего. Такое языковое «конструирование» имеет отношение к теории интертекста как способа создания текста из уже имеющихся «чужих цитат». Гипотеза получила известность только в конце 1960-х годов и сразу привлекла французских постструктуралистов, группировавшихся вокруг журнала «Тель Кель» («Tel Quel»). Юлия Кри-стева отводит этой проблеме специальный раздел в своей книге «Семиотика» (1969) под названием «О семиологии параграмм». Она подтверждает наблюдение Ф. де Соссюра о том, что явление параграмматизма (намеренное или бессознательное использование анаграмм) в первую очередь наблюдается в рифмованных поэтических текстах. Новым является характерная для постструктурализма настойчивая попытка сближения языковых явлений и социальных процессов. Особое звучание это приобретает в условиях молодежного движения 1968 года, приближавшегося в масштабах к революционному перевороту. Через анализ параграмм постструктуралисты пытаются объяснить и даже смоделировать социальные явления, отводя семиотике ключевую позицию в революционном процессе, который приобретет глобальный характер, так как сможет якобы «соединить» грамматический (монологический) и параграм-матический (протестный, диалогический) процессы. Такое утверждение было чрезмерным, события 1968 года не подтвердили ожиданий.
Процесс формирования современных научных представлений об интертекстуальных функциях художественного текста проходит ряд последующих исторических этапов. Сам термин «интертекстуальность» обязан рождением Юлии Кристевой и впервые прозвучал осенью 1966 года в ее докладе о творчестве М. М. Бахтина на семинаре ее учителя, Ролана Барта, опубликованном весной 1967 года в виде статьи под названием «Бахтин, слово, диалог и роман» [17, с. 5]. Также ей принадлежит предисловие к французскому переводу книги «Проблемы поэтики Достоевского» («Разрушение поэтики», 1970), сборник статей «Semeiotikē. Исследования по семанализу» (1969) и книга «Текст романа» (1970). Исследовательница познакомила западный мир с личностью и научными идеями М. М. Бахтина. К этому времени Ю. Кристева была хорошо знакома с несколькими работами М. М. Бахтина разных лет: «Проблемы поэтики Достоевского», «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса», Волошинов В. Н. (Бахтин М. М.) «Марксизм и философия языка. Основные проблемы социологического метода в науке о языке», Медведев П. Н. (Бахтин М. М.) «Формальный метод в литературоведении. Критическое введение в социологическую поэтику». Особое внимание уделено ею работе Бахтина «Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве» (1924), где впервые формулируется идея художественного диалога культур, которая лежит в основе понятия «интертекстуальность», хотя сам термин ученым не употребляется. Позже он развивает теорию диалогизма слова в работе «Проблемы поэтики Достоевского» (глава V «Слово у Достоевского»):
«Слово по своей природе диалогично», «диалогическое общение и есть подлинная сфера жизни языка. Язык живет только в диалогическом общении пользующихся им. Вся жизнь языка, в любой области его употребления (бытовой, деловой, научной, художественной) пронизана диалогическими отношениями» [2, с. 212].
Уже М. М. Бахтин подчеркивает, что диалогический характер слова не ограничен настоящим временем, что впоследствии обязательно учитывается в практике интертекстуального анализа. По определению И. П. Ильина:
«Помимо данной художнику действительности он имеет дело также с предшествующей и современной ему литературой, с которой он находится в постоянном «диалоге», понимаемом как борьба писателя с существующими литературными формами» [12, с. 164].
В работе «Марксизм и философия языка» (1929) М. М. Бахтин продолжает развивать идеи диалогизма речевого высказывания и вводит два новых аспекта: во-первых, рассматривает диалогичность как свойство не только устного, но и письменного высказывания в тексте, которое выражается, в частности, в делении текста на абзацы, которые он идентифицирует с репликами в диалоге. Во-вторых, ставится вопрос конструкций для передачи чужой речи. Он пишет по этому поводу:
«Продуктивное изучение диалога предполагает более глубокое исследование форм передачи чужой речи, ибо в них отражаются основные и константные тенденции активного восприятия чужой речи» [6, с. 126].
В работе «Проблемы речевых жанров» ученый доказывает, что «всякое понимание живой речи носит активно-ответный характер», и выделяет две формы отклика на понятую живую речь:
-
— активно-ответное понимание, которое реализуется немедленно непосредственно в действии (например, исполнение);
-
— активно-ответное понимание замедленного действия. Жанры сложного культурного общения в большинстве случаев рассчитаны на активно-ответное понимание замедленного действия. На основании концепции активно-ответного характера живого высказывания М. М. Бахтин приходит к выводу об амбивалентности говорящего субъекта: он не только говорящий субъект, но и отвечает на предшествующие его высказыванию слова, реплики, теории [4, с. 235—236] (курсив наш. — Т. В. ).
В свете сказанного предметом филологического исследования должно быть диалогическое взаимодействие двух величин: передаваемой («чужой») речи и передающей («авторской») речи. Это положение теории диалога дает возможность рассмотреть текст в его горизонтальном и вертикальном значении — как обращенный к «здесь и сейчас», то есть к собеседникам и слушателям, воспринимающим текст непосредственно и сегодня, так и обращенный к «вчера», к прошлому. Такое понимание текста позволяет увидеть совокупность его смыслов и значений и определить силу и направление его воздействия на слушателя. Вовлеченность субъекта речи в «культурный диалог» — необходимая составляющая теории интертекста, которая разрабатывается М. Бахтиным на протяжении 60-х годов, вбирая такие понятия, как беспрестанно растущая «текстовая цепь», звеном которой является каждое конкретное высказывание; «незавершимый» в принципе диалогический «контекст», «большое время» культуры, которые прочно вошли в современную культуру и методологию гуманитарных наук и изменили их характер. Следствием является и представление о культуре как о безграничном процессе создания и постижения смыслов.
Научные идеи Бахтина, в первую очередь идея культурного диалога, переосмыслены Кри-стевой, трактующей диалогизм преимущественно как диалог между текстами. Дальнейшее развитие идеи диалога получают в работах Р. Барта (1915—1980), который совместно с другими французскими структуралистами в 60—70-е годы XX века разрабатывает новую методологию гуманитарных наук. Собственно, структуралистский период деятельности Барта — 60-е годы. Постструктуралистский, который Г. К. Коси- ков называет «блестящим», — период 70-х годов. Но уже в 1947—50-х годах Барт публикует во французской газете «Комба» («Combat») серию литературно-методологических статей, в которых пытается «марксизировать экзистенциализм», ищет «третье измерение» художественной формы, которое называет условным термином «письмо». Летом 1955 года он знакомится с «Курсом общей лингвистики» Фердинанда де Соссюра, идеи которого относительно имманентных процессов в языке, в частности, феномена анаграмм, были учтены в его дальнейших научных поисках. В итоге уже к середине 50-х годов под преимущественным влиянием социального анализа Б. Брехта и семиологии Ф. де Соссюра Барт осознает, что все явления культуры, от идеологического мышления до искусства и философии, могут быть восприняты как система знаков, а их назначение и воздействие можно эксплицировать и рационально объяснить. В середине 60-х годов он пишет работы «Система моды», «Основы семиологии», «Мифологии». Именно он предпринимает первые попытки превратить семиологию из описательной науки в науку «критическую» и, более того, действенную. С этим связано его влияние на теорию и литературную практику левого интеллектуально-художественного авангарда во главе с группой «Тель-Кель» («Tel Quel»), включавшей Филиппа Соллерса, Юлию Кристеву и других. Р. Барт разрабатывает основные положения коннотативной семиотики, применяет их для анализа литературной «формы», которая, как он говорил уже в работе «Нулевая степень письма», должна быть понята как один из многих типов социального «письма», «пропитанного культурными ценностями и интенциями, помимо собственного авторского содержания, которое она «выражает», и потому обладающего «собственной силой смыслового воздействия» [15, с. 10].
Постструктуралисты и деконструктивисты совершают своего рода революцию в литературоведении как науке. В книге «О Расине» (1963) Р. Барт начинает процесс преодоления позитивистских горизонтов, разрушая принципы причинно-следственных связей, лежащие в основе традиционного изучения «истории литературы». Как отмечает Г. К. Косиков, Барт как бы «методологически узаконивал существование всех тех направлений в послевоенном французском литературоведении (экзистенциализм, структурная поэтика и др.), которые, опираясь на данные современных гуманитарных наук, противостояли механической «каузальности» и эмпиризму по- зитивистских литературно-критических штудий» [15, с. 9]. Сборник «О Расине» вызвал ожесточенные нападки со стороны позитивистской «университетской критики». Ответом Барта стало эссе «Критика и истина» (1966), сыгравшее роль манифеста «новой критики», после появления которого он стал главой этого направления. Итоговое и самое шокирующее положение деконструктивизма о «смерти автора» (Р. Барт) восходит к формуле «смерть субъекта» Мишеля Фуко как следствие невозможности для творящей личности создать принципиально новый текст, поскольку каждый «новый» «растворяется» в явных или неосознанных цитатах из предшествующих текстов. В свете деконструк-тивистского представления о природе литературного творчества новый текст как понятие «нового слова» в принципе невозможен, так как всякое «новое» возникает в результате повторения уже сказанного и различной комбинации цитат. В созданной в 1969 году книге М. Фуко «Археология знания» («L Archeologie du savoir») ставится вопрос о возможности в принципе определить единицы дискурса. При этом автор ставит под сомнение как материальное, так и дискурсивное единство книг, то есть их персональную неповторимость. Именно рассуждения Фуко о невозможности определить строгие границы художественного текста далее развиваются Р. Бартом и положены им в основу деконструктивизма, отрицающего базовые для традиционного литературоведения понятия «автор», «произведение» и даже «читатель». Естественно, что отсутствие «границ» художественного текста приводит к сомнению относительно объективности существования самого «произведения». Переход к итоговой «деконструкции понятий» в теории Фуко логически закономерен:
«Так ли уж нам необходимы такие понятия, как «книга», «произведение», или даже такие общности, как «наука» или «литература? Надо ли оставаться в плену иллюзий, неплодотворных и безосновных?» [26, с. 25].
Влияние деконструктивистских идей М. Фуко отчетливо ощущается в работах Р. Барта «Смерть автора», «Мифология», «Удовольствие от текста», «О Расине». Определение интертекстуальности, данное Бартом в работе «Смерть автора», приобрело в настоящее время хрестоматийную известность:
«…каждый текст представляет собой новую ткань, сотканную из старых цитат. Обрывки культурных кодов, формул, ритмических структур, фрагменты социальных идиом — все они поглощены текстом и перемешаны в нем, по- скольку всегда до текста и вокруг него существует язык» — и стало каноническим в теории постструктурализма [1, с. 391].
Именно от этого итогового вывода деконструктивизма начинается своего рода идейная «развилка» между дальнейшим формированием теории интертекста в отечественной и западной филологии. «Традиционная» филология идет своим путем, учитывая новые возможности изучения художественного произведения, которые открываются с введением понятия «интертекстуальность». Деконструктивистские стратегии уводят в сторону отрицания понятия «автор», а затем и «читатель», размывания понятия «текст» до его полной глобализации, когда мир понимается как гипертекст, в котором все уже было сказано. Среди европейских ученых такой расширительной концепции придерживаются далеко не все, активно от нее отмежевываются сторонники коммуникативно-дискурсивного анализа (нарратологии), так как структуралистское понимание интертекста приводит к обесцениванию акта коммуникации как такового.
В истории отечественной гуманитарной науки теория диалогизма текста М. М. Бахтина находит дальнейшее продолжение в деятельности Тартусской семиотической школы, в первую очередь в исследованиях по семиотике Ю. М. Лотмана (1922—1993): «Текст в тексте», «Статьи по семиотике культуры и искусства», «Семиотика культуры и понятие текста». Если структуралисты отрицают факт персонификации и авторский характер художественного текста, то отечественная семиотическая школа изучает и разрабатывает его специфику. Понятие «текст» занимает в исследованиях Ю. М. Лотмана центральное положение, но трактуется очень широко, применительно к культуре в целом. Определение Лотмана «текст в тексте», собственно, и передает суть явления интертекстуальности как «переклички текстов» в художественном произведении. Ученый касается вопроса двойственности всякого художественного произведения, которое, являясь самостоятельным, включает и дополнительные «чужие» повествования. Именно на этом основан эффект диалога текстов. В отличие от деконструктивистов, отрицающих авторский характер каждого художественного текста, Лотман выделяет литературный текст в особую категорию интеллектуального текста, настаивает на его уникальной специфике. Он выделяет создание художественного литературного произведения как «качественно новый этап в усложнении структуры текста». Такой новый текст вступает в сложные отноше- ния «как с окружающим культурным контекстом, так и с читательской аудиторией, перестает быть элементарным сообщением, направленным от адресанта к адресату; обнаруживая способность конденсировать информацию, он приобретает память». Вследствие этого текст «обнаруживает свойства интеллектуального устройства» (курсив наш. — Т. В.) и не только передает вложенную в него извне информацию, но и «трансформирует сообщения и выражает новые». При этом усложняется и расширяется социально-коммуникативная функция текста [19, с. 5—6]. Ю. М. Лотман выделяет основные функции такого «интеллектуального текста», ставит вопрос о возможных формах включения «чужого текста» в авторский, что в его интерпретации связано с семиотикой пространственно-временной структуры произведения. Он называет и анализирует такие формы «врезки» чужого текста, как сон, вставные новеллы, документ, разграничивая понятия подлинной реальности и условной реальности художественного мира. В дальнейшем эти теоретические положения развиваются в его комментариях к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин» [20].
Значительный вклад в теорию интертекстуальности вносит известный отечественный ученый Б. М. Гаспаров. В книге «Язык, память, образ: лингвистика языкового существования» он так же, как Ю. М. Лотман, ставит вопрос цитации «чужого текста» и форм включения его в речь субъекта или в авторский художественный текст. По мнению ученого, наша языковая деятельность осуществляется как непрерывный поток «цитации», «черпаемой из конгломерата нашей языковой памяти» [7, с. 320]. Ученый вносит в теорию интертекстуальности новые аспекты, важнейшим из них является понятие «коммуникативного фрагмента» как «первичной, непосредственно заданной в сознании единицы языковой деятельности», которая хранится в памяти говорящего и которой он оперирует как готовым блоком при создании и интерпретации высказываний. Процесс смыслопорожде-ния всегда «вращается вокруг наличного языкового произведения, от него исходит и к нему возвращается» [7, с. 122].
Теория культурного диалога и диалогического характера письменного и устного речевого высказывания, разработанная М. М. Бахтиным, категория «текста в тексте» Ю. М. Лотмана, понятие «коммуникативного фрагмента» Б. М. Гаспарова находят дальнейшее осмысление в работах ряда современных отечественных исследователей, таких как Т. В. Шмелева, И. В. Труфа- нова, рассматривающих метатекст как часть модуса высказывания [25, 28].
В современной филологии разграничиваются понятия «интертекстуальность» и «интертекст». Интертекстуальность понимается учеными единообразно: как диалогическое взаимодействие текстов в процессе их функционирования, способствующее обнаружению глубинных смыслов исходного художественного текста. Но однозначности в трактовке понятия «интертекст» среди филологов не существует, что говорит о продолжающемся характере процесса формирования теоретических представлений. Под «интертекстом» сегодня может пониматься:
-
1. Любой текст, в котором просвечивается все возможное множество претекстов.
-
2. В. П. Руднев в «Энциклопедическом сло варе культуры XX века» определяет интертекст как «основной вид и способ построения художественного текста», состоящий в том, что «текст строится с обязательным использованием цитат и реминисценций из других текстов» [22, с. 155].
-
3. Совокупность всех существующих текстов. По определению Н. А. Кузьминой, «история поэтического языка — это история текстов или, иначе говоря, история интертекста» [18].
-
4. Определенный уровень дискурсивной модели текста. По мнению О. Н. Гришковой, «в дискурсивной модели текста присутствует уровень интертекстов, который важен для адекватного понимания текста» [9, с. 386].
-
5. М. Л. Гаспаров акцентирует момент повтора в интертексте, трактуя его как «словосочетание, повторенное в поэзии несколько раз, так что новое употребление заставляет вспомнить о старом» [8, с. 9].
-
6. Ю. С. Степанов определяющим свойством интертекста считает «явление контаминации текстов двух и более авторов» [24, с. 3].
По мнению профессора И. И. Чумак-Жунь, успешное разграничение категорий «интертекстуальность» и «интертекст» возможно при условии их соотнесенности с исходным понятием «текст». Если интертекстуальность — это одно из имманентных свойств текста, которое обнаруживается в различных текстовых знаках (кавычки, цитирование, ссылка и т. д.), то интертекст — это совокупность текстов, содержащих отсылки к общему источнику или друг к другу, то есть имеющих общую пресуппозицию [27, с. 254].
Как можно заключить, теория интертекста до сих пор находится в процессе развития. При всех различиях в трактовке проблемы в основе понимания интертекстуальности вплоть до сегодняшнего дня продолжает оставаться теория культурного диалога и переклички культур, созданная и развитая М. М. Бахтиным еще в 20-е годы. При этом интертекстуальность не может быть сведена к проблеме источников и влияний, так как она представляет собой общее поле анонимных культурных знаков и формул, происхождение которых не всегда легко или даже невозможно проследить, бессознательных или автоматических цитат, даваемых, по словам Р. Барта, «без кавычек». Из данного положения следует, что в интертексте язык представляет собой «гигантский мнемонический конгломерат», в котором уравниваются отдельные тексты и отсутствует аксиологическая шкала, поскольку значимым является лишь тот факт, что они кем-то когда-то были сказаны [7, с. 320].
В филологических исследованиях двух последних десятилетий продолжает расширяться база теоретических категорий. Так, в теорию интертекста включается новое понятие «преце-дентности высказывания». Впервые термин «прецедентный текст» введён в научную практику Ю. Н. Карауловым в докладе «Роль прецедентных текстов в структуре и функционировании языковой личности» на VI Международном конгрессе преподавателей русского языка и литературы в 1986 году. Ученый называет прецедентными тексты, «значимые для той или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, имеющие сверхличностный характер, т. е. хорошо известные и широкому окружению данной личности, включая её предшественников и современников, и, наконец, такие, обращение к которым возобновляется неоднократно в речи данной языковой личности» [14, с. 216].
Вслед за Ю. Н. Карауловым свой вклад в теорию прецедентного текста внесли другие отечественные исследователи. Среди них Г. Г. Слыш-кин, который понимает под «прецедентным текстом» «любую характеризующуюся цельностью и связностью последовательность знаковых единиц, обладающую ценностной значимостью для определенной группы» [23, с. 128]. Таким образом, обязательными свойствами такого текста считаются его связность и одинаковая ценность для определенной социальной группы, однако расплывчато само это понятие — под группой можно понимать и семью, и коллектив сотрудников, и людей одной профессии.
Определяя свойства прецедентных текстов, некоторые исследователи, например Н. А. Кузьмина, отмечают их большие «энергетические возможности». Исследовательница рассматривает межтекстовое взаимодействие с позиций «энергообмена» между текстами, различной
«энергоемкости» [18, с. 51—53]. В этой связи в лингвистике последних лет утвердились понятия «сильный текст», «ядерный текст». По определению Г. В. Денисовой, «сильные» означает постоянно востребуемые, получившие статус значимых в культуре в определенный исторический момент» [11, с. 297]. Именно «сильные» прецедентные тексты обладают очень значительной энергоемкостью. В. Н. Иноземцева исследует с этой точки зрения заглавия методических работ на английском языке и находит подтверждение, что для носителей английского языка «сильными» являются тексты пьес В. Шекспира, которые они опознают, даже встретив только в названии методического материала [13].
В работах В. В. Красных производится дальнейшее расширение теоретической базы, вводится понятие прецедентные феномены , в составе которых разграничиваются прецедентные ситуации, прецедентные тексты, прецедентные имена и прецедентные высказывания [16, с. 47].
Можно заключить, что уже к 90-м годам XX века теория интертекста в отечественной науке сформировалась в своих основных позициях. Процесс теоретического осмысления проблемы текста, однако, не только не завершен, но, видимо, в принципе не может завершиться. Но по мере накопления теоретических знаний наступает момент, когда интертекстуальная теория достаточно оформилась, чтобы на ее основе могла возникнуть новая стратегия и тактика филологического анализа. Интертекстуальный анализ литературного произведения в настоящее время имеет равные права со всеми другими формами аналитического изучения художественного текста. Интересные наблюдения в этой связи были сделаны известным отечественным ученым, переводчиком, профессором МГУ Г. К. Косиковым (1944—2010), которому принадлежит пальма первенства в истолковании постструктурализма и деконструктивизма в отечественной филологии и переводе работ Р. Барта на русский язык. Ученый предложил ограничить и конкретизировать сам предмет интертекстовой теории. Со ссылкой на работу французского исследователя Лорана Женни «Стратегия формы» (1976) он советует сузить и конкретизировать сами исходные понятия интертекстовой теории «текст» и «интертекст», размежевав сферы интертекстуальности и ин-тердискурсивности. Особенно важно отметить, что с интертекстуальной теорией Г. К. Косиков связывал возможность появления нового исследовательского направления в отечественном литературоведении — интертекстуальной поэтики или поэтики интертекста.
Наблюдения Г. К. Косикова подводят своеобразный итог в развитии интертекстуальной теории и намечают дальнейшие перспективы ее развития и использования в целях изучения закономерностей культурного развития, усовершенствования методики филологического анализа. Пространство культуры — это место взаи-моориентации и взаимодействия текстов, когда любой из них может быть прочитан как продукт впитывания и трансформации множества других текстов.
-
1. Барт Р. Смерть автора // Ролан Барт. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / пер. Г. К. Косико-ва. М. : Прогресс, 1989. 616 с.
-
2. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М. : Советская Россия, 1979. 320 с.
-
3. Бахтин М. М. Проблемы содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. 504 с.
-
4. Бахтин М. М. Проблемы речевых жанров // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М. : Искусство, 1979. 423 с. С. 237—245.
-
5. Веселовский А. Н. Из введения в историческую поэтику // Веселовский А. Н. Историческая поэтика. М. : Высшая школа, 1989. 649 с.
-
6. Волошинов В. Н. ( Бахтин М. М. ) Марксизм и философия языка: основные проблемы социологического метода в науке и языке. Л. : Прибой, 1930. 188 с.
-
7. Гаспаров Б. М. Язык, память, образ: лингвистика языкового существования. М., 1996. 351 с.
-
8. Гаспаров М. Л. Литературный интертекст и языковой интертекст // Известия АН. Сер. лит. и яз. 2002. Т. 61, № 4. С. 9.
-
9. Гришкова О. Н. Интертекст в аспекте дискурсивного понимания текста // Русский язык: исторические судьбы и современность : II Междунар. конгресс исследователей русского языка. М. : Изд. МГУ, 2004. С. 386.
-
10. Дементьев И. О. Что (не) написал Соссюр: полвека дискуссий о теории анаграмм // Вестн. Балтийского федерального ун-та им. И. Канта. 2015. Вып. 8. С. 17—25 (статья написана в рамках научного исследования «Анаграмматические коды: когнитивные основания и текстопорождающие возможности» при поддержке научного фонда РГНФ в 2015 году).
-
11. Денисова Г. В. В мире интертекста: язык, память, перевод. М. : Азбуковник, 2003. 297 с.
-
12. Ильин И. П. Интертекстуальность // Западное литературоведение XX века : энцикл. М. : INTRADA, 2004. С. 164—166.
-
13. Иноземцева Н. В. Прецедентный и интертекст как маркеры англоязычного научно-методического дискурса (на материале англоязычных статей по методической проблематике). URL: www.rusnauka.com/23_WP_2009/Philologia/50932 . doc.htm (дата обращения: 05.02.2016).
-
14. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М. : Ком. Книга, 2006. 261 с.
-
15. Косиков Г. К. Текст / Интертекст / Интертекстология // Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности / общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Коси-кова ; пер. с фр. Г. К. Косикова, Б. Н. Нарумова, В. Ю. Лукасик. М. : Изд-во ЛКИ, 2008. С. 8—42.
-
16. Красных В. В. Этнопсихолингвистика и лингво-культурология. Курс лекций. М. : ИТДГК «Гнозис», 2002. 284 с.
-
17. Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман // Диалог. Карнавал. Хронотоп. Витебск, 1993. № 4. С. 5.
-
18. Кузьмина Н. А. Интертекст и его роль в процессах эволюции поэтического языка. М. : Едитори-ал УРСС, 2004. 272 с.
-
19. Лотман Ю. М. Текст в тексте // Уч. зап. Тартус-ского гос. ун-та, 1981. Вып. 567. С. 3—8.
-
20. Лотман Ю. М. Роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин». Спецкурс. Вводные лекции в изучении текста // Лотман Ю. М. Пушкин: Биография писателя. Статьи и заметки. 1960—1990 гг. «Евгений Онегин». Комментарий. СПб., 1995. С. 395— 411.
-
21. Пузырев А. В. Анаграммы как явление языка. Опыт системного осмысления : дис. … д-ра фи-лол. наук. Саратов, 1995. 198 с.
-
22. Руднев В. П. Энциклопедический словарь культуры XX века: ключевые понятия и тексты. М. : Аграф, 2003. С. 155.
-
23. Слышкин Г. Г. От текста к символу: лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании и дискурсе. М. : Academia, 2000. 128 с.
-
24. Степанов Ю. С. «Интертекст», «Интернет», «интерсубъект». К основаниям сравнительной кон-цептологии // Изв. АН. Сер. лит. и яз. 2001. Т. 60, № 1. С. 3.
-
25. Труфанова И. В. Аспекты теории диалога в работах М. М. Бахтина и их развитие в современной лингвистике. URL: sibac.info/2009-07-01-10-21 (дата обращения: 17.02.2016).
-
26. Фуко Мишель. Единицы дискурса // Археология знания : пер с фр. Киев : Ника-центр, 1996 (Cер. OPERA ARARTA. Вып. I). 208 с.
-
27. Чумак-Жунь И. И. Еще раз об интертекстуальности и интертексте: к разграничению понятий в лингвистике // Текст как единица филологической интерпретации : материалы Всерос. науч.-практич. конф. с междунар. участием. Новосибирск : Изд-во ООО «Немо-Пресс», 2011. С. 252— 256.
-
28. Шмелева Т. В. Диалогичность модуса высказывания // Вестн. Моск. гос. ун-та. Сер. 9. Филология. 1995. № 5. С. 147—156.
Список литературы Теория интертекста в филологии: основные этапы исторического формирования
- Барт Р. Смерть автора//Ролан Барт. Избранные работы: Семиотика. Поэтика/пер. Г. К. Косикова. М.: Прогресс, 1989. 616 с.
- Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: Советская Россия, 1979. 320 с.
- Бахтин М. М. Проблемы содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве//Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. 504 с.
- Бахтин М. М. Проблемы речевых жанров//Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. 423 с. С. 237-245.
- Веселовский А. Н. Из введения в историческую поэтику//Веселовский А. Н Историческая поэтика. М.: Высшая школа, 1989. 649 с.
- Волошинов В. Н.(Бахтин М. М.) Марксизм и философия языка: основные проблемы социологического метода в науке и языке. Л.: Прибой, 1930. 188 с.
- Гаспаров Б. М. Язык, память, образ: лингвистика языкового существования. М., 1996. 351 с.
- Гаспаров М. Л. Литературный интертекст и языковой интертекст//Известия АН. Сер. лит. и яз. 2002. Т. 61, № 4. С. 9.
- Гришкова О. Н. Интертекст в аспекте дискурсивного понимания текста//Русский язык: исторические судьбы и современность: II Междунар. конгресс исследователей русского языка. М.: Изд. МГУ, 2004. С. 386.
- Дементьев И. О. Что (не) написал Соссюр: полвека дискуссий о теории анаграмм//Вестн. Балтийского федерального ун-та им. И. Канта. 2015. Вып. 8. С. 17-25 (статья написана в рамках научного исследования «Анаграмматические коды: когнитивные основания и текстопорождающие возможности» при поддержке научного фонда РГНФ в 2015 году).
- Денисова Г. В. В мире интертекста: язык, память, перевод. М.: Азбуковник, 2003. 297 с.
- Ильин И. П. Интертекстуальность//Западное литературоведение XX века: энцикл. М.: INTRADA, 2004. С. 164-166.
- Иноземцева Н. В. Прецедентный и интертекст как маркеры англоязычного научно-методического дискурса (на материале англоязычных статей по методической проблематике). URL: www.rusnauka.com/23_WP_2009/Philologia/50932. doc.htm (дата обращения: 05.02.2016).
- Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М.: Ком. Книга, 2006. 261 с.
- Косиков Г.К. Текст/Интертекст/Интертекстология//Пьеге-Гро Н.Введение в теорию интертекстуальности/общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова; пер. с фр. Г. К. Косикова, Б. Н. Нарумова, B. Ю. Лукасик. М.: Изд-во ЛКИ, 2008. С. 8-42.
- Красных В. В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология. Курс лекций. М.: ИТДГК «Гнозис», 2002. 284 с.
- Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман//Диалог. Карнавал. Хронотоп. Витебск, 1993. № 4. C. 5.
- Кузьмина Н А. Интертекст и его роль в процессах эволюции поэтического языка. М.: Едитори-ал УРСС, 2004. 272 с.
- Лотман Ю. М. Текст в тексте//Уч. зап. Тартус-ского гос. ун-та, 1981. Вып. 567. С. 3-8.
- Лотман Ю. М. Роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин». Спецкурс. Вводные лекции в изучении текста//Лотман Ю. М. Пушкин: Биография писателя. Статьи и заметки. 1960-1990 гг. «Евгений Онегин». Комментарий. СПб., 1995. С. 395-411.
- Пузырев А. В. Анаграммы как явление языка. Опыт системного осмысления: дис.. д-ра филол. наук. Саратов, 1995. 198 с.
- Руднев В. П. Энциклопедический словарь культуры XX века: ключевые понятия и тексты. М.: Аграф, 2003. С. 155.
- Слышкин Г. Г. От текста к символу: лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании и дискурсе. М.: Academia, 2000. 128 с.
- Степанов Ю. С. «Интертекст», «Интернет», «интерсубъект». К основаниям сравнительной концептологии//Изв. АН. Сер. лит. и яз. 2001. Т. 60, № 1. С. 3.
- Труфанова И. В. Аспекты теории диалога в работах М. М. Бахтина и их развитие в современной лингвистике. URL: sibac.info/2009-07-01-10-21 (дата обращения: 17.02.2016).
- Фуко Мишель. Единицы дискурса//Археология знания: пер с фр. Киев: Ника-центр, 1996 (Сер. OPERA ARARTA. Вып. I). 208 с.
- Чумак-Жунь И. И. Еще раз об интертекстуальности и интертексте: к разграничению понятий в лингвистике//Текст как единица филологической интерпретации: материалы Всерос. науч.-практич. конф. с междунар. участием. Новосибирск: Изд-во ООО «Немо-Пресс», 2011. С. 252-256.
- Шмелева Т. В. Диалогичность модуса высказывания//Вестн. Моск. гос. ун-та. Сер. 9. Филология. 1995. № 5. С. 147-156.