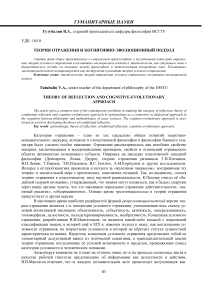Теория отражения и когнитивно-эволюционный подход
Автор: Тутубалин В.А.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Рубрика: Гуманитарные науки
Статья в выпуске: 3 (26), 2009 года.
Бесплатный доступ
Статья даёт общее представление о современной проблематике в исследовании категории отражения, теории условного отражения и когнитивно-эволюционном подходе в эпистемологии, как связующем звене в диалектическом взгляде на познание между философией и методологиями конкретных наук. Когнитивно-эволюционный подход позиционируется как инструмент в развитии теории условного отражения.
Эпистемология, теория отражения, условное отражение, когнитивно-эволюционный подход
Короткий адрес: https://sciup.org/142142127
IDR: 142142127 | УДК: :
Текст научной статьи Теория отражения и когнитивно-эволюционный подход
Акцентируя внимание не только на готовом знаке, но и на процессе семиозиса, вводя в качестве рабочей гипотезы представление об информации как целостности в действии, В.В.Мантатов отмечает, что «в каждом познавательном акте происходит актуализация как индивидуального, так и общественного отражательного опыта» [1]. Исходя из категории образа, как непосредственной чувственной формы отражения действительности, и опираясь на понятие информационной причинности, автор концепции расширяет первоначальную пир-совскую трактовку условности в прагматическом смысле до онтогносеологической, логикосемантической трактовки теории отражения. Возникшая в древности как оптимистическая позиция в отношении познания, прошедшая долгий путь развития в рамках классической философской традиции, получившая кибернетическую интерпретацию в форме концепции опережающего отражения (П.К.Анохин), эта теория обобщена В.В.Мантатовым на новом уровне и далее может быть теоретико-познавательной основой метафилософского поиска закономерностей человеческого познания и его перспектив, который анонсирован в рамках когнитивноэволюционного подхода [2].
Вопросы, которые обычно адресуют сторонникам позиционированной таким образом теории познания небезызвестны. Материя и сознания, - говорят нам, - не одно и то же. Мир материальный и мир духовный - разные субстанции, и никак не выразить феномены сознания в терминах измеримой протяжённости. Что такое цвет? - спрашивают нас, и отвечают: в природе нет цвета, есть электромагнитная волна, длина которой соответствует характеристике субъективного образа в зрительном восприятии. Волну вы измерите, но как измерить цвет сам по себе? Быть может, в зрительном ощущении вы зафиксируете его длительность, интенсивность, степень сенсибилизации анализатора, факт и дозу синестезии с другими ощущениями, быть может вам удастся непосредственно воздействовать на анализатор, конструируя фиктивный зрительный образ хирургическим вмешательством, но понятие цвета останется доступным лишь интроспективному опыту и не будет измерено. Как вообще, - возмущаются даже постановкой вопроса, - можно измерить добро, истину, красоту! Такова эленктика дуалистических, агностических, иррационалистических теорий познания, взывающая к критическому умонастроению в отношении возможностей человеческого познания столь убедительно и проникновенно, ссылаясь на «опыт» и «интуицию», что перспектива потенциальной перемены решения основного вопроса философии не кажется фантастикой для тех эпистемологий, которые, даже имея проверенные временем онтологические основания, отправляются в своём нарративе от категории отражения. Отсюда утверждения о фатальной несоизмеримости теорий, неопределённости перевода между парадигмами мышления, невыразимости истины в языке-объекте.
Несомненно, представление о том, что сознание, как эпифеномен, суть функция мозга и вырабатывается им подобно тому, как желчь вырабатывается печенью, может порой вызвать крайне негативные эмоции, но естествознание долго шло даже к такому пониманию о мозге, как основе психики, «вместилище души». И в предельно общих, абстрактных философских категориях, вроде истины и добра, как продуктах длительного семиозиса, мало что осталось, в филогенетическом смысле, от моментов исходного чувственного материала, на основе которого они были разработаны, чтобы сейчас можно было вернуться к нему без по -терь. Но понятия обыденного языка, непосредственный мыслительный опыт изобилует тер -минами, столь прочно связанными с живым наблюдением , что их кажущаяся неизмеряемость даёт повод не только для разведения языка наблюдения и языка теории, но и для утверждения картезианского дуализма. Назад к онтологии, назад к объектам! - взывают к нам на этом фоне, требуя отбросить накопленный предметно-методологический скарб, редуцируя сознание до основы основ, legein ta legomena.
Эта тенденция антипсихологизма обнаруживает себя и в отечественной научной литературе в постановке вопросов, которые следовало бы задать формальной логике, логической семантике, объективной психологии, а не умозрительному потоку сознания. «В случае обычного восприятия предметов реального мира субъект использует свои органы чувств, доставляющие ему сенсорную информацию. Однако как можно воспринимать "внутренние предметы" (образы), обитающие только в мире сознания? Какие органы чувств можно использовать в этом случае? И кому принадлежат эти органы?» [3].
Как утверждает В.А.Лекторский, анализ ощущений ещё в конце XIX в. столкнулся с целым рядом принципиальных затруднений, актуальных (!) до сих пор:
1)отсутствие общепризнанных определения и классификации ощущений;
2)неясность соотношения уникального и обобщённого в каждом данном ощущении;
3)неопределённость роли и места субъективного, интерсубъективного и объективного в ощущении;
^труднообъяснимый характер соединения ощущений в восприятие;
5)малопонятная связь ощущений и знаний [4].
Очевидно, что решение этих проблем возможно при устранении одного из главных заблуждений научной рациональности со времён Декарта - утверждения несоизмеримости материи и духа. Ведь у понятия есть счётное число признаков, т.е. содержание, с которым соотносят счётное число объектов, т.е. объём. И благодаря ученикам Декарта А.Арно и П.Николю («Логика Пор-Рояля») нам известна обратная пропорция их отношения. Для цвета можно перечислить: цветовой тон, насыщенность, светлота, как признаки содержания; и части спектра, как элементы объёма.
Как знак , цвет не только обладает счётным числом измерений - тремя: семантическим, синтактическим и прагматическим, но и находится на определённом счету в пирсовской классификации. Как образ , он имеет не только счётное число свойств, но и проходит счётное число этапов, будучи соотнесён со счётным числом органов человеческой психики, участвующих в генезисе эйдетического контента. И чтобы усомниться в понимании понятия цвета, задавшись вышеупомянутым испытующим вопросом, потребуется счётное число тактов мышления, обеспечивающих силлогизм, лежащий в основании вопроса.
Психология же, как наука и практика, привнесла столь много ценного в представления о человеческой душе, что образы, знаки и понятия становится возможным соотнести друг с другом во множестве действительных чисел. Немаловажными здесь являются исследования памяти, как элемента психической деятельности, обеспечивающего хранение и актуализацию прошлого опыта, последовательности познавательных актов. Не будь этой актуализации, нечего было бы говорить и о соотнесённости с опытом индивида, нечего было бы сказать и об образах, которые есть продукты не просто ощущения, а восприятия, и не привязаны жёстко к анализатору, и тем более - к рецептору. Когнитивные психологи сейчас решают напрямую связанную с этим задачу - о соотношении понятийного и образного мышления (фреймы М.Минского, семантические сети, ленемы и пр.). Ведь очевидно, что общему понятию цвета для художника может соответствовать категория инструмента экспрессии, для исследователя элементарных частиц - квантовое число, характеризующее кварки и глюоны, для историка биохимии растений - фамилия известного физиолога Михаила Семёновича Цвета, создавшего, кстати, хроматографический метод. При всём различии в этих фреймах, где также счётное число слотов, общим для них выступает конструктивная линия семиозиса, позволяющая удерживать в этих слотах в той или иной форме и в той или иной степени значимую информацию, способную персеверировать счётное число раз.
Исследование проблемы ощущения также не должно давать дурной бесконечности:
-
1) основным свойством ощущения обычно указывают превращение энергии внешнего раздражителя в факт сознания; при этом существуют функциональные, морфологические и генетические классификации ощущений;
-
2) соотношения уникального и обобщённого не может быть изучено вне комплексных образно-понятийных моделей;
-
3) принципиально важным является конкретизация категории интерсубъективного понятием филогенетического a priori, родового субъекта, заменившего субъект трансцендентальный;
-
4) если Декарту удавалось просто соединять res cogitans et res extensa в шишковидной железе, то современный анализ соединения ощущений в восприятие должен быть проведён с привлечением аппарата теории информации;
-
5) связь ощущений и знаний может быть охарактеризована как условная в вышеозначенном смысле.
Теория информации, как математическая экспликация теории отражения, призвана рассматривать познающие системы как кибернетические, что результируется в требовании соотносить с понятием, суждением, умозаключением, теорией, гипотезой то количество информации, которое эти конструкты реально несут в борьбе конкретной киберсистемы за вы -живание, в схватке с энтропией. Бесспорно, одно и то же понятие, имея одно и то же значение, имеют разный смысл для разных систем, завися от их свойств, опыта, импринтов, генетической программы. Именно здесь возникает тот интерсубъективный мир, укоренённости понятий в котором не смогли заметить вульгарные материалисты. Именно здесь проясняется сущность понятия общественно-исторической практики, которое, как критерий, конечно, кажется расплывчатым, но в большей степени подходит в качестве общего фазовопространственного ориентира гносеологии, чем «непосредственный опыт» эмпириокритиков и их эпигонов в современной философии.
Измеряемость, будучи выявлена на уровне обыденного языка, несмотря ни на что, проникает и в царство философских категорий. В логической семантике меж истиной и ложью усматривают вероятность, многозначность, нечёткость, масштабируемость от языка-объекта к метаязыку. Красота , гармония, пропорция мира вещей и мира идей как предмет эстетики свидетельствуют об измеримости и объективности, а понимание эстетической информации как рефлексивной информации о когнитивных свойствах самой познающей системы (А.Моль) простирает измеримость в пределах эстетики в ещё большем масштабе. Добро как содействие прогрессу, понятому пусть и как торжество гармонии, тоже влечёт представление о степенях совершества и подразумевает количественную оценку, а моральный пример вообще выступает здесь как измерительный эталон.
Интегральным показателем эффективности теории отражения является её собственное отражение в рамках естественнонаучных эпистемических практик. Будучи продуктом синтеза теоретико-эволюционных максим и компьютерной метафоры, конгениальный теории отражения когнитивно-эволюционный подход расширяет логико-семантическое поле аргументации в её пользу за счёт своей эмпирической основы, в качестве которой выступают, прежде всего, актуальные данные естественных и технических наук.
Возникнув на базисе философского осмысления идей теоретической биологии и экологии, нейролингвистики и этологии, когнитивной и эволюционной психологии, семиотики, кибернетики и синергетики, когнитивно-эволюционный подход к познанию был связан с постулированием следующих тезисов:
-
- эволюция познавательных способностей продолжается;
-
- есть основания для применения эволюционных моделей к объяснению складывающихся гносеологических ситуаций;
-
- существует определённая аналогия между естественным интеллектом и реализацией процесса познания в искусственных кибернетических системах;
-
- методологическая позиция, согласно которой ограниченность «компьютерной метафоры» утверждается априори, до исчерпания творческого потенциала и объяснительной силы, не должна послужить основой отказа от перспективных разработок в этом направлении ;
-
- среди таких перспектив наиболее ценной как в теоретическом, так и практическом отношении является синтез положений когнитивных наук и теоретико-эволюционных представлений.
Демифологизация универсального эволюционизма, презумпция единства мира, гносеологический оптимизм, доверие естественному свету разума, убеждение, что объективное его исследование в обход сформулированной классической философией противоположности субъекта и объекта несёт человечеству не меньше ценного материала, чем интроспекция, интеллектуальная интуиция или специальный герменевтический жаргон , делают когнитивноэволюционный подход важнейшим теоретическим инструментом теории отражения.