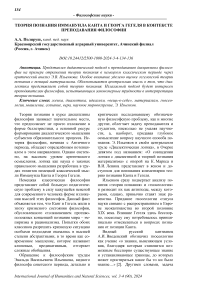Теория познания Иммануила Канта и Георга Гегеля в контексте преподавания философии
Автор: Поляруш А.А.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 3-4 (90), 2024 года.
Бесплатный доступ
Представлен дидактический подход к преподаванию дисциплины философии на примере отражения теории познания в немецком классическом периоде через критический анализ Э.В. Ильенкова. Особое внимание уделено оценке гегелевской теории познания с позиций материализма. Обосновывается центральная мысль о том, что диалектика представляет собой теорию познания. Излагаемый подход будет интересен преподавателям философии, испытывающим закономерные трудности в интерпретации теории познания.
Логика, диалектика, идеализм, «вещь-в-себе», материализм, гносеология, мышление, сознание, вера, научное мировоззрение, э. ильенков
Короткий адрес: https://sciup.org/170203548
IDR: 170203548 | DOI: 10.24412/2500-1000-2024-3-4-134-136
Текст научной статьи Теория познания Иммануила Канта и Георга Гегеля в контексте преподавания философии
Теория познания в курсе дисциплины философии занимает значительное место, что предполагает не просто изложение в форме беллетристики, а основной ресурс формирования диалектического мышления субъектов образовательного процесса. История философии, начиная с Античного периода, обладает определённым потенциалом в этом направлении. Однако системно, на высоком уровне критического осмысления, логика как наука о законах правильного мышления разработана в трудах гигантов немецкой классической мысли Иммануила Канта и Георга Гегеля.
Немецкая классическая философия представляет собой большую педагогическую проблему в силу кажущейся неясной для современного человека форме изложения мыслей этих философов. Данный факт объясняется тем, что Кант и Гегель жили в эпоху кризисного состояния философии, обусловленного столкновением противоположных концепций познания мира – эмпиризма и рационализма. Попытки обоих классиков разрешить кризисную ситуацию особыми подходами оказались в высшей степени абстрактными, в то время как современное мышление, которое называют клиповым, предикативным, отторгает сложные обобщения.
Обращение к философским трудам Эвальда Васильевича Ильенкова, видного философа советского периода, детально и критически исследовавшему обозначенную философскую проблему, как и многие другие, облегчает задачу преподавателя и студентов, нисколько не умаляя научности, а, наоборот, придавая глубокое осмысление вопросу научного способа познания. Э. Ильенков в своём центральном труде «Диалектическая логика», в Очерке девятом под названием: «О совпадении логики с диалектикой и теорией познания материализма» с опорой на К. Маркса и В.И. Ленина представляет в ясном и доступном для понимания комментарии теорию познания Канта и Гегеля.
Ильенков сразу подвергает анализу понятия «теория познания» и «гносеология» и разводит их как антиподы, между которыми, однако, привычно ставят знак равенства. Придание гносеологии статуса науки связано с распространением в Европе неокантианства во второй половине XIX века. Влияние Гегеля здесь бесспорно, поскольку ему потребовалось принципиально отмежеваться в вопросах познания от позиции Канта.
Видный русский кантианец А.И. Введенский обозначил гносеологию как учение «о знании, выясняющем условия, благодаря которым становится возможным бесспорно существующее знание и устанавливающее границы, до которых может простираться какое бы то ни было знание…» [2]. Другими словами, задача теории познания состоит в фиксации «границ познания». В самом названии своего великого философского труда «Критика чистого разума» И. Кант отделяют сферу принципиально познаваемого от сферы принципиально непознаваемого, «трансцендентного», т.е. потустороннего [3]. Автор сравнивал своё открытие с великим коперниканским переворотом в естественных науках.
Как комментирует Канта Э. Ильенков, границы познания обусловлены не границами знания, докуда ещё не добрался разум, а самой «природой тех психофизиологических особенностей человека, через которые – как сквозь призму – до неузнаваемости преломляются все внешние воздействия». Поэтому человеческому познанию дан лишь внешний мир, за которым распространяется мир непознаваемого. Канту и потребовалось выразить базовую идею своей позиции в отношении человеческого познания широко известным термином «вещь – в – себе», наделяя эту «вещь» свойствами, не зависящими от человеческого восприятия, но вполне возможной зависимостью от условий божественного созерцания. Сложнейшие гносеологические рассуждения Канта в изложении Э. Ильенкова обретают понятный смысл: «…любая наука, будь то физика или политическая экономия, математика или история, ровно ничего… не может нам говорить о том, как именно обстоят дела во внешнем мире, ибо на самом деле они описывают те ряды фактов, которые возникают внутри нас самих… лишь иллюзорно воспринимаемых нами как ряды внешних фактов» [1].
«Гносеология», таким образом, усилиями преданных кантианцев утвердилась не в статусе форм познания окружающего мира, а всего лишь в особых конструкциях «субъекта познания» – человека. Ильенков заключает, что кантианский подход к теории познания отрицает научное мировоззрение. Довод кантианцев прост: мировоззрение – это система взглядов человека на мир вокруг него и внутри него, а ограниченное познание не в состоянии установить связи между элементами целостного мира, поэтому научное мировоззрение в принципе невозможно. Кант давно это уже безапелляционно доказал. Реально существуют отдельные научные факты, но они не могут создать научного мировоззрения, поскольку выдвинутые несовершенным, искажающим мир человеческим разумом принципы познания оказываются и условиями невозможности достижения единства феноменов, невозможности построения непротиворечивой картины мира.
Таким недостающим звеном в установлении связей между элементами знаний в процессе создания целостной картины мира является вера. Кантианцами провозглашается идея единства науки и веры – рационального (логического) и иррационального. Таким образом, логика как таковая представляет собой лишь часть теории познания. Более того, к познанию мира логика не имеет никакого отношения, в её ведении находятся лишь уже осознанные вещи.
Осмысление гегелевского понимания логики и теории познания дидактически целесообразно осуществить через ленинский комментарий, как это сделал Ильенков. У Гегеля логика полностью вбирает в себя все поле проблем познания, не оставляя за своими границами каких бы то ни было трансцедентных фантазий или религиозных верований. Не без влияния гегелевской логики Ленин развивает материалистическую теорию отражения. У Гегеля «логика целиком сливается с теорией познания потому, что все остальные познавательные способности рассматриваются как виды мышления, еще не достигшие адекватной формы выражения» [1].
Здесь в сознании студентов складывается определённый парадокс. С одной стороны, традиционно философия Гегеля известна как абсолютный идеализм со всеми его отличительными свойствами: абсолютная идея, абсолютный дух, сциентизм, словом, весь мир, а не только познавательные способности, интерпретируется как еще не пришедшее к самому себе мышление. С другой стороны, почему Ленин как безусловный материалист не только принимает логику Гегеля, но и берёт её на вооружение? Э. Ильенков объясняет этот парадокс. С идеологической точки зрения.
Ленину импонирует е гегелевское отношение к теории познания: «В таком понимании логика совпадает с теорией познания. Это вообще очень важный вопрос» [1]. Чем объяснить, что для Ленина – это «очень важный» и, может быть, самый важный вопрос? Ильенков даёт ответ: общераспространенное в то время кантианское понимание логики как части теории познания, которая оставляла за пределами рассмотрения острые проблемы мировоззренческого плана, давая простор вере в составе мировоззрения. При этом Ильенков подчёркивает принципиальную разницу между формулировками Гегеля и Ленина.
Авторам «Манифеста коммунистической партии» К. Марксу и Ф. Энгельсу принципиально претила кантианская идея соединения науки с системой «высших» этических ценностей, поскольку Кант ориентировал саму теоретическую мысль на совершенно иные пути, в отличие от Маркса. Кантианская теория познания – гносеология – уводила мысль рабочего ний на фантастические «этические» идеи, абсолютно бесполезные или даже вредные вещи. Маркс и Энгельс и вслед за ними Ленин, взяв за основу теории познания логику Гегеля, критически переработали её, очистив от идеализма и придав ей материалистический характер.
Отражая в своём труде критику материалистического понимания теории познания, Ильенков пишет, что Ленин уже видел ростки этой критики. Это обстоятельство побуждало его вновь и вновь обращаться к логике Гегеля, несмотря на ее абсолютный идеализм, представляя её высшим достижением всей философии в области теории познания. Диалектика – это и есть теория познания.
Итак, комментарии Э.В. Ильенкова к теории познания Канта и Гегеля, изложенные в ясной логике, доступным и в то же время строго научным языком, целесообразно использовать в образовательном процессе не только на аудиторных занятиях, но и в самостоятельной работе студента, что наиболее ценно в освоении учебно- класса от анализа экономических отноше- го материала.
Список литературы Теория познания Иммануила Канта и Георга Гегеля в контексте преподавания философии
- Ильенков Э.В. Диалектическая логика. Очерки, истории и теории. Изд. 2, доп. - М.: Букинист, 1984. - 320 с.
- Введенский А.И. Логика как часть теории познания. - М.: КомКнига, 2020. - 438 с.
- Кант И. "Критика чистого разума". - М.: Азбука, 2023. - 784 с.