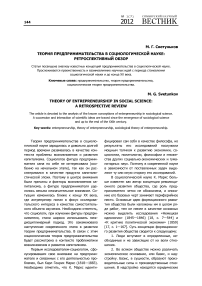Теория предпринимательства в социологической науке: ретроспективный обзор
Автор: Светуньков Максим Геннадьевич
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Экономика и менеджмент
Статья в выпуске: 1 (7), 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу известных концепций предпринимательства в социологической науке. Прослеживается преемственность и взаимовлияние научных идей с периода становления социологической науки и до конца ХХ века.
Предпринимательство, теория предпринимательства, социологическая теория предпринимательства
Короткий адрес: https://sciup.org/14113602
IDR: 14113602
Текст научной статьи Теория предпринимательства в социологической науке: ретроспективный обзор
Теория предпринимательства в социологической науке зародилась и довольно долгий период времени развивалась в качестве контекста проблемы возникновения и развития капитализма. Социологов фигура предпринимателя сама по себе не интересовала (особенно на начальном этапе), так как он рассматривался в качестве продукта капиталистической эпохи. Поэтому в центре внимания были причины и факторы возникновения капитализма, а фигуре предпринимателя уделялось весьма незначительное внимание. Ситуация изменилась ближе к концу ХХ века, где антрепренер попал в фокус исследовательского интереса в качестве самостоятельного объекта изучения. Необходимо отметить, что социологи, при изучении фигуры предпринимателя, стали широко использовать междисциплинарный подход. Это ознаменовало наступление современного этапа в развитии теории предпринимательства. В связи с этим социологическая теория предпринимательства будет рассмотрена в контексте проблематики возникновения и развития капитализма.
Первым исследователем-социологом, сфокусировавшим свое внимание на предпринимателе и связанных с его деятельностью проблемах, был Карл Генрих Маркс (1818—1883). Необходимо отметить, что К. Маркс иденти- фицировал сам себя в качестве философа, но результаты его исследований послужили мощным толчком к развитию экономики, социологии, политологии, философии и множества других социально-экономических и гуманитарных наук. Поэтому в современной науке в зависимости от поставленных задач выделяют ту или иную сторону его исследований.
В социологической науке К. Маркс больше известен как автор концепции революционного развития общества, где роль предпринимателя четко не обозначена, а описание его базовых черт занимает периферийное место. Основные идеи формационного развития общества были изложены им в целом ряде работ, тем не менее в качестве основных можно выделить исследования «Немецкая идеология» (1845—1846) [18, с. 7—544] и «К критике политической экономии» (1859) [17, с. 1—167]. Суть концепции формационного развития общества сводится к следующему:
-
1. Люди вступают в определенные, необходимые и не зависящие от их воли отношения.
-
2. Во всяком обществе можно различать экономическое основание, или базис, и надстройку. Базис, в сущности, образуют производительные силы и производственные отношения. В надстройке находятся юридические
-
3. Движущей силой истории выступает проявляющееся в некоторые моменты развития противоречие между производительными силами и производственными отношениями. К. Маркс не дал однозначного определения понятий «производительные силы» и «производственные отношения», что послужило причиной многочисленных споров между интерпретаторами его концепции. Наименее спорным представляется следующее понимание этих «действующих лиц истории», предложенное Р. Дарендорфом [12, с. 383—385]. Производительные силы — это экономический потенциал общества, зависящий от технологических и социальных элементов, то есть от уровня научного познания, технической оснащенности, организации коллективного труда и т. д. Производственные отношения — социальная структура организации производства. Под этим понимается множество норм поведения, среди которых К. Маркс устанавливает иерархию, где первое место занимают нормы, регулирующие отношения собственности.
-
4. Производительные силы опережают в своем развитии производственные отношения, что приводит к возникновению противоречий между ними. В периоды обострения этих противоречий общество поляризуется: один класс привязан к прежним производственным отношениям, которые становятся помехой для развития производительных сил, а другой, прогрессивный класс, наоборот, представляет новые производственные отношения. Обострение противоречий между производительными силами и производственными отношениями обусловливает возникновение противоречий между базисом и надстройкой общества. Результатом этих противоречий становится классовая борьба, итог которой — социальная революция.
-
5. Социальная революция разрешает противоречия между производительными силами и производственными отношениями, что ведет к разрешению противоречий между базисом и надстройкой. То есть после того как в ходе нескольких политических переворотов (революций) юридически оформляются в ка-
- честве господствующих новые структуры отношений, старые формы собственности и классы вытесняются полностью. Эта новая организация общества знаменует последующий период истории, период более мощного развития производительных сил. Новые производственные отношения способствуют дальнейшему развитию производительных сил общества, но лишь до тех пор, пока их рост не приведет к новому противоречию их динамичности со стабильностью структуры общества.
и политические институты одновременно со способами мышления, идеологиями, философиями. Базис определяет содержание надстройки, а надстройка направлена на воспроизводство базиса.
К. Маркс различает этапы истории в зависимости от экономического строя, или, пользуясь его выражением, четыре способа производства: азиатский, античный, феодальный и буржуазный. Пятый этап, социалистический — этап будущего развития человечества. В рамках настоящей работы нас интересуют не столько этапы и их характеристики, сколько причины и факторы перехода западных обществ от феодальной к буржуазной социально-экономической формации. Именно на данном этапе перехода появляется фигура предпринимателя-собственника (капиталиста).
Первопричиной изменений, по К. Марксу, являются изменения в производительных силах общества, а применительно к изучаемому периоду — промышленная революция, которая ознаменовала переход от ремесленного труда к промышленному, машинному, поточному производству. Данный этап характерен не только сменой технологий производства, а более глубинными трансформациями: был совершен ряд серьезных научных открытий, которые дали толчок к развитию техники и технологии производства, что, в свою очередь, привело к изменению форм организации коллективного труда и ментальности человека.
Классом, представляющим новые производительные силы, была буржуазия. Феодально-сословная структура общества препятствовала реализации ее устремлений. Для феодальной собственности характерен неполный суверенитет собственника, когда его функции — владение, распоряжение, использование — рассеяны между разными людьми — сеньорами, вассалами, крестьянами или цеховыми старшинами, мастерами, подмастерьями. В результате хозяйственные отношения превращаются в сеть взаимных обязательств между всеми, кто так или иначе причастен к собственности. Эти особенности социальноэкономической структуры хозяйственной деятельности — неполный суверенитет и корпоративность воспроизводятся и в иерархии сословных статусов, и в системе корпоративных привилегий, и в поддержании разветвленной сети отношений родства в так называемой большой семье, и в режиме «феодальной раздробленности» государств [19, с. 102].
Для частной капиталистической собственности и эффективной предпринимательской деятельности характерен полный суверенитет собственника и такие особенности социально-экономической структуры хозяйственной деятельности, как полнота суверенитета во внехозяйственных сферах, межиндивидуальная конкуренция, открытость социальных позиций в иерархии социального неравенства, сужение отношений родства (до уровня нуклеарной семьи), монолитность национального государства и унификация в нем прав и обязанностей граждан [19, с. 102].
В противовес новому классу церковь и правящий слой стремились сохранить существующий социальный порядок. Конфронтация была разрешена с помощью череды социальных революций.
Таким образом, по К. Марксу, движущей силой истории человечества выступает проявляющееся в некоторые моменты развития противоречие между производительными силами и производственными отношениями. Переход от феодального к буржуазному способу производства привел к появлению капиталиста (предпринимателя-собственника) как основного действующего субъекта общественных отношений. Кроме того, можно предположить, что по мере дальнейшего развития производительных сил предприниматели могут утратить свою главенствующую роль в хозяйственной деятельности общества, уступив ее другим активным социальным субъектам, которые будут способствовать становлению новых производительных сил общества.
Исследования К. Маркса спровоцировали острую дискуссию в научном сообществе, а его труды до сих пор являются наиболее цитируемыми и упоминаемыми. Именно его идеи послужили источником для дальнейшего развития теории предпринимательства в социологической науке. В 1900 году Георг Зиммель (1858—1918) выпустил в свет свое фундаментальное исследование капитализма
«Философия денег» (1900), которое во многом было спровоцировано именно исследованиями К. Маркса. Г. Зиммель, как и многие его современники-экономисты и современники-социологи, не ставил перед собой задачу описать специфику предпринимательской деятельности или ее последствия в обществе. Перед ним стояла задача описать новый, формирующийся тип общества, который был основан на таком многогранном и неоднозначном социально-экономическом явлении, как деньги.
По мнению Г. Зиммеля, до эпохи Возрождения общество видело в деньгах универсальный эквивалент всех товаров, специфическую субстанцию, которая переходила из рук в руки. Эту роль деньги получили в силу того, что сами представляли собой материальную ценность, поэтому изготавливались они из драгоценных металлов или редких, дефицитных материалов. Соотносились разные виды денег между собой исключительно на основании своей стоимости. Лишь по мере распространения денежной экономики стоимость денег начинает отделяться от их физической основы. Деньги становятся вначале кусками бумаги, а спустя еще некоторое время они вообще становятся просто цифрой. В течение времени они приобретают все более безличный и абстрактный характер. Соотноситься между собой деньги начинают не по количеству содержащихся в них драгоценных металлов, а по их функциям в экономике — ликвидности, скорости оборачиваемости, границам пространства признания, степени конвертируемости и т. д.
Такая трансформация денег свидетельствует, по мнению Г. Зиммеля, о серьезной ментальной трансформации индивидов. Деньги стали инструментом объективации мира. До этой трансформации обмен представлял собой обмен стоимостями, т. е. люди приносили в жертву то, чем обладали взамен получаемого нового. Поэтому обмен носил характер жертвования. Деньги, передаваемые взамен товара, тоже были жертвой, так как обладали материальной ценностью. В момент, когда деньги стали символом, значением, цифрой, они объективировали мир. Вещи стало возможно соотносить между собой без учета их субъективной оценки владельца. Объективация денег существенно упростила обмен, что сделало их самым выгодным и же- лаемым товаром. Они становятся целью обмена и целью хозяйственной деятельности.
Объективировавшись и став всеобщей целью, деньги получают статус универсальной ценности. Они начинают изменять мир: выравнивают социальные различия и создают позитивные предпосылки для новых различий, они ослабляют традиционные социальные связи и одновременно создают новые, они стирают старые способы оценки человеческих отношений и задают иное измерение жизни.
Благодаря своей функции (замена собой любой ценности) деньги создают порядок в обществе, делая его четким, измеряемым, всеобщим и, как следствие, более рациональным. Обычно деньги используются как средство получения других ценностей, но европейская культура превратила их в самоцель, они приобрели абсолютную ценность. Это оказало влияние на психологию человека: богатство человека стало восприниматься как достоинство и открыло доступ к государственным должностям, дополнительным ресурсам и высоким статусным позициям в обществе.
Абсолютная ценность денег сделала человека лично свободным: посредством денег человек освобождается от зависимости вещей — он может все купить или продать; от зависимости с другими людьми — он может менять работодателей или наемных работников; от зависимости собственности — при наличии денег он никоим образом не связан с окружающим его бытием.
Деньги, возникнув в сфере хозяйственных отношений, изменили ее. Экономика перестала быть индустриальной и производящей, она становится монетаристской, ориентированной на добычу и производство универсальных ценностей — денег. Основной субъект экономики — предприниматель — также становится другим, он ориентирован не столько на производство материальных благ и удовлетворение с их помощью человеческих потребностей, сколько на добычу прибыли и богатства.
Дальнейшее развитие социологическая теория предпринимательства получает в рамках новой (молодой) исторической школы политической экономии. Два ее ярких представителя — М. Вебер и В. Зомбарт попытались противопоставить «экономическому детерминизму» К. Маркса свой взгляд на причины возникновения капитализма в Западной Европе и США. Необходимо отметить, что эти исследователи не акцентировали внимание на фигуре предпринимателя, а пытались описать возникающий тип хозяйственных отношений, фокусируя внимание на тех или иных причинах данного процесса.
Максимилиан Карл Эмиль Вебер (1864— 1920) считал, что капитализм, как форма хозяйственной деятельности, ориентированная на сопоставление дохода и издержек в денежном выражении, существовал во всех странах земного шара. Поэтому капитализм не есть новое явление. Однако возникший на Западе капитализм приобрел новое значение, которого ранее нигде не было. Основной чертой западного капитализма является не стремление к наживе, к денежной выгоде, что само по себе вообще не имеет ничего общего с капитализмом, оно свойственно людям всех типов и сословий, а рационализация хозяйственной деятельности. Рациональность капиталистической организации хозяйственной деятельности сопряжена с ее продуктивной (а не потребительской, не захватнической и не паразитической) ориентацией, которая воплощается в промышленном характере предприятия. «Несовременный», архаический капитализм (или, как его часто обозначает М. Вебер, используя терминологию В. Зомбар-та, — авантюристический) носит иррационально-спекулятивный характер, так как ориентирован на получение продукции хозяйственной деятельности путем прямого насилия либо разного рода «обменно-спекулятивных» операций. В этом заключается нерациональность архаического капитализма: саму «продукцию» должен был создавать кто-то другой, принадлежавший к институтам или организациям некапиталистического типа. Таким образом, авантюристический капитализм — паразитирующая форма хозяйствования. Тем не менее различные его формы сохранились и продолжают существовать после возникновения в Европе «современного капитализма», одновременно и рядом с ним. Но М. Вебер фиксировал тенденцию вытеснения рациональной хозяйственной деятельностью традиционную.
Главное отличие западноевропейского капитализма от архаического не столько в способе получения прибыли (это есть следствие отличительных черт), а в духе капитализма, в «этосе». «"Этос" в веберовском по- нимании — это не просто «этические воззрения», представления о том, как следовало бы вести себя человеку, если бы он решил поступать нравственно. Это, согласно М. Веберу, совокупность «этически окрашенных норм», утверждающих себя в деле, т. е. действительно регулирующих «весь уклад жизни» людей, ими руководствующихся» [11, с. 91]. Этос современного капитализма ориентирован на рациональную организацию труда, на промышленный характер предприятия, на добычу богатства посредством высокопроизводительного труда. Что определило такой характер духа западноевропейского капитализма?
В своей работе «Протестантская этика и дух капитализма» (1905) [10, с. 61—272] М. Вебер рассматривает этику протестантизма как основу этоса современного капитализма. К этому выводу он пришел, основываясь на результатах анализа статистических данных относительно профессионального состава населения в Бадене, где традиционно сильно влияние католицизма. М. Вебер обратил внимание на непропорционально большую численность протестантов среди предпринимателей, собственников предприятий, менеджеров и квалифицированных рабочих предприятий. Это позволило выдвинуть ему гипотезу о наличии каузальной связи между религиозной атмосферой в семье (или/и общине) и выбором профессии, профессиональным становлением. Религия (в данном случае протестантизм) сформировала дух капитализма — этос, которого, по утверждению М. Вебера, недоставало прежним типам капитализма и который стал отличительной чертой современного предпринимательства.
В христианстве (как в православии, так и в католицизме) труд является «проклятием», платой за «первородный грех», совершенный Адамом и Евой (эта идея зафиксирована в Библии: «…в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят…»). Поэтому переориентация хозяйственной деятельности в сторону промышленной требует прежде всего религиозно-нравственного оправдания труда человека, и даже более — труд должен стать богоугодным делом, тогда человек будет посвящать ему гораздо больше времени и усилий, чем прежде.
Единственно возможным оправданием труда как высшей ценности конечного чело- веческого существования может быть только его религиозное освящение в качестве призвания каждого человека, предназначенного ему самим Богом (знак его избранности). В протестантизме именно «хозяйственный» труд, ориентированный на законную прибыль, утверждался как прямая связь человека с Богом. Эта связь дает верующему чувство осмысленности его существования, веру в свои силы и, собственно, является основным стимулом к труду. Связь с Богом проявляется следующим образом: человек может понять свою избранность, если ему сопутствует успех, пусть даже временный и возможно только в хозяйственной деятельности, но именно в этом можно увидеть доказательства своей избранности. Поэтому необходимо либо верить в свою избранность, прогонять все сомнения как дьявольское искушение и завоевывать в повседневной борьбе субъективную уверенность в своем избранничестве, либо попытаться обрести внутреннюю уверенность в спасении своей души через неутомимую деятельность в рамках своей профессии.
Логика протестантизма позволяет ослабить чувство сопричастности с ближним и благоприятствует появлению индивидуализма, кроме того, она предписывает верующему остерегаться благ мира сего и следовать аскетическому поведению, что формирует постоянные реинвестиции неиспользованной прибыли. Предпринимательская деятельность в условиях современного капитализма предполагает рациональную организацию труда и требует сохранения прибыли для дальнейшего воспроизводства средств производства. В этом проявляется содержательная близость протестантизма и предпринимательской позиции.
Таким образом, М. Вебер выделяет в качестве детерминирующего фактора становления современного капитализма фактор морально-нравственного оправдания труда посредством религии.
Работа «Протестантская этика и дух капитализма» вызвала высокий исследовательский интерес к проблеме влияния религии на характер и успешность предпринимательской деятельности.
Вернер Зомбарт (1863—1941) в качестве теоретической «точки опоры» своих исследований опирался на теорию формационного развития общества К. Маркса. Он считал, что капитализм — это определенный этап разви- тия общества, и, в отличие от М. Вебера, видел истоки его не в «капиталистическом духе», а во множестве социально-психологических факторов, которые оказывали влияние на его становление. Кроме того, он выделял разные этапы развития капитализма, и на этих этапах оказывались детерминантами «капиталистического духа» совершенно различные факторы.
В. Зомбарт выделяет всего три этапа развития капитализма: ранний, развитый и поздний [19, с. 183]. Ранний этап капитализма совпадает с Новым временем в Европе (XIV— XV вв.). Это период внедрения машин, становления машинного производства. Именно тогда идет формирование инициативных, активных и дерзких в решениях личностей, готовых рисковать, находить и терять деньги, имущество, бросать вызов традиционным подходам. На втором этапе (с XVIII по начало XX вв.) в капитализме происходят существенные изменения. В капиталистическом духе исчезает стремление к наживе. Капиталисты вступают в совместные объединения, а государство и организации наемных рабочих лишают их права на безусловное распоряжение собственностью. С 1914 года, по В. Зомбарту, капитализм вступает в позднюю стадию, которая характеризуется «ожирением» хозяйствующих субъектов. Пропадает индивидуальное экономическое сознание предпринимателя, ослабевает его острота.
По мнению В. Зомбарта, для понимания специфики каждого из этапов развития капитализма необходимо раскрыть «превалирующий мотив», который создается взаимодействием множества социально-психологических, экономических и исторических факторов, их непредсказуемым переплетением.
Начальный этап развития капитализма и «превалирующий мотив» той эпохи был изложен В. Зомбартом в работе «Евреи и экономика» (1911) [14, с. 105—600]. В. Зомбарт рассматривал евреев как носителей зарождающегося и зреющего предпринимательского духа. Будучи аутсайдерами в европейских городах, отстраненные от значительной части сфер деятельности, евреи смогли сначала закрепиться в области финансов. Это была одна из немногих сфер деятельности, разрешенных им законодательно. Несколько позже, в результате процессов либерализации общественных отношений, евреи постепенно стали проникать в сферу ремесла и промышленности. Но они продолжали оставаться замкнутой социальной общностью, стремившейся вырваться вперед и вверх, добиться денег и влияния, вопреки негативному отношению к ним.
Развитию капиталистического духа у евреев способствовал и религиозный фактор. Именно в иудаизме содержались благоприятные основы для развития предпринимательства. Религия Талмуда, по мнению В. Зомбар-та, — единственная среди мировых религий, которая никогда не выдвигала идеала бедности, а напротив, проповедовала идеал свободной торговли с целью получения прибыли. Евреи стали носителем капиталистического духа на первом этапе развития капитализма, и именно они определили специфику превалирующего мотива той эпохи.
Специфика второго этапа развития капитализма была описана В. Зомбартом в исследовании «Роскошь и капитализм» (1912) [15]. Как отмечал сам автор, более корректно было бы назвать эту книгу «Любовь, роскошь и капитализм»: «Я не знаю, какое другое событие имело бы более важное значение для всего образа жизни старого и нового общества, чем те изменения, которые в период между средневековьем и эпохой Рококо претерпело взаимное отношение полов друг к другу. Понимание генезиса современного капитализма особенно тесно связано с правильной оценкой тех радикальных перемен, что влияли на разрешение этого важнейшего вопроса» [15, с. 64]. Оправдание женщины и ее сексуальности позволило ей быть не только красивой, но и привлекать внимание мужчин элементами роскоши. «Роскошь есть такая трата, которая выходит за пределы необходимого» [15, с. 88]. Необходимо отметить, что В. Зом-барт говорил не о сексуальности жены и хранительницы очага, а о красоте и привлекательности кокоток и проституток. Именно расцвет культуры «самки» в XVIII веке стимулирует потребление роскоши. Роскошь в потреблении еды, одежды, жилья, мебели и т. д. стимулирует денежный оборот и развитие промышленности. Именно таким образом В. Зомбарт описывает становление второго этапа капитализма.
Во второй части своего исследования «Роскошь и капитализм», которое названо им «Война и капитализм», он пытается выделить второй превалирующий мотив данной эпохи — становление и развитие армий европейских государств. Основным субъектом становится военачальник, стремящийся к покорению мира. Война стимулирует наращивание сухопутных и морских сил, что приводит к увеличению потребления оружия и техники, а это, в свою очередь, требует рациональной организации производства, разработки и внедрения новых технологий в промышленность. Кроме того, освоение новых земель дает новые богатства государству. А наличие современной и хорошо оснащенной армии обеспечивает целостность и защищенность государства, тем самым сохраняя единое внутригосударственное пространство рынка. Именно поэтому становление и развитие армий европейских государств способствовало становлению и развитию экономической системы капитализма.
Таким образом, на втором этапе развития капитализма В. Зомбарт выделяет два основных доминирующих фактора: развитие роскоши и развитие армий европейских государств, а также двух основных субъектов данной эпохи — кокоток и военных.
В работе «Буржуа» (1913) [13, с. 27—479] В. Зомбарт отмечает в качестве доминирующего фактора становления капитализма появление нового типа человека — буржуа. Именно буржуа становится новым типом предпринимателя на третьем этапе развития капитализма. В. Зомбарт пишет: «…предпри-ниматель должен быть, если хочет иметь успех, трояким : завоевателем — организатором — торговцем» [13, с. 86]. Но предприниматель третьего этапа капитализма — это не только продукт своей эпохи и основной ее субъект, это результат смешения двух расовобиологических типов человека.
Изначально все человечество можно разделить на два вида, имеющих в своей природе различные основания: люди с героическим началом и люди с мещанским началом. Эти два начала, по мнению В. Зомбарта, имеют разные биологические корни. Необходимо отметить, что В. Зомбарт спустя два года издает свое новое исследование «Торгаши и герои» (1915) [14, с. 8—102], где идентифицирует героическое начало немецкой нации, а мещанское начало (торгашество) — английской. «Героическое» начало капитализма восходит к расово-биологической природе завоевателей. Тех самых, которые, согласно Ф. Ницше, призваны господствовать в силу своей «избыточной» витальности. «Мещанское» начало уходит своими корнями в расовую природу народов, изначально предназначенных для того, чтобы их завоевывали и покоряли, принуждая к повседневному труду. Расово-биологическое основание человека определяет его профессию, роль в хозяйственной системе (социальные типы). «Героическое» начало дает разбойников, феодалов и спекулянтов, «мещанское» — государственных чиновников, купцов и ремесленников. Эти типы первых предпринимателей утверждают себя на организационном поприще. Все они, по мнению В. Зомбарта, были организаторами более или менее длительно существовавших «предприятий», характеризующихся достаточно устойчивой структурой и имеющих вполне определенную цель — «добычу» капитала.
Оба «начала капитализма» — героиче-ски-предпринимательское и прозаически-мещанское воссоединились в одном и том же человеческом типе, в буржуа. Появился новый тип человека, отличающийся от своих предшествующих социальных типов.
Таким образом, по В. Зомбарту, на разных этапах развития капитализма доминировали разные превалирующие мотивы хозяйственной деятельности. Кроме того, центральными субъектами, определявшими хозяйственную деятельность на том или ином этапе развития капитализма, становились разные субъекты, подчас далекие от хозяйственной деятельности. Всех этих субъектов объединяет то, что они отрывались от сложившихся социальных слоев и стремились занять более высокие позиции в обществе. В современной социологической науке таких субъектов обозначают понятием «маргиналы». «Маргинальность (от лат. marginalis — находящийся на краю) — состояние групп людей или личностей, поставленных общественным развитием на грань двух культур, участвующих во взаимодействии этих культур, но не примыкающих полностью ни к одной из них» [21, с. 255]. Таким образом, В. Зомбарт в качестве основного фактора, определившего возникновение капитализма, выделяет фактор существования маргинальных групп (евреи, кокотки и военные, буржуа и т. д.), представители которых стремились вырваться вперед и вверх по социальной иерархии, добиться денег и влияния в обществе, вопреки негатив- ному отношению к ним со стороны других. Предпринимательская деятельность для таких индивидов являлась своеобразным каналом вертикальной восходящей мобильности.
Дискуссия, развернувшаяся между М. Вебером и В. Зомбартом, вызвала большой интерес у научной общественности и вовлекла в обсуждение многих признанных ученых, среди которых можно назвать Э. Трёльча, О. Шпенглера, В. П. Воронцова, С. Н. Булгакова и многих других.
Освальд Шпенглер (1880—1936) на страницах своего фундаментального исследования «Закат Европы» (1918—1922) [22] излагает теорию развития культуры и предрекает гибель европейской цивилизации, в которой немаловажную роль сыграют предприниматели с их «денежным мышлением». По его мнению, каждая культура вырастает из собственного «прафеномена» (способа «переживания жизни») и подчиняется в своем развитии жесткому биологическому ритму, определяющему основные фазы ее развития: рождение и детство, молодость и зрелость, старость и «закат». В этой эволюции культуры О. Шпенглер выделяет два главных этапа: 1) этап восхождения культуры (собственно «культура») и 2) этап ее нисхождения («цивилизация»). Критерием разделения выступает творческое содержание в процессе эволюции. На первом ее этапе протекающие процессы культуры характеризуются органичностью, на втором — «механичностью». Именно на втором этапе содержание процессов отходит на второй план, остается только форма, что свидетельствует о предстоящем этапе распада культуры.
Возникший в Западной Европе капитализм характеризуется больше механической формой, нежели глубоким содержательным смыслом. Свидетельством этого выступает набирающая все большую силу экономика городов и возникающее денежное мышление, носителем которого выступают предприниматели. «Деньги, как и число или право, — это категория мышления. Существует денежное мышление, точно так же как юридическое, математическое или техническое мышление окружающего мира. Видимый образ дома вызывает совершенно различные ассоциации в зависимости от того, кто его видит: торговец, судья или инженер. Один видит в нем денежный баланс, другой — объект правового спо- ра, третий оценивает возможность его крушения. …Лишь в экономическом образе мира истинного горожанина объективные стоимости и их виды как элементы мышления независимы от его личных потребностей и имеют по идее общий характер...» [22, с. 1306]. «В каждой культуре существует как свое собственное денежное мышление, так и присущий только ей символ денег, через который видимым образом проявляется ее принцип оценки в экономике» [22, с. 1312]. Деньги капиталистической культуры Западной Европы становятся символом и лишают смысла других вещей. Они порождают искусственный мир «объективной стоимости», а это основной симптом упадка культуры, превращения ее в цивилизацию. Таким образом, О. Шпенглер считает, что возникший западноевропейский капитализм с детерминирующей ролью предпринимателя свидетельствует о закате европейской цивилизации.
С середины 20-х годов ХХ века и почти до середины 40-х в социологической науке интерес к фигуре предпринимателя и его роли в хозяйственной сфере общества несколько снизился. Тем не менее в 1944 году вышла в свет работа основателя экономической антропологии Карла Пауля Поланьи (1886— 1964) «Великая трансформация» (1944) [20], которая ознаменовала новый виток в развитии дискуссии о капитализме, рыночной экономике и предпринимательстве. В этой работе К. Поланьи утверждает, что рыночная экономика не является продуктом естественного развития общества, а стала результатом целенаправленных действий государства. Под рыночной экономикой он понимает такую экономическую систему, которая контролируется, регулируется и управляется только рыночными законами: «рыночная экономика означает саморегулирующуюся систему рынков, или, выражаясь в несколько более специальных терминах, это экономика, управляемая рыночными ценами и ничем другим, кроме рыночных цен» [20, с. 55]. «Саморегулирование означает, что все производится для продажи на рынке и что источником любых доходов являются подобные акты продажи. Следовательно, существуют рынки для всех факторов промышленного производства, т. е. не только товаров (сюда мы неизменно включаем и услуги), но также для труда, земли и денег, их цены именуются соответственно то- варными ценами, заработной платой, рентой и процентом. Сами термины указывают на то, что доходы формируются ценами» [20, с. 83]. Такая экономика должна опираться на три принципа: конкурентный рынок труда, систему золотого стандарта и свободу международной торговли.
Возникновение системы саморегулирующихся рынков возможно только тогда, когда появляются сложные специализированные машины и оборудование, которые инициируют становление заводской системы производства. Возникновение поточного, массового производства обусловлено не только развитием технологии, но и результатом сознательного, а подчас и насильственного вмешательства со стороны правительств стран Европы. Им было необходимо общенациональное хозяйственное пространство, на территории которого можно было бы аккумулировать ресурсы для осуществления внешней деятельности (торговли, военных действий, колонизации и т. д.). Политика меркантилизма национальных государств привела к развалу цеховой системы1, стимулировала развитие конкуренции между хозяйствующими субъектами и способствовала формированию монополий в масштабах целого государства. Именно меркантилизм уничтожает все существовавшие механизмы гарантии доходов хозяйствующих субъектов и привел к доминированию рыночных отношений вначале в сфере распределения, а затем и в сфере производства. Это приводит, в свою очередь, к тому, что промышленность перестает быть придатком торговли, а основные средства производства становятся объектом купли-продажи. Вслед за факторами производства саморегулирующиеся рынки подчиняют себе и «социальную материю» общества, превратив землю, труд и деньги в товар.
Датой возникновения рыночного общества является дата принятия Акта о реформе закона о бедных в Англии в 1834 году. Данный Акт установил свободный рынок труда в Англии, который в дальнейшем был закреплен рядом законопроектов (Банковским актом сэра Р. Пила (1844) и отменой Зерновых законов (1846)). Общество саморегулирующихся рынков, по мнению К. Поланьи, просуществовало всего 36 лет (1834—1870). В 1870 году активно разворачивает свою деятельность профсоюзное движение, что приводит к возникновению механизмов регуляции рынка труда, и рыночное общество трансформируется в общество регулируемой экономики.
Саморегулирующийся рынок, основанный на жесткой конкуренции, приводит к разрушению существовавших социальных механизмов, обеспечивающих стабильность и выживание общества. Это порождает анархию, социальную нестабильность и страх перед будущим. Естественным стремлением любого общества становится возврат в «спокойное прошлое» через тоталитарный политический режим, жесткий государственный контроль и диктатуру. Этим К. Поланьи объясняет установление фашизма в Венгрии, Болгарии, Испании, Италии, Португалии, Австрии, Германии и Румынии.
Если рыночному обществу удается создать институты, способные заменить механизмы традиционного общества в части ограничения или контроля над рынками факторов производства, то оно становится жизнеспособным и экономически эффективным. Новые социальные институты уменьшают нестабильность, делают предсказуемым возможное будущее, а рынок становится регулируемым. Обязательным условием успешной трансформации, по мнению К. Поланьи, является прозрачность политической и экономической системы для контроля со стороны общества.
Таким образом, К. Поланьи утверждает, что возникновение рыночного общества обусловлено объективным развитием технологий производства и стремлением государства создать единое рыночное пространство. Государство начинает осуществлять политику меркантилизма в управлении хозяйственной сферой, что приводит к доминированию рыночных отношений и ломке социальных институтов, обеспечивающих выживание общества. Подобные трансформации приводят либо к стремлению вернуться к традиционным социальным отношениям при прямом контро- ле государства хозяйственной сферы, либо к возникновению новых социальных институтов выживания общества и контроля рынка.
Весомый вклад в развитие социологической теории предпринимательства внес французский историк Фернан Бродель (1902—1985). В своем фундаментальном трехтомном научном труде «Материальная цивилизация, экономика и капитализм» (1967—1979) [4, 5, 6] он заложил новую методологию исследований исторической науки, которую впоследствии заимствовали в свой арсенал социологи. Ф. Бродель разделил исторические процессы на три уровня:
-
1) Процессы большой протяженности. Это структурный уровень общества, где события и вещи имеют низкую скорость изменения. Это уровень повседневной жизни.
-
2) Среднесрочный — здесь происходит встреча структур и конъюнктуры. Это уровень существования социальных иерархий, цивилизаций и государств.
-
3) Ритм конъюнктур. Это уровень исторических событий: смена центров торговли, переориентация торговых маршрутов и т. д.
Подобное осмысление исторических процессов дает понимание экономических фактов и действий, реализуемых внутри конкретных мироэкономических систем, локализующихся в определенном историческом времени и пространстве. Мироэкономическая система, по определению Броделя, — это совокупность действий множества людей, реализующих свои жизненные и экономические интересы в пределах укоренившихся традиций и практик поведения, связанных с различными видами экономического обмена. Индивид, по Ф. Броделю, рождается в конкретном месте, времени, системе отношений, которые ограничивают поле его деятельности и рамки его мышления спецификой социальных связей и условий повседневной жизни, моральными, юридическими, этническими и религиозными нормами. Человек способен изменить структуры, в которых был рожден, только в краткие моменты структурного кризиса, когда ослабевают и становятся подвижными эти ограничители. В обычных же условиях человеческое действие приобретает результат только при условии, если его направленность соответствует спектру допустимого действия. В противном случае структуры повседневности гасят его.
Парадокс, который зафиксировал Ф. Бродель, заключается в том, что сами структуры повседневности являются результатом прошлых кризисов и человеческих усилий по его преодолению (правда, не всегда успешных). То есть любая социальная реальность, прежде чем стать объективной реальностью, кем-то и когда-то была построена.
Методология исторической науки, предложенная Ф. Броделем, позволяет рассматривать предпринимателя именно как продукт своего территориально-временного общества. Практикуемые им способы хозяйствования являются обычными и нормальными в рамках данного локального социума, а изменение способов хозяйствования свидетельствует о трансформациях данного общества, которые описываются в категориях среднесрочных и глобальных исторических процессов.
Принципиально важная трансформация, которую фиксирует Ф. Бродель, заключается в переходе от рыночного общества к капиталистическому. Суть перехода заключается в следующем. Рыночный обмен основан на принципе эквивалентности, т. е. каждый из участников получает нечто равноценное утраченному. Капиталистический обмен предполагает неэквивалентность взаимодействия, при котором выигрыш получает лишь одна сторона. И это касается не только сферы обмена труда на заработную плату, о чем говорил К. Маркс. Нарушение принципа эквивалентности обмена происходит везде, где капиталистический предприниматель осуществляет свои спекулятивные «игры обмена». Целью обмена становится увеличение капитала, а наиболее эффективным способом достижения этой цели — монополизация всей сферы обмена, так как обеспечить прирост капитала, несоизмеримый с затраченными трудовыми усилиями и производственными возможностями, никак нельзя без нарушения принципа эквивалентности. Рынок — это сфера небольших, но предсказуемых и надежных прибылей, сфера капиталистической экономики — максимально широкие сферы обмена, характерные резкими колебаниями и крупными прибылями.
Рынок стремится к локализации вокруг некоторых территориальных «очагов» и формирует механизмы ограничения спекулятивных тенденций, таких как свободная конкуренция. Капитализм тяготеет к глобализации, работая на перепадах цен, существующих на разных локальных рынках, территориально и культурно удаленных друг от друга. Основной механизм существования капитализма — стремление к монополизации сферы обмена. Предел расширения рыночной экономики — отдельное государство, предел расширения капиталистической — весь мир. Если рынок — это ценовое саморегулирование спроса и предложения, то капитализм — это насильственное навязывание цен, при котором инструменты экономического принуждения соседствуют с политическим давлением.
Произошедший слом структур повседневности дал новый тип практик в хозяйственной сфере — практик капиталистической экономики. Трансформация этой социальной реальности стала точкой отсчета нового исторического процесса.
Дальнейшее развитие идеи Ф. Броделя получили в исследованиях его ученика Иммануила Мориса Валлерстайна (1930 г. р.). И. Валлерстайн развивает идею о том, что на смену рыночной экономике приходит капиталистическая (капиталистическая мир-экономика), цель которой — постоянное и безостановочное накопление капитала. По мере охвата капиталом определенного пространства и насыщения его товарами спрос падал и норма прибыли снижалась. Стремясь компенсировать потери и/или увеличить прибыль, предприниматели начинают расширять охваченное капиталом пространство. Они переносят производство в зоны с более низким уровнем оплаты труда, а производимая продукция реализуется там же.
Для бесперебойного функционирования капиталистической мир-экономики требуются культурные и интеллектуальные подпорки. «Эти подпорки состоят из трех основных элементов: парадоксальной комбинации универсалистских норм и расистских/сексистских практик; геокультуры, в которой господствует центристский либерализм; и редко замечаемых, но критически важных структур знания, основанных на эпистемологическом разделении между тем, что называется двумя культурами» [7, с. 36]. Рассмотрим их подробнее.
Впервые универсалистские нормы и раси-стские/сексистские практики возникли в капиталистической мир-экономике еще в XV веке во времена освоения Испанией новых земель двух величайших империй Америки — ацтеков и майя. Но возникли эти нормы и практики не как самостоятельные социальные явления, а именно как механизмы поддержки, распространяющейся системы капиталистической экономики. Освоение новых земель означало военный захват территории и экономическую эксплуатацию местного населения, в которой асимметричный обмен был базой взаимодействия между испанцами и местным населением. Те, кто осуществлял эту экспансию и извлекал из нее выгоды, считали, что несли цивилизацию, экономический рост, прогресс и развитие. Отсюда вытекало, что она не только благотворна для человечества, но и является исторически неизбежной. Таким образом, универсалистские ценности служили моральным оправданием всех действий завоевателей на новых территориях. А их расистские/сексистские практики были всего лишь средством внедрения этих всеобщих идеалов.
Со временем распространение христианства более не могло быть легитимным основанием для освоения новых территорий, и риторика, сопровождавшая экспансию, стала концентрироваться вокруг нового понятия постколониального мира — понятия прав человека. Кампания по защите прав человека, реализуемая странами капиталистической мир-экономики, по сути, восстановила в правах идею долга более развитых стран распространять цивилизацию в целях искоренения варварства. «Сторона, совершившая вмешательство, была уверена и строила свою аргументацию на том, что ее действия максимизируют справедливость и, следовательно, имеют оправдание в естественном законе, пусть даже им не хватает легитимности с точки зрения международного права» [7, с. 14]. Таким образом, понятие «права человека» в настоящее время является не более чем универсалистской нормой, которая позволяет игнорировать международное право и осуществлять экспансию на слаборазвитые государства.
Под геокультурой, в которой господствует центристский либерализм, И. Валлерстайн понимает культуру, охватывающую всю мир-систему, основывающуюся на идеологии либерализма и стремящуюся мобилизовать максимально возможное число людей. После череды французских революций возникают две идеологии, исповедующие разное отношение к обществу: 1) консерваторы, стремящиеся к созданию порядка и стабильности; 2) либералы, разделяющие идею общественного развития. Несколько позднее от второй идеологии отделяются социалисты, которые считают, что развитие общества не может носить эволюционный характер, а может носить исключительно революционный. Все три идеологии предполагают взаимодействие с государством. Консерватизм основывается на стремлении сохранить стабильность и порядок с помощью традиционных социальных институтов общества (семья, церковь, образование и т. д.), а государство становится инструментом управления обществом, подкрепляя функционирование этих институтов. Социализм предполагает использовать государство как механизм справедливого распределения материальных благ в обществе. Либерализм рассматривает государство как механизм, очерчивающий границы свободы личности и не вмешивающийся в функционирование общества. Но либерализм всегда был доктриной центристов. Его сторонники «...выступали одновременно и против архаического прошлого с несправедливостью его привилегий (которое, по их мнению, олицетворяла собой идеология консерватизма), и против безрассудного уравнительства, не имевшего оправдания ни в добродетели, ни в заслугах (которое, как они считали, было представлено социалистической/радикальной идеологией)» [9, с. 5]. К настоящему времени все вариации идеологий трансформировались в центристский либерализм (либеральный консерватизм, либеральный социализм и т. д.), который стал основным символом веры, исповедуемой геокультурой миросистемы.
Либералы считали, что государство создает условия, позволяющие личности оптимально использовать свои права, и заявляли, что «...либеральное государство — реформистское, строго придерживающееся законности и в известной степени допускающее свободу личности — является единственным типом государства, которое может быть гарантом свободы» [9, с. 6]. Но в течение времени государство все больше и больше укрепляло свои позиции по отношению к реальному обществу под эгидой развития идеи гражданского общества. В настоящее время государство проникло во множество сфер жизнедеятельности общества, где его присутствие не нужно вообще, но оно становится не арбитром в них для прочих участников, а самым активным игроком, поддерживая распространение и укрепление капиталистической мир-экономики.
Третьей подпоркой капиталистической мир-экономики является структура знания, основанная на эпистемологическом разделении двух культур. Западная цивилизация рассматривала прочие миры как не менее глубокие и развитые, но несколько отставшие. Они не могут перейти к «современности», так как их культуры еще не достигли должного развития. Благодаря этому у стран Запада появился новый аргумент в пользу политического, экономического, военного и культурного господства: «...привилегированная позиция власть имущих оправдана потому, что позволяет им оказывать содействие тем, кто пребывает в своего рода тупике» [7, с. 49]. Свою «развитость» и «современность» западные страны демонстрируют через техническое и технологическое господство. Это преуспевание переносится не только на всю материальную сферу, но и на социальную, экономическую, политическую и культурную.
Господство стран Запада в технике и технологии позволяет не только оправдывать экспансию на слаборазвитые страны, но и задает неравенство в сфере науки. «Технари» и «естественники» считают свои науки более значимыми, чем сферы гуманитарного и социального знания. Это позволяет им не только утверждать собственную методологию, свободную от ценностей и от социальных оценок эффективности их внедрений, но и относиться пренебрежительно к результатам исследований гуманитариев. Подобное пренебрежение становится универсальной защитой от моральной критики не только технарей-естественников, но и власть имущих, позволяя им отрицать допустимость и объективность такой критики. «Гуманитариев можно игнорировать, особенно если они придерживаются критической позиции, на том основании, что методы их анализа ненаучны» [7, с. 52].
Как уже отмечалось, фундаментальным принципом капиталистической мир-экономики является бесконечное накопление капитала. Механизмом этого накопления является асимметричность обмена, и прежде всего пространственная асимметричность. Охватив определенное пространство капиталом, предприниматели переносят свою хозяйственную деятельность в зоны с более низким уровнем оплаты труда. Таким образом, пространство, охваченное капиталом, увеличивается, что обеспечивает рост прибыли, но помимо этого формируется разделение труда между центром пространства (ядром) и его границами (периферией). Разделение труда между ядром и периферией обеспечивает неэквивалентный (пространственный) обмен, что в еще большей степени увеличивает рост прибыли предпринимателей. По сути, ядро и периферия превращаются в звенья вертикально интегрированной товарной цепи. С XVI века капиталистическая мир-экономика превращала в периферию все большую часть мира, пока не охватила его полностью. К концу ХХ века четко оформились «мировое ядро» и «мировая периферия».
Капиталистическая мир-экономика основана на постоянной борьбе за монополию, за монопольное положение как на мировом, так и на внутренних рынках. Государство всего лишь инструмент, средство этой борьбы. Концентрация капитала в зоне ядра создавала фискальную основу и политический стимул для появления относительно сильных государственных механизмов, которые могли бы оказать давление на периферийные государства, чтобы заставить их принять и развивать такие формы специализации труда, которые находились в нижней части иерархии товарных цепей [8, с. 32]. Таким образом, в логической схеме И. Валлерстайна государство играет роль механизма обеспечения как внутренней, так и внешней экспансии капиталистической мир-экономики. Кроме того, именно государство обеспечивает внутри конкретного общества власть представителей одних расовых, этнических и половых групп над другими. Расизм и сексизм позволяет удерживать одни группы вне системы или на ее периферии, а другие группы могут существовать внутри системы или в ее центре [3].
Наряду с ядром и периферией И. Валлер-стайн выделяет третью зону — полупериферию, задача которой – опосредовать взаимодействие между первыми двумя элементами. Именно государства полупериферии осуществляют экспансию в интересах ядра на периферию.
Интерес представляет объяснительная схема экономических кризисов, сформулированная И. Валлерстайном. По его мнению, возникновение и цикличность кризисов обу- словлена структурной перестройкой отношений между тремя элементами капиталистической мир-экономики: ядром, полупериферией и периферией. По мере освоения капиталом пространства все больше актуализируется необходимость в захвате новых территорий, а для этого необходима перестройка отношений. Государства полупериферии должны либо приблизиться к ядру, либо стать его частью. Периферия должна получить статус полупериферии для осуществления дальнейшей экспансии капиталистической мир-экономики. Это требует перестройки каналов вертикальной интеграции капиталистической мир-экономики и перераспределения экономических потоков. Этим и обусловлено возникновение экономических кризисов.
В целом, для теории предпринимательства работы И. Валлерстайна представляют интерес с позиций объяснения следующих социально-экономических явлений современного мира:
-
— экспансия предпринимателей развитых стран в экономически слаборазвитые государства. Перенос производства в слаборазвитые страны свидетельствует не столько о заботе о процветании экономики данной страны, сколько о расширении пространства капиталистической мир-экономики и стремлении получить сверхприбыль за счет сокращения издержек на заработную плату;
-
— унификация и глобализация экономики. Стремление предпринимателей капиталистической мир-экономики к унификации хозяйственных процессов свидетельствует не столько об объективно существующей и поглощающей мир глобализации, сколько об их стремлении втянуть новых хозяйствующих субъектов в монополизированное пространство существующих товаров и услуг. В этом пространстве предприниматели периферии и полупериферии будут вынуждены отдавать полученные сверхприбыли предпринимателям ядра;
-
— активное навязывание государствами своим гражданам идеологии либерализма, «гражданского» и «рыночного» общества. Государства и политические партии навязывают своему населению не только механизмы капиталистической мир-экономики, но и ее идеологию посредством трансформации культуры и образования. Об этом свидетельствует повышенный интерес к специальностям и профес-
- сиям, имеющим рыночный характер, и сниженный интерес к фундаментальным наукам.
Несколько иначе развивает идеи К. Маркса, К. Поланьи и Ф. Броделя американский социолог и экономист итальянского происхождения Джованни Арриги (1937—2009) в своих работах «Деньги, власть и истоки нашего времени» (1979—1994) [2] и «Адам Смит в Пекине: что получил в наследство XXI век» (2007) [1]. Дж. Арриги интерпретирует капитализм как волнообразно достраивающуюся систему контроля над экономикой и политикой государств. Дж. Арриги, вслед за К. Марксом, выделяет в качестве основной черты капитализма стремление предпринимателей к постоянному наращиванию капитала. Освоив капиталом определенную территорию, капиталистические предприниматели вынуждены искать ему вложения в новом географическом пространстве, иначе он будет девальвирован. Этим исследователь объясняет географическую экспансию капитала. Но проникновение на новые территории приводит к конфликту интересов с предпринимателями других держав. Конкурентная борьба не позволяет получать сверхприбыли предпринимателям-капиталистам, и поэтому в ход идут военнополитические средства для создания монопольного положения на международном рынке. Этот способ освоения новых территорий Дж. Арриги обозначает как «накопление путем лишения прав владения». Захваченные территории осваиваются физически и социально до тех пор, пока не достигаются пределы роста прибыли. Замедление роста накопления капитала свидетельствует о том, что пространство полностью освоено и необходимо либо организовать финансовый кризис путем девальвации активов на облагодетельствованных территориях, либо использовать военно-политические средства для дальнейшего географического освоения пространства.
Дж. Арриги выделил три явления, которые возникают по мере роста и распространения капитала:
-
1) пространственно-временное перемещение капитала ослабляет центры накопления капитала, так как новые территории предлагают более выгодные вложения средств. Центр стремится сдерживать этот переток, но рано или поздно баланс нарушается в пользу новых организационных структур;
-
2) между государством и бизнес-структурами существуют мощные переплетения интересов, которые и обеспечивают успешность экспансии капитала;
-
3) накопление путем лишения прав владения порождают социальные конфликты, которые, в свою очередь, еще больше ослабляют центр.
Именно эти три явления обусловливают смену центров капиталистических мир-экономик. Необходимо отметить, что, в отличие от И. Валлерстайна, который считал, что по мере развития капиталистической мир-экономики происходит расширение ядра, Дж. Арриги считает, что развитие капитализма происходит в трех направлениях. Во-первых, капитализм эволюционирует от городов-государств через национальные государства к мировому государству. Во-вторых, освоение новых территорий (т. е. распространение капитализма) происходит волнообразно, и каждая последующая волна не только поглощает все большие и большие пространства, но и сами циклы становятся все короче и короче. В-третьих, предприниматели капиталистической экономики с каждым циклом берут на свое содержание все большее число издержек по освоению новых территорий.
Дж. Арриги описал четыре цикла распространения и роста капитализма в мире. На первом этапе генуэзцы, представлявшие город-государство капиталистической экономики, создали торгово-финансовую сеть в Средиземноморье и по берегам Черного моря. Эту сеть они не могли защищать самостоятельно и поэтому были вынуждены обращаться к сторонним государствам. На втором этапе Нидерланды, представлявшие гибрид городов-государств и национального государства, уже самостоятельно несли издержки по содержанию и защите своей торговофинансовой сети. На третьем этапе Великобритания — национальное государство — захватила огромные территории и была вынуждена не только поддерживать и защищать торговые сети, но и нести затраты на формирование торговых цепочек. По мнению Дж. Арриги, именно с этого момента капитализм превратился в мировую доминирующую систему контроля над рыночными отношениями и политикой государств. На четвертом этапе центр капиталистической экономики сместился в США. Экспансия США основыва- ется не только на имеющихся экономических ресурсах, но и на военной мощи. На данном этапе одно государство стремится стать гегемоном мира и несет не только издержки по защите интересов своих предпринимателей, но и затраты на поддержание значимых внешних рынков. Беспрецедентная военная сила позволяет американскому капиталистическому предпринимательству доминировать во всем мире и налагать жесткие экономические санкции на любое недружественное государство и на его хозяйствующие субъекты.
В своей книге «Адам Смит в Пекине: что получил в наследство XXI век» (2007) [1] Дж. Арриги фиксирует изменение организационных структур капиталистической экономики в сторону Китая. По его мнению, это может свидетельствовать о двух возможных сценариях развития будущего:
Несколько неожиданное развитие получила проблематика зарождения и развития капитализма в фундаментальном исследовании профессора Государственного университета штата Нью-Йорк в Олбани Ричарда Лахмана «Капиталисты поневоле. Конфликт элит и экономические преобразования в Европе раннего Нового времени» (2000). Удивительным образом Р. Лахману удалось преодолеть отдельные недостатки и противоречия марксистской теории капитализма, концепции функционирования и развития общества в структурно-функциональном анализе, теории элит и мир-системного анализа.
По его мнению, причиной возникновения капитализма в странах Западной Европы является конфликт между элитами. «Элитный конфликт — это четкая нить действий, которая тянет за собой структурные изменения во всех ситуациях» [16, с. 417]. Большинство людей не способны изменить вокруг себя что-либо, так как находятся в таких позициях социальной структуры общества, в которых невозможно оспорить сложившиеся отношения с другими социальными акторами. Элиты обладают такой возможностью. Р. Лахман под элитой понимает «...группу правителей, обладающих возможностями присваивать себе ресурсы неэлит и входящих в обособленный организационный аппарат» [16, с. 417]. Он отмечает: «Способности элит могут основываться на военной силе, контроле или владении средствами производства или обмена, доступе к средствам спасения души или культурном капитале....Элиты получают доступ и раскрывают одну или все свои способности при помощи организационных аппаратов» [16, с. 417]. Изменения начинаются именно в элитах, а лишь затем они проникают в классы и меняют поведение отдельных индивидов.
Борьба между элитами разворачивается за доминирование в процессах присвоения ресурсов. Этот конфликт разворачивается как внутри одиночной элиты, так и между разными их группами. Существование одиночной элиты возможно при условиях, что [16, с. 32]: 1) все ресурсы, собираемые у производящего класса (классов), присваиваются некой унифицированной организацией; 2) ни одна соперничающая элита не способна создать конкурирующей организации присвоения; 3) индивидуальные члены или группы внутри элиты не могут подорвать существующую организацию управления, лишив опоры остальных членов этой элиты. Конфликт внутри одиночной элиты возникает в силу стремления отдельных ее членов или групп изменить существующую систему присвоения ресурсов. Это провоцирует ее раскол на несколько конкурирующих элитных групп, между которыми разворачивается конкурентная борьба. Если элита сохраняет свою целостность, то основное конкурентное взаимодействие разворачивается между ней и производительным классом (классами). Данную ситуацию можно анализировать с позиций марксистской методологии классовой борьбы, считает Р. Лахман.
Множественные элиты возникают тогда, когда в обществе существует несколько способов извлечения ресурсов от производящего класса (классов), причем элиты вынуждены признать другие способы получения ресурсов легитимными. В противном случае может возникнуть ситуация, когда собственный способ присвоения ресурсов может быть утрачен. Анализ множественной элиты на основе марксистской методологии классовой борьбы неэффективен, так как борьба разворачивается не только между эксплуатирующим и эксплуатируемыми классами, но и между разными классами эксплуататоров.
Вне зависимости от типа существующей элиты (одиночной или множественной) каждая из них стремится защитить и расширить свои автономию и власть, изменяя в свою пользу отношения с соперничающими элитами и производящими классами. Все элиты должны присваивать ресурсы неэлит, если они хотят выжить. Конфликт между ними угрожает в первую очередь им самим, их доминирующему положению в системе распределения общественных благ.
Р. Лахман вводит новое понятие «фракция класса», под которым понимает определенный тип элиты, которая обладает некоторой организационной базой, отличной от имеющейся у других элит. «Изменения начинались, когда обострялись элитные конфликты. Фундаментальная трансформация случалась тогда, когда неэлиты были способны войти в союз с элитными фракциями и добиться уступок, которые давали долгосрочные права всем победителям» [16, с. 431]. Р. Лахман отмечает, что элиты в Европе раннего Нового времени и сейчас во всем мире стремятся сохранить существующий социальный порядок, а инициируемые ими изменения направлены в первую очередь на укрепление своего господствующего положения в обществе. Лишь только раскол в самой элите и борьба между отколовшимися частями порождают изменения. Именно эта борьба запускала изменения в социальном устройстве обществ, которые были всегда непредсказуемыми и незапланированными. В борьбе элит побеждала та группа, которой удавалось привлечь на свою сторону фракции эксплуатируемого класса. Неэлиты тоже активно реагировали на изменения, но действовали осторожно, бросая вызов правящим классам лишь тогда, когда элиты казались им разделенными или слишком занятыми борьбой с конкурентными элитами на родине или за границей.
«Элиты и классы не могли опираться на один лишь рациональный расчет при заключении союзов, которые им были нужны, чтобы воспользоваться открывшимися возможностями для эффективного действия. Такие возможности возникали внезапно, непредсказуемо и очень редко. Возможности осущест- вить эффективное действие или выстроить достаточную защиту порой были упущены еще до того, как какой-либо актор успевал определить материальные интересы каждого своего потенциального союзника» [16, с. 428]. Здесь основой объединения элит, фракций и классов становилась культура и идеология, а подчас и религия.
По мнению Р. Лахмана, именно Реформация стала критической точкой перехода в европейской истории, и не в силу того, что возник Протестантизм, этика которого, по мнению М. Вебера, легла в основу этоса предпринимательства. «Протестантизм не привел к единому набору психологических и идеологических императивов и, следовательно, сам по себе не открыл новые направления и модусы действия. Реформация разрушила существовавшие структуры элитных и классовых отношений и заронила сомнения в старые системы верований, открыв возможности для состязания разных конфессий. Элиты сражались друг с другом за контроль над церковной собственностью и полномочиями, а перед европейцами из всех слоев общества объявилось множество вариантов того, кому и во что верить» [16, с. 413]. Таким образом, Реформация породила множество основ для объединения и разъединения элит, фракций и классов.
Раздоры элит, по мнению Р. Лахмана, не обязательно заканчивались созданием капиталистических производственных отношений или национальных государств, но в любом случае они вели к долгосрочным последствиям, которые сказывались на производственных отношениях.
Итак, с позиций социологической науки можно сделать следующие выводы относительно роли и функции предпринимателя в хозяйственной сфере и обществе в целом:
-
— предприниматель является продуктом объективно сложившегося противоречия между производительными силами общества и его производственными отношениями;
-
— базовая черта предпринимателя — стремление к постоянному накоплению и увеличению капитала;
-
— деньги — самая важная и значимая ценность предпринимателя, которая позволяет не только оценить имеющуюся собственность и соотнести ее с капиталом других, но и объективировать мир в целом, сделать его
более рациональным, прогнозируемым и оцениваемым;
-
— на направленность и характер предпринимательской деятельности оказывают влияние факторы неэкономической природы (например, этика, религия, способ организации религиозных общин и т. д.);
-
— успешными предпринимателями становятся те индивиды, которые не обременены социальными и культурными связями и отношениями. Именно это позволяет им инициировать сверхприбыльные, но подчас безнравственные и аморальные проекты;
-
— наряду с предпринимателями рыночной системы можно выделить предпринимателей капиталистической системы. Первые стремятся к равноценному обмену в условиях конкуренции, вторые — к неэквивалентному в условиях монополии;
-
— хозяйственные отношения, основанные на неравноценном обмене, получают все большее распространение в мире. Это свидетельствует о том, что капиталистическая экономика поглощает все другие формы экономических отношений. Страны, составляющие ядро капиталистической экономики, получают сверхприбыли за счет неэквивалентного обмена с экономически слаборазвитыми странами;
-
— роль государства в современной мировой экономике существенно трансформировалась. Государственный аппарат все больше ориентирован не на управление внутренними и внешними рынками в интересах национального государства, а на обеспечение реализации интересов мировой капиталистической экономики внутри стран периферии;
-
— политические элиты, стремясь сохранить и расширить свою гегемонию в социальной иерархии, порождают различные социальные механизмы, развивающие и расширяющие капиталистическую экономику.
-
1. Арриги, Дж. Адам Смит в Пекине: что получил в наследство ХХI век / Дж. Арриги ; пер. с англ. Т. Б. Менской. М. : Ин-т общественного проектирования, 2009. 456 с.
-
2. Арриги, Дж. Долгий двадцатый век: деньги, власть и истоки нашего времени / Дж. Арриги ; пер. с англ. А. Смирнова, Н. Эдельмана. М. : Изд. дом «Территория будущего», 2006. 472 с.
-
3. Балибар, Э. Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности / Э. Балибар, И. Валлер-
стайн ; пер. группы авторов под ред. Д. Скопина, Б. Кагарлицкого, Б. Скуратова. М. : Ло-гос-Альтера, Ecce Homo, 2003. 272 с.
-
4. Бродель, Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV—XVIII вв. Т. 1. Структуры повседневности: возможное и невозможное / Ф. Бродель ; пер. с фр. Л. Е. Куббеля ; вступ. ст. Ю. Н. Афанасьева. 2-е изд. М. : Изд-во «Весь мир», 2006. 592 с.
-
5. Бродель, Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV—XVIII вв. Т. 2. Игры обмена / Ф. Бродель ; пер с фр. Л. Е. Куббеля. 2-е изд. М. : Изд-во «Весь мир», 2006. 672 с.
-
6. Бродель, Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV—XVIII вв. Т. 3. Время мира / Ф. Бродель ; пер. с фр. Л . Е. Куббеля. 2-е изд. М . : Изд-во «Весь мир», 2007. 752 с.
-
7. Валлерстайн, И. Европейский универсализм: риторика власти / И. Валлерстайн // Прогнозис. 2008. № 2. С. 3—56.
-
8. Валлерстайн, И. Исторический капитализм. Капиталистическая цивилизация / И. Валлер-стайн. М. : Товарищество науч. изд. КМК, 2008. 176 с.
-
9. Валлерстайн, И. После либерализма : пер. с англ. / И. Валлерстайн ; под ред. Б. Ю. Кагарлицкого. М. : Едиториал УРСС, 2003. 256 с.
-
10. Вебер, М. Избранные произведения : пер. с нем. / М. Вебер ; сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова ; предисл. П. П. Гайденко. М. : Прогресс, 1990. 808 с.
-
11. Давыдов, Ю. Н. Макс Вебер и современная теоретическая социология: актуальные проблемы веберовского социологического учения: в пер. / Ю. Н. Давыдов. М. : Мартис, 1998. 510 с.
-
12. Дарендорф, Р. Тропы из утопии / Р. Дарен-дорф ; пер. с нем. Б. М. Скуратова, В. Л. Близ-некова. М. : Праксис, 2002. 536 с.
-
13. Зомбарт, В. Собр. соч. : в 3 т. Т. 1 / В. Зом-барт ; ред. кол., предисл. А. Ф. Филиппов. СПб. : Владимир Даль, 2005. 640 с.
-
14. Зомбарт, В. Собр. соч. : в 3 т. Т. 2 / В. Зом-барт ; ред. кол., предисл. А. Ф. Филиппов. СПб. : Владимир Даль, 2005. 656 с.
-
15. Зомбарт, В. Собр. соч. : в 3 т. Т. 3 / В. Зом-барт ; пер. с нем. Д. В. Кузницына. СПб. : Владимир Даль, 2008. 480 с.
-
16. Лахман, Р. Капиталисты поневоле. Конфликт элит и экономические преобразования в Европе раннего Нового времени / Р. Лахман ; пер. с англ. А. Лазарева. М. : Изд. дом «Территория будущего», 2010. 456 с.
-
17. Маркс, К. Соч. : в 39 т. Т. 13 / К. Маркс, Ф. Энгельс. 2-е изд. М. : Гос. изд-во полит. лит., 1959. 805 с.
-
18. Маркс, К. Соч. : в 39 т. Т. 3. 1845–1846 / К. Маркс, Ф. Энгельс. 2-е изд. М. : Гос. изд-во полит. лит., 1955. 650 с.
-
19. Немецкая социология / отв. ред. Р. П. Шпако-ва. СПб. : Наука, 2003. 562 с.
-
20. Поланьи, К. Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени / К. Поланьи ; пер. с англ. А. А. Васильева, С. Е. Федорова и А. П. Шурбелова ; под
общ. ред. С. Е. Федорова. СПб. : Алетейя, 2002. 320 с.
-
21. Российская социологическая энциклопедия / под общ. ред. акад. РАН Г. В. Осипова. М. : Изд. группа НОРМА-ИНФРА-М, 1999. 672 с.
-
22. Шпенглер, О. Закат Европы / О. Шпенглер. Мн. : Харвест ; М. : АСТ, 2000. 1376 с.
Список литературы Теория предпринимательства в социологической науке: ретроспективный обзор
- Арриги Дж. Адам Смит в Пекине: что получил в наследство XXI век/Дж. Арриги; пер. с англ. Т. Б. Менской. М.: Ин-т общественного проектирования, 2009. 456 с.
- Арриги Дж. Долгий двадцатый век: деньги, власть и истоки нашего времени/Дж. Арриги; пер. с англ. А. Смирнова, Н. Эдельмана. М.: Изд. дом «Территория будущего», 2006. 472 с.
- Балибар Э. Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности/Э. Балибар, И. Валлер стайн; пер. группы авторов под ред. Д. Скопина, Б. Кагарлицкого, Б. Скуратова. М.: Ло-гос-Альтера, Ecce Homo, 2003. 272 с.
- Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. Т. 1. Структуры повседневности: возможное и невозможное/Ф. Бродель; пер. с фр. Л. Е. Куббеля; вступ. ст. Ю. Н. Aфанасьева. 2-е изд. М.: Изд-во «Весь мир», 2006. 592 с.
- Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. Т. 2. Игры обмена/Ф. Бродель; пер с фр. Л. Е. Куббеля. 2-е изд. М.: Изд-во «Весь мир», 2006. 672 с.
- Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. Т. 3. Время мира/Ф. Бродель; пер. с фр. Л. Е. Куббеля. 2-е изд. М.: Изд-во «Весь мир», 2007. 752 с.
- Валлерстайн И. Европейский универсализм: риторика власти/И. Валлерстайн//Прогнозис. 2008. № 2. С. 3-56.
- Валлерстайн И. Исторический капитализм. Капиталистическая цивилизация/И. Валлерстайн. М.: Товарищество науч. изд. КМК, 2008. 176 с.
- Валлерстайн И. После либерализма: пер. с англ./И. Валлерстайн; под ред. Б. Ю. Кагарлицкого. М.: Едиториал УРСС, 2003. 256 с.
- Вебер М. Избранные произведения: пер. с нем./М. Вебер; сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова; предисл. П. П. Гайденко. М.: Прогресс, 1990. 808 с.
- Давыдов Ю. Н. Макс Вебер и современная теоретическая социология: актуальные проблемы веберовского социологического учения: в пер./Ю. Н. Давыдов. М.: Мартис, 1998. 510 с.
- Дарендорф Р. Тропы из утопии/Р. Дарендорф; пер. с нем. Б. М. Скуратова, В. Л. Близнекова. М.: Праксис, 2002. 536 с.
- Зомбарт В. Собр. соч.: в 3 т. Т. 1/В. Зомбарт; ред. кол., предисл. A. Ф. Филиппов. СПб.: Владимир Даль, 2005. 640 с.
- Зомбарт В. Собр. соч.: в 3 т. Т. 2/В. Зомбарт; ред. кол., предисл. A. Ф. Филиппов. СПб.: Владимир Даль, 2005. 656 с.
- Зомбарт В. Собр. соч.: в 3 т. Т. 3/В. Зомбарт; пер. с нем. Д. В. Кузницына. СПб.: Владимир Даль, 2008. 480 с.
- Лахман Р. Капиталисты поневоле. Конфликт элит и экономические преобразования в Европе раннего Нового времени/Р. Лахман; пер. с англ. A. Лазарева. М.: Изд. дом «Территория будущего», 2010. 456 с.
- Маркс К. Соч.: в 39 т. Т. 13/К. Маркс, Ф. Энгельс. 2-е изд. М.: Гос. изд-во полит. лит., 19S9. 805 с.
- Маркс К. Соч.: в 39 т. Т. 3. 1845-1846/К. Маркс, Ф. Энгельс. 2-е изд. М.: Гос. изд-во полит. лит., 1955. 650 с.
- Немецкая социология/отв. ред. Р. П. Шпакова. СПб.: Наука, 2003. 562 с.
- Поланьи К. Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени/К. Поланьи; пер. с англ. А. А. Васильева, С. Е. Федорова и А. П. Шурбелова; под общ. ред. С. Е. Федорова. СПб.: Алетейя, 2002. 320 с.
- Российская социологическая энциклопедия/под общ. ред. акад. РАН Г. В. Осипова. М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА-М, 1999. 672 с.
- Шпенглер О. Закат Европы/О. Шпенглер. Мн.: Харвест; М.: АСТ, 2000. 1376 с.