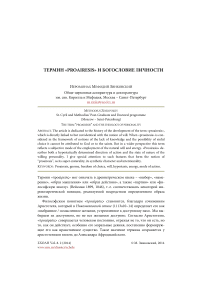Термин proairesis и богословие личности
Автор: Зинковский Мефодий
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 2 т.8, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается история развития термина proairesis, тесно связаного с понятием «воли», но не тождественного ей. Если proairesis связывается с недостатком знания и возможностью выбора греха, то он не может признаваться в Боге и в обоженном состоянии святых. Однако в более широкой перспективе термин отражает субъектный образ пользования природными волей и энергией, описывая как ипостасно определяемое направление действия, так и состояние природы произволяющего. Анализируются свойства понятия proairesis: мета-природность, синтетичность, отличительность и целевая направленность.
Воля, свобода выбора, ипостась, энергия, образ действия
Короткий адрес: https://sciup.org/147103380
IDR: 147103380
Текст научной статьи Термин proairesis и богословие личности
Термин «προαίρεσις» мог означать в древнегреческом языке – «выбор», «намерение», «образ мышления» или «образ действия», а также «партию» или «философскую школу» (Вейсман 1899, 1046), т. е. соответствовать некоторой мировоззренческой позиции, реализуемой посредством определенного образа жизни.
Философским понятием «προαίρεσις» становится, благодаря сочинениям Аристотеля, который в Никомаховской этике (1113a10–14) определяет его как «выбранное / осмысленное желание, устремленное к доступному нам». Мы выбираем из доступного, но не все желаемое доступно. Согласно Аристотелю, «προαίρεσις» совершается человеком постоянно, отражая не то, что он есть, но то, как он действует, особенно его моральные деяния, постепенно формирующие его как нравственное существо. Такое значение термина сохраняется у аристотеликов вплоть до Александра Афродисийского.
ΣΧΟΛΗ Vol. 8. 2 (2014) © М. Зинковский, 2014
Как отмечает Джон Рист, хотя стоики во многом восприняли этику Аристотеля, однако наш термин практически не использовался ими вплоть до Эпиктета, для которого «προαίρεσις» не столько отвечает за отдельные акты человека, сколько описывает всего человека с уже сформированным нравственным характером (Rist 1969, 228, 230), с уже сделанным выбором в пользу того или иного образа поведения (Rist 1985, 104–105, 107, 111).
«Προαίρεσις», очевидно, тесно связан с понятием «воли», но тождественен ли он ей? Необходимо отметить что, по мнению исследователей, следует говорить о редукции воления к знанию в эллинистической мысли, что указывает на отсутствие полноценной доктрины воли в древнегреческой философии (Dihle 1982, 113–116).
Полагая «προαίρεσις» неприложимым к колебанию в сторону греха и связывая его с рациональной способностью, которая не может грешить, Плотин считал «προαίρεσις» «засыпающим» в низшей душе, погружающейся во грех. А неоплатоники Ямвлих и Прокл, хотя и применяли этот термин, тем не менее не принимали плотиновской точки зрения и опирались на неплотиновские взгляды, воспринимая «προαίρεσις» целостно и находясь, очевидно, под влиянием других авторов и концепций, возможно, – из христианской среды (Rist 1985, 117).
Прокл, отходя от плотиновского разделения души на высшую и низшую, считая ее единым целым и указывая на неверность отнесения греха только к низшей части души, связывает «προαίρεσις» с целостным влечением души к греху. Но, таким образом, он отождествляет «προαίρεσις» с поврежденной «θέλημα» души, ее действием или модусом (Ibidem, 103).
Начиная с апологетов, таких, как св. Иустин мученик и др., церковные писатели отстаивали идею нравственной человеческой свободы и ответственности за пользование своими умственными способностями посредством способности выбора (ἡ αἴρεσις). Можно сказать, что почти все греческие отцы говорили о Богом данной задаче духовного роста Адама, напрямую зависящего от свободного упражнения человеческой воли в ответ на явление воли Божественной (Telepneff 1991, 149, 151). Несмотря на неусовершенность гармонично устроенного и безгрешного Адама, в нем присутствовала свобода воли, которую предстояло упражнять.
Возникает вопрос – можно ли утверждать, что, как таковая, возможность выбора является лишь одним следствием неусовершенности Адама, или здесь все-таки присутствует и другая составляющая – свобода личного плана, не устраняемая в обожении и не связанная с проблемой колебания и отклонения ко греху, а открывающая перед человеком поле непринужденного и творческого общения с Творцом. Так, Климент Александрийский связывает добродетель напрямую с понятием «προαίρεσις’а», подчеркивая, что действие благодати Бога всегда ненасильственно направлено навстречу нашему «προαίρεσις’у», именно как следствие нашего выбора в пользу Бога. Он противопоставляет добродетель природе человека не в том смысле, что она противоприродна, а в том, что добродетель не сводится к природе, и увязывает нравственный рост человека с тем же «προαίρεσις’ом» (Clark 1977, 56–57).
Обостряет наш вопрос представление Плотина о характере обожения человеческой «высшей» души, которая, согласно его видению, не может не стремиться к Единому, будучи движима к нему в силу своей изначальной природной «сродности» ему. И хотя Рист считает, что для Плотина способность «προαίρεσις’а» одновременно и принадлежит уму, но и отлична от него (Rist 1985,114–116), однако, в результате обретения «высшей» душой своего «подлинного» бытия в соединении с Единым, какое-либо свободное пользование ею своей волей упраздняется, особенно – в свете конечной неизменности и неподвижности души и утраты ею самосознания. Подобное представление, несомненно, придает оттенок детерминизма плотиновской доктрине (Telepneff 1991, 102, 116, 133).
Понятие «προαίρεσις» у свт. Григория Нисского
Согласно свт. Григорию Нисскому, ипостаси Троицы обладают избирательной потенцией, являемой в творении. Слово, как и Дух, – есть сама Жизнь (Само-жизнь), они самодвижны и обладают избирательной силой.1 Нисский святитель говорит о произволении Слова, что оно никогда не склоняется ко злу, ибо это противно Божию естеству, что подчеркивает неразрывную взаимосвязь «προαίρεσις’а» с природной энергией.2 Не может Начало, господствующее над миром, в котором есть произволяющие (προαιρετικόν) субъекты, быть без произволения, подобно непроизвольной (ἀπροαίρετον) судьбе.3 Поэтому свт. Григорий относит «προαίρεσις» к избираемому характеру деяний, а не к произведению природы (что делали ариане, изображая Сына произвольным произведением Отца и низводя Его на уровень творения).4
Однако Нисский богослов утверждает, что рождение Сына одновременно и природно и не непроизвольно для Отца.5 Он подчеркивает, что «προαίρεσις» в Боге не может отступать от лучшего, почему, хотя само слово «προαίρεσις» и применяется к Богу с определенной условностью, но благо имения Сына согласуется с волей Отца, соответствует лучшему возможному его произволению и не вводит разделения по естеству. Для пояснения своей мысли свт. Григорий прибегает к аналогии огня и «произвольного» ипостасного света, источаемого огнем, как образа внутреннего вечного движения рождения ипостаси Сына в Боге. Природное действие происходит согласно произволению (προαίρεσις), которое никогда не рассматривается само по себе, отдельно от порождаемого им движения.6
В Св. Троице Нисский святитель исповедует тождество произволения согласно единству природы, но одновременно признает трех произволяющих, имеющих общение в едином произволении (προαίρεσιν κοινωνίας).7
Согласно Нисскому святителю, свобода «προαίρεσις’а» отражает одну из черт образа Божия в человеке.8 «Προαίρεσις» есть автономная (αὐτονόμος) свобода распоряжения субъектом собственными мыслями, пользования своим разумом и выражает богообразные самовластие и господство человека.9 Свт. Григорий отличает анализ мыслей умом от акта принятия решения.10 Одновременно «προαίρεσις» может отражать наше стремление к Богу, и степень нашей синергии с Ним, и томительное колебание духа падшего человека.11 Христос приобщился нашей природе, но не воспринял болезнь «προαίρεσις’а», выражающуюся в греховной страстности.12
Еще Ориген, возможно, под влиянием Эпиктета, использовал «προαίρεσις» для описания свободы самоопределения ангелов и человека, впрочем, ограничивая область «προαίρεσις’а» свободой отпадения от Бога и исключая его активность в «эсхатоне». Понятие «προαίρεσις’а» у свт. Григория получает развитие, несет положительное значение в процессе единения человека с Богом и себе подобными и не может быть сведено лишь к плоскости природно-энергийной, даже высшей ее части –интеллектуальной.13
Добродетель и зло составляются свободным произволением (προαίρεσις) человека или ангела, и зло, не имея своей собственной сущности и ипостаси бытия, искажает благой образ существования, задуманный Богом, не затрагивая сущности сотворенной природы.14 Именно «προαίρεσις» в нас ответственен за склонение от добра к злу, за веру и неверие, за послушание Богу или противление, за спасение и уподобление Богу или погибель, руководя направлением развития сил сотворенной разумной природы.15
Нисский святитель представляет неверным мнение об обосновании различия произволения в людях «программированием» «προαίρεσις’а» слепой судь-бой.16 Различие в избирательной воле означает различие частных природ выбирающих и не обязательно связано с поврежденностью грехом.17 Поскольку «προαίρεσις» – есть понятие энергийное, то он признается свт. Григорием плодом, проявляющим сущность естества и в то же время имеющим обратное действие на это естество.18 Тело человека рассматривается орудием его «προαίρεσις’а», который способен двигаться самостоятельно.19 При этом вектор «προαίρεσις’а» соответствует направленному движению ума. Если величина этого вектора отвечает за степень энергичности мысли и естественное для нее стремление к познанию, то его направление или цель, определяемые пользующимся субъектом, задают образ пользования природными энергиями и образ действия.20 Правильным плодом духовного пути является исцеленный, благой, и даже драгоценный «προαίρεσις», согласованный с волей Бога, уподобляющий нас Ему и получающий воздаяние от Него.21
Таким образом, можно сказать, что «προαίρεσις» у свт. Григория Нисского может быть описан как ипостасно-энергийное понятие, выражающее одновременно ипостасно определяемое направление действия и развития и качественное состояние природы произволяющего.
«Προαίρεσις» у других каппадокийцев
В Беседе 10-й – О сотворении человека по образу Божию, относимой современными исследователями к сочинениям свт. Василия, а ранее считавшейся произведением Нисского святителя, именно «προαίρεσις» связывается с дарованной человеку возможностью уподобляться Богу, реализуя потенциальный дар быть «по подобию».22 Это согласуется с мнением исследователей о том, что для свт. Григория Нисского наше подобие Богу связано со свободой выбора. «Προαίρεσις» может вести к добру, но может, в отличие от мнения Плотина, для которого «падение» иррационально и не вызвано «προαίρεσις’ом», склониться ко злу, меняясь не просто вместе с человеческой природой, как в системе стоиков, но являясь источником позитивной или негативной динамики самой разумной природы (Rist 1985, 114).
В эсхатологической перспективе свт. Григорий Богослов относит разнообразие обителей в доме Отца, соответствующее различию добродетелей индивидуумов, именно к свободному личному ответу человека на Божественный призыв.23 Таким образом, корень слова «προ-αίρεσις» увязывается не только с выбором между добром и злом, но и с различием между образами добродетели и бытия в вечности, которое не устраняется обожением, но даже, можно сказать, обостряется в нем.
«Προαίρεσις» у преп. Максима Исповедника и преп. Иоанна Дамаскина
Как у Нисского святителя, термин «προαίρεσις» у преподобных Максима и Иоанна можно так же интерпретировать, как субъектный, ипостасно-личный, само-движный (αὐτοκινήτοις) или само-деятельный (αὐτουργός) образ пользо- вания естественными способностями, природной волей и энергией.24 У св. Дамаскина «προαίρεσις» определяется как выбор или предпочтение одной из возможностей. В частности, одни ангелы произвольно избрали добродетель, а другие – грех.25 Св. Исповедник сопоставляет выбор (προαιρέσις ἴδιον) Адама и Христа, доставляющие общей природе тление и нетление соответственно.26 Далее, преп. Максим различает свободно совершенный грех (προαιρετικὴν ἁμαρτίαν) и природное состояние, грехом вызванное. Первый свершен Адамом при грехопадении, когда он переориентировал себя от Бога к чувственному миру, а второе – воспринято Христом ради исцеления нашей природы.27 Св. Дамаскин продолжает различение природы и произволения, указывая на то, что сама возможность греха исходно заключалась не в природе Адама, а в его произволении.28
Синергия и ответ Бога человеку, совершение добра или зла, спасения или греха, зависят от образа нашего произволения и действования–пользования природой, а не от самой природы, которая порой невольно для нас подталкивает к подлинному благу, ибо содержит в себе неискаженные Божественные логосы.29 Именно «προαίρεσις», как образ действования, оценивается и венчается от Бога, причем в зависимости от того, согласен он с логосами естества или противен им.30 Адам, уподобляясь Творцу-устроителю вселенной и пользуясь своим свободным произволением (προαίρεσις), должен был исполнить изначальную задачу синтеза всего тварного мира, умного и чувственного, при- водя его к духовной красоте и осуществляя единение твари с Богом, которое «выше естества»31 и должно было быть реализовано как задача обожения посредством упражнения произволения.
Преп. Иоанн Дамаскин говорит о том, что именно несводимые к природному началу (οὐ φυσικὴ) отношения между индивидуумами32 зависят от их произволения. «Προαίρεσις» определяет, согласно св. Дамаскину, и послушание или непослушание Творцу, дружбу или вражду между людьми, единство или разделение. Также св. Иоанн различает чистоту природную от избирательной. Если избирательной чистоте соответствует наша добродетель, то природная опирается на превосходящую все чистоту Божественной природы-энергии.33 «Προαίρεσις» выявляет также без-ипостасность зла.34
Св. Иоанн Дамаскин утверждает, что «προαίρεσις» не имеет места в индивидуумах, не обладающих само-деятельным существованием35 или, выражаясь современным языком, не обладающих ими управляемой энергией. И хотя Бог, более чем кто-либо из существующих Его творений, есть само-деятельное Существо, действующее в мире, св. Дамаскин во второй книге De Fide Orthodoxa по сути отрицает «προαίρεσις» в Абсолюте и во Христе, указывая на то, что Бог не ограничивается выбором, имея полноту ведения.36 Однако напомним, что свт. Григорий Нисский считал возможным говорить об избирательной потенции, способности Слова и Духа (προαιρετικὴν δύναμιν),37 и преп. Максим в ранних своих сочинениях говорит о непреклонности «προαίρεσις’а» во Христе. Да собственно и сам св. Дамаскин в ином месте, подчеркивая ипостасность Сына и Духа, говорит о них, как об обладающих избирательным действием.38 А свт. Григорий Нисский говорит о творении Божиим Словом мира согласно избранию им этого.39 И когда св. Дамаскин размышляет об ипостасности Лиц Троицы, то не может отказать им, вслед за Нисским святителем, в «προαιρετικὴν
δύναμιν» как отражении их трудноописуемой в рамках нашей логики взаимной внутренней свободы.40
Очевидно, что свобода действования не может быть ограничена рамками неполноты знания или выбором между добродетелью и грехом. Невозможно свести, например, решение Творца о творении человека в сферу неизбежности. При этом свободное решение Бога о создании мира и человека не связано ни с каким-либо незнанием, ни с необходимостью.41
Как отмечает Телепнев, согласно видению преп. Максима, Адам, находясь в безгрешном состоянии, не будучи подвержен еще «бифуркации» выбора между добром и злом, был естественно движим своей природой к Богу как своему Источнику. Однако это стремление нельзя признать лишь спонтанным и бесконтрольным влечением, как в неоплатонической системе, ибо рациональная способность человека должна была свободно подтверждать следование этой внутренней тенденции (Telepneff 1991, 322–333).
К размышлениям о возможности свободы выбора между различными благами вне контекста греха и ограниченности ведения добра стоит добавить и размышления св. Максима о множестве благ на небе, напрямую связанным с множеством нетварных логосов, содержащихся в причастной творению энергии Творца (Farrell 1987, 131–134).
Когда «προαίρεσις» ставится преп. Максимом и св. Дамаскиным в один логический ряд с понятиями, отражающими недостаток знания («ἄγνοια» и «γνώμη») и возможность выбора греха, то они отрицают его в Боге, во Христе и в обоженном состоянии святых. «Προαίρεσις», рассматриваемый как «преднамеренный выбор», в таком случае «отличает способных двигаться в обе стороны (т. е. – в хорошую и дурную)», и предполагать его у Христа – «есть верх всякого нечестия» (Шуфрин, А. М., пер. 2009, 194). Даже устоявшийся, неизменный «προαίρεσις» будет «связываться исключительно с тварными ипостасями, поскольку те могут привносить в природное воление рассмотрение альтернативных возможностей, взвешивание, сомнение и, наконец, принятие решения» (Беневич, Шуфрин 2009, 169). И хотя «γνώμη» может тоже использоваться св. Максимом для описания способности развития образа Божия в человеке через свободно-разумное уподобление Богу,42 однако в поздних его сочинениях термин обозначает недостаток интегральности и простоты в процессе воления и связан с колебаниями между добром и злом (Telepneff 1991, 327, 343).
Максим считает возможным говорить лишь об условном усвоении Христом «προαίρεσις’а», поскольку «Христос ставит Себя в такое положение, в каком мы можем (и склонны) противиться воле Божией, и, сострадая нам, показывает, как мы подходим к этой черте (хотя и не переступает ее, как обычно делаем мы)» (Беневич, Шуфрин 2009, 171).
Если же мы сделаем шаг за рамки богословских споров того времени и учтем, что «προαίρεσις» можно определять более широко, чем выбор между верным и ошибочным образом существования, связанный с ограниченностью ведения, то сможем сохранить за понятием «προαίρεσις’а» позитивное актуальное содержание и для состояния обожения, включая указание на ипостасно-энергийную связку, описывающую характер пользования субъектом природными энергиями. Так, и сам св. Максим говорит о нетождественности энергий и волений тварных ипостасей с Божественной волей по причине сохранения природно-ипостасных различий между Богом и обоженными ипостасями (например, см. Шуфрин, А. М., пер. 2009, 191). Св. Максим также рассуждает о том, что самовластие (αὐτεξουσία) не устраняется в состоянии обожения, но непрерывно и свободно согласуется с вложенным в нас природным стремлением к Творцу. Более того, в обожении человек получает импульс к своему собственному естественному движению не от себя, а от Источника всякого Блага, причем согласно своему собственному произволению.43 Можно даже говорить о том, что подлинная свобода выбора, свободная от болезненного колебания, незнания и неустойчивости в добре, достигается только в «эс-хатоне» – в полноте обожения (Telepneff 1991, 385).
Порой может сложиться мнение, что «προαίρεσις» полностью принадлежит умной природе человека.44 И в ряде случаев преп. Максим действительно может отождествлять «προαίρεσις» с природной волей (Шуфрин, А. М., пер. 2009, 193). Тем не менее, в тех случаях, когда преп. Максим и св. Дамаскин говорят о возможности направления выбора (προαίρεσις) согласно или противно природе, а умная природа человека не выделяется ими из единства человеческой сущности, то очевидно, что если бы такой «προαίρεσις» лежал исключительно в плоскости ума, то он не мог бы быть направлен против своей собственной природы, исправлять или искажать ее.45 Так, например, св. Максим говорит о возможности и необходимости для христианина на определенном этапе стать само-произвольным (αὐθαίρετος) мертвецом по отношению к миру.46
Поэтому не случайно св. Максим все-таки указывает и на различие понятий «προαίρεσις» и «θέλημα». Если воля есть естественная энергия и стремление (желание) природы, в том числе – умственной (ὄρεξίς ἐστι, λογική τε καὶ ζωτική), то «προαίρεσις» есть синтез (схождение) этого стремления с размышлением (βουλῆς – обдумыванием, со-вещанием) и суждением (κρίσις).47
Согласно св. Дамаскину, «προαίρεσις» по порядку последует мысленной деятельности, а значит, строго говоря, не может быть отождествлен с ней.48 Человек как целое, как ипостась человеческого рода, признается началом своих действий.49 «Προαίρεσις» в каждом человеческом индивидууме рассматривается как синтетическое понятие и сравнивается св. Максимом с ипостасным синтезом души и тела в человеке.50
Необходимо также отметить, что корень «αἵρεσις» иногда применяется св. Максимом и для описания ипостасного различия лиц Троицы,51 и для описания раз-деления (δι-αίρεσιν) даров Духа.52 Термин «δι-αίρεσις» используется также св. Исповедником для описания изначальных разделений, присущих творению, которые вовсе не являлись «плохими» по своей сути, но «ожидали» объединяющего действия Адама, причем не ради без-различного слияния, но ради возрастающего единства в различии по подобию созерцаемого в Боге.53
В вечности, благодаря сохранению различий между тварными ипостасями и благами благодати и множественности нетварных логосов, явленных в единстве Логоса, создается простор для непротиворечивого выбора благих направлений движения. Покой «субботы», столь важный в мысли св. Максима об обожении, следует понимать как достижение не падшего состояния выбора и произволения, укоренение в благих стремлениях, связанное одновременно с непрестанным бесконечным и не падшим развитием и движением твари. Согласно Фаррелу, можно утверждать, что христианской мысли удалось отделить принцип онтологической множественности как от диалектического, так и от нравственного противопоставления (Farrell 1987, 183).
Поскольку в неоплатонизме Бог есть лишь абсолютная монада, то эсхатон в этой системе, очевидно, должен исключить какие-либо различия, вариации и выбор. В христианском же дискурсе в Абсолюте постулируется как единичность, так и множественность: единство и множественность ипостасей, един- ство и множественность энергийных логосов. Это является богословским обоснованием различия равным образом благих решений или выборов, избираемых тварными ипостасями и в «эсхатоне», но уже без какого-либо риска согрешить (см. Farrell 1987, 182).
Свойства «προαίρεσις’а» и проблематичность приложения его ко Христу
В итоге мы можем выделить такие свойства понятия «προαίρεσις», как метаприродность, подразумевающую и мета-логичность, синтетичность, отличительность и целевую направленность.54 Подобные свойства понятия «προαίρεσις» заставляют оценивать его как ипостасно-личностную категорию, органически вписанную в природно-энергийный контекст бытия.
Св. Дамаскин, как мы видели выше, отрицает «προαίρεσις» во Христе, связывая это с отсутствием недостатка ведения в нем по его Божественной природе, ипостасно соединенной с человеческой. Очевидно, что человеческий ум Христа не становится неограниченным, сохраняя в перихоресисе свою твар-ную ограниченность, а значит – и ограничение человеческого знания.55 Если бы «προαίρεσις» относился исключительно к умственной природе, то следовало бы признать наличие «προαίρεσις’а» во Христе по человечеству, как св. Дамаскин признает его наличие во всех людях. Отрицание св. Дамаскиным «προαίρεσις’а» во Христе связано ни с чем иным, как с ипостасным единством природ в нем, и возводится именно к его ипостасному началу.
Говорить, что «προαίρεσις» во Христе не имеет места, поскольку характеризует природную волю, подчиненную Божественной, было бы ошибкой. Воля человеческая во Христе хотя и подчинена, но не слита с Божественной. И преп. Максим настаивал на двух волях, признавая эту подчиненность и согласованность. Но «προαίρεσις» связан и с природой, и с ипостасью, а поскольку во Христе нет человеческой ипостаси, то полного человеческого «προαίρεσις’а» тоже не может быть (соответствующая природа есть, а соответствующей ипостаси нет).
Проблематичность христологического применения термина «προαίρεσις» состоит именно в том, что во Христе – две природные энергии, но одна Божественная ипостась. Сопоставление «προαίρεσις’а» с двумя энергиями понуждает говорить о двойной субъектно-природной динамике, а возведение «προαίρεσις’а» к единой ипостаси Логоса не позволяет применить этот термин к Христу как синоним неполноты ведения или колебания, но позволяет нам говорить о едином Субъекте двух согласованных природных действий.
«Προαίρεσις» у свт. Григория Паламы
Свт. Палама связывает «προαίρεσις» как со злым выбором греха, появившимся позже благого творения, так и с добром, выбираемым человеком подобно одному из путей, приносящих плоды добродетелей.56 «Προαίρεσις» связан напрямую с послушанием или непослушанием Богу, преодолением немощного и страстного после грехопадения естества, противостоянием падшим духам.57 Именно «προαίρεσις» отражает самодвижность субъекта человеческих действий и позволяет выбирать жизнь согласно природной воле или же против, или сверх ее, что невозможно самой природе.58
В Гомилии 12-ой, описывая состояние одержимости, свт. Палама говорит о внедрении, производимом демоном, в высшую часть человеческой природы – мозг, имеющем своим следствием непроизвольное (ἀπροαίρετος) движение частей тела. Казалось бы, что можно вновь решить поместить «προαίρεσις» в плоскость ума человека. Однако свт. Палама говорит не о подстановке ума демона на место ума человека и не о парализации мозга одержимого, но лишь о страдании мозга и порабощении человеческой природы. Мозг и нервная система продолжают функционировать в некоем «воспаленном» состоянии.59 Свобода «προαίρεσις’а» одного субъекта подавляется свободой другого при активном энергийном взаимодействии на уровне их умственных природ.
Заключение
Проведенный анализ значения термина «προαίρεσις» и его свойств позволяет определить «προαίρεσις» как ипостасно-энергийное понятие, сопоставляя его с выбором образа действования энергий во-ипостасной природы. Вместе с В. Н. Лосским мы утверждаем, что ум есть своеобразное «седалище» ипостасно-личного начала в нас,60 почему именно в разумной природе, более чем в других тварных ипостасях, отражается разумность Божественных ипостасей, нераздельно разделяющих между собой единую всеведущую премудрость.
Это, в частности, является обоснованием соборного принципа познания истины в человечестве и в Церкви. По дару благодати образ мышления каждого согласуется с образом мышления других, а все вместе, благодаря проэретиче-скому желанию достичь истины, согласуются с логосами Божественными.61 Индивидуальный, личный «προαίρεσις» не может быть исключительно нашей автономной деятельностью, он должен учитывать природную общность ипостасей человеческого рода, их зависимость друг от друга и общую их произ-водность от Источника всякой тварной ипостасности (Harriet 2008, 348).
Еще о. И. Мейендорф ссылался на текст преп. Максима, использующий словосочетание «выбор гномический» («αἵρεσιν γνωμικῶς», PG 90, 905 A) для обозначения человеческого личного произволения, потенциально способного к неверному выбору (Мейендорф 2007, 206). Выбор – «αἵρεσις» и «γνώμη» – не есть одно и то же. Выбор может быть и не гномическим. В частности, св. Максим говорит о различии этих двух понятий так: «намерение так относится к выбору, как навык к деятельности» (Шуфрин, А. М., пер. 2009, 186–187). Значит, хотя бы теоретически допустимо, что «προαίρεσις» может быть направлен против навыка «γνώμη».
Гномическая воля может быть определена как коренящаяся в ипостаси и задающая определенный модус воления субъекта. Но это лишь один из возможных модусов, и именно такой, который связан с колебаниями, ограниченностью знания, неопределенностью, грехом и противоречием неповрежденным грехом логосам природы.
Свободный выбор должно и можно отличать от так определяемой гномической воли. Как мы уже отмечали, мы не можем согласиться с положением, выдвигаемым Фареллом, что свободный выбор есть исключительно принадлежность природы (Farrell 1987, 114–117). Как образ \ тропос \ модус существования не является синонимом ипостаси, но связывает онтологию ипостаси и природы, так и «προαίρεσις» в широком смысле является связующим понятием, которое характеризует эту связь двух аспектов бытия и может считаться показателем ипостасно-природного состояния. В исцеленном, обоженном состоянии «προαίρεσις» принципиально свободен от гномических колебаний и склонности к греху и является обогащающей составляющей благо-бытия. «Προαίρεσις», приобретая здоровую ипостасно-природную «устойчивость»,62 не исключает возможности выбора среди множества Божественных благ.
Мы также позволим себе не согласиться с мнением Батреллоса, отождествляющего у св. Максима гномическую волю и «προαίρεσις» в человеке с колеба- тельным состоянием природной воли после грехопадения. Св. Максим мог говорить об устойчивости «προαίρεσις’а» в тварных ипостасях в связи с «неколебимостью выбора» Бога как «мастера неколебимости» (Шуфрин, А. М., пер. 2009, 193). С другой стороны, представляется неудачным и мнение митр. Зизиуласа, противопоставляющего мнению Батреллоса наличие гномической воли в человеке до грехопадения (Bathrellos 2013, 136).
Наш анализ приводит нас к выводу, что имело место непростое развитие понятий «προαίρεσις» и «γνώμη». Так, свт. Григорий Богослов еще говорит о «γνώμης σύμπνοια»63 в Троице – согласии или со-дыхании «γνώμη», считая возможным относить «γνώμη» к ипостасям в Троице. В дальнейшем «γνώμη» все более приобретает нагрузку «неведения» и тогда не может быть приписано ни ипостасям Троицы, ни ипостаси Христа. Если «προαίρεσις» по смыслу (как в ряде текстов св. Максима) сближается или отождествляется с «γνώμη», то и он не может присутствовать во Христе и в Троице. Подобное неприменимое к Богу состояние «προαίρεσις’а» преп. Ефрем Сирин описывает как подчиненность поврежденной грехом природе.64 Отметим, что и «γνώμη» может не обязательно быть связано непосредственно с грехом в нас, но порой и просто – с ограниченностью творения. Неизбежная ограниченность тварных ипостасей ведет к теоретической возможности отклонения ипостасно-гномической воли от неискаженной природной.
В широкой перспективе возможно, и даже необходимо, на наш взгляд, различать понятия «προαίρεσις» и «γνώμη», придавая понятию «προαίρεσις» возможность носить смысл, синонимичный с выбором образа действования, не противоречащего логосам природы, и без оттенка неведения. Тогда «προαίρεσις», будучи возводим к тварному ипостасному началу, отражает выбор одного из возможных многочисленных образов действия в рамках единой ипостасно-природно-энергийной онтологии. Эту мысль подтверждают и слова св. Ефрема Сирина о том, что ипостась посредством «προαίρεσις’а» определяет свою деятельность, осуществляемую, очевидно, через природные энергии, а также высказывание свт. Григория Нисского о том, что не по какой-либо необходимости, а по произволу (προαίρεσις) определяют люди-художники время реализации своих замыслов.65
Таким образом «προαίρεσις» может означать: 1) либо просто природную волю, как в ряде текстов признает это преп. Максим и как видел это Прокл, 2) либо, наряду с «γνώμη», неустойчиво-колебательное состояние произволения, связанное с ограниченностью творения и с ограничением в «ведении», 3) либо
«избирательную» способность деятельности, признаваемую в ряде святоотеческих текстов и в Троице, и во Христе, и возводимую к ипостасному началу вне контекста ограничений тварности или поврежденности грехом.
Список литературы Термин proairesis и богословие личности
- Беневич, Г. И., Шуфрин, А. М. (2009) «Прп. Максим Исповедник. Полемика с моноэнергизмом и монофелитством», Беневич, Г. И., сост. Антология восточно-христианской богословской мысли. В 2-х т. Москва, Санкт-Петербург: II, 156-172.
- Вейсман, А. Д. (1899) Греческо-русский словарь. Санкт-Петербург.
- Лосский, В. Н. (1991) Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. Mосква.
- Мейендорф, И., протопресв. (2007) Византийское богословие. Исторические тенденции и доктринальные темы. Минск.
- Шуфрин, А. М., пер. (2009) «Максим Исповедник, св. Марину, преподобнейшему пресвитеру», Беневич, Г. И., Антология восточно-христианской богословской мысли. В 2-х т. Москва, Санкт-Петербург: II, 183-196.
- Bathrellos D. (2013) “St Maximus the Confessor's Contribution(s) to the Notion of Freedom, Knowing the purpose of creation through the resurrection,” Bishop Maxim (Vasiljevic), ed., Proceedings of the Symposium on St. Maximus the Confessor. Belgrade, October 18-21, 2012. Belgrade: 129-142.
- Clark, E. A. (1977) Clement’s Use of Aristotle. The Aristotelian Contribution to Clement of Alexandria’s Refutation of Gnosticism. New York-Toronto.
- Dichle, A. (1982) The Theory of Willing in Classical Antiquity. Berkeley.
- Farrell, J. P. (1987) Free Choice in St. Maximus the Confessor. Oxford.
- Harriet, F. B. (2008) “Human Communion and Difference in Gregory of Nyssa,” From Trinitarian Theology to the Philosophy of Human Person and Free Decision. Gregory of Nyssa: The Minor Treatises on Trinitarian Theology and Apollinarism: Proceedings of the 11th International Colloquium on Gregory of Nyssa (Tübingen, 17-20 September 2008). Tübingen: 337-350.
- Rist, J. M. (1985) Prohairesis: Proclus, Plotinus at alli, Platonism and its Christian Heritage. London: 103-117.
- Rist, J. M. (1969) Stoic Philosophy. Cambridge. Telepneff, G. (1991) The Concept of the Person in the Christian Hellenism of the Greek Church Fathers: a Study of Origen, St. Gregory the Theologian and St. Maximus the Confessor. Berkeley, Calif.