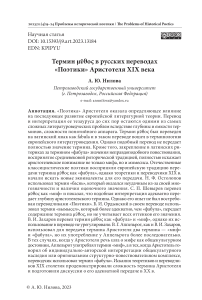Термин в русских переводах «Поэтики» Аристотеля XIX века
Автор: Нилова А.Ю.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.21, 2023 года.
Бесплатный доступ
«Поэтика» Аристотеля оказала определяющее влияние на последующее развитие европейской литературной теории. Перевод и интерпретация ее тезауруса до сих пор остаются одними из самых сложных литературоведческих проблем вследствие глубины и емкости терминов, сложности понятийного аппарата. Термин μῦθοϛ был переведен на латинский язык как fabula и в таком переводе вошел в терминологию европейского литературоведения. Однако подобный перевод не передает полностью значение термина. Кроме того, закрепление в латинских риториках за термином «фабула» значения неправдоподобного повествования, воспринятое средневековой риторической традицией, полностью искажает аристотелевское понимание не только мифа, но и мимесиса. Отечественные классицистические поэтики восприняли европейскую традицию передачи термина μῦθοϛ как «фабула», однако теоретики и переводчики XIX в. начали искать новые эквиваленты для его передачи. Н. Ф. Остолопов использовал термин «баснь», который оказался неудачным из-за своей многозначности и наличия оценочного значения. С. П. Шевырев перевел μῦθοϛ как «миф» и показал, что подобная интерпретация адекватно передает глубину аристотелевского термина. Однако его опыт не был востребован переводчиками «Поэтики». Б. И. Ордынский в своем переводе использовал термин «вымысел», который более адекватно, чем «фабула», передает содержание термина μῦθοϛ, но не учитывает всех оттенков его значения. В. И. Захаров перевел термин μῦθοϛ как «фабула» и «миф», однако их использование в переводе не урегулировано. В. Г. Аппельрот, как и В. И. Захаров, использовал для передачи термина Аристотеля два термина - «миф» и «фабула», но их употребление у Аппельрота более последовательно. В тех случаях, когда у Аристотеля речь шла о мифе как общекультурном достоянии, Аппельрот употреблял термин «миф», а в тех, когда Аристотель говорил об индивидуально-авторской интерпретации общекультурного наследия или оригинальном структурно-повествовательном комплексе, переводчик использовал термин «фабула». Искания теоретиков и переводчиков XIX столетия продемонстрировали сложность термина Аристотеля и подготовили дискуссии о его адекватной передаче в XX в.
Аристотель, поэтика, терминология, литературоведение, миф, фабула, сюжет, вымысел, правдоподобие, подражание, перевод
Короткий адрес: https://sciup.org/147242028
IDR: 147242028 | DOI: 10.15393/j9.art.2023.13184
Текст научной статьи Термин в русских переводах «Поэтики» Аристотеля XIX века
Acknowledgements. The reported study was funded by Russian Science Foundation (RSF), project number 22-18-00423, https://rscf.ru/project/22-18-00423/ . For citation: Nilova A. Yu. The Term Mῦθοϛ in 19th Century Russian Translations of Aristotle’s “Poetics”. In: Problemy istoricheskoy poetiki [ The Problems of Historical Poetics ], 2023, vol. 21, no. 4, pp. 9–24. DOI: 10.15393/j9.art.2023.13184. EDN: KPIPYU (In Russ.)
В лияние «Поэтики» Аристотеля на последующую мировую культуру сложно переоценить — это «один из самых значимых для новоевропейской культуры античных текстов» [Позднев: 47]. «Поэтика» определила круг тем и сформировала тезаурус европейской теории литературы [Захаров: 6]. Однако это еще и чрезвычайно трудный текст для перевода и интерпретации. И дело здесь не только в конспективном характере сочинения и его сложной судьбе после смерти автора1, но и в чрезвычайной глубине аристотелевских понятий, диалектическом, становящемся характере самого трактата, отражающем динамический, становящийся характер искусства [Лосев: 396, 401]. Одним из самых сложных и одновременно наименее изученных терминов «Поэтики» является термин μῦθοϛ . В энциклопедическом путеводителе «Европейская поэтика от античности до эпохи Просвещения», подводящем итоги развития отечественной и европейской поэтологии, отсутствует раздел, специально посвященный этому термину, однако сам μῦθοϛ в различных вариантах перевода упоминается в тезаурусе издания [Европейская поэтика: 504].
Миф — это сложнейшее понятие не только «Поэтики», но и культуры в целом. Как отмечает Е. В. Алымова, «загадка мифа еще не разгадана и, наверное, не будет разгадана никогда, потому что миф как раз тем и интересен, что представляет собой неразрешимую загадку» [Алымова: 89]. Сложность понимания феномена мифа определяется еще и исторической обусловленностью: наше восприятие мифа отличается от того, каким оно было в античности или в Средние века. А. Ф. Лосев указал, что Аристотель понимает мифологию не в религиозном, а в эстетическом смысле [Лосев: 391–392], и отметил особое восприятие греческим философом мифа как «сочетания событий»: «Аристотель совершенно не заинтересован в анализе мифа как именно мифа, а понимает под мифом то, что редко кто-нибудь понимал до него, а именно просто фабулу, независимо от ее мифического содержания» [Лосев: 441]. Под мифом, по мнению Лосева, Аристотель подразумевает «виртуозную структурность художественного произведения», «связь событий» [Лосев: 370]. Таким образом, в «Поэтике» миф превратился из жанра в категорию поэтики [Захаров: 59].
В латинских переводах «Поэтики» μῦθοϛ был передан как фабула, и именно этот перевод аристотелевского термина вошел в европейское литературоведение2. Латинско-русский словарь И. Х. Дворецкого дает следующие переводы слова fabula : «1) молва, толки, пересуды, сплетни <…>, неизвестно кем пущенный слух»; «2) пустой звук, ничто, небытие»; «3) беседа, собеседование, разговор»; «4) рассказ, сказание, предание, <…> сказка, басня, вымысел»; «5) фабула, сюжет»; «6) драматическое произведение, пьеса»3.
В терминологическом значении слово fabula впервые употребляется, вероятно, в «Риторике для Геренния». Автор трактата выделяет три вида повествования: fabula, historia и argu-mentum. Fabula он определяет как нечто совершенно невероятное; historia — как события, произошедшие в прошлом, но удаленные из памяти нынешнего поколения (т. е. истинные), а argumentum — как события вымышленные, но вероятные:
“Id quod in negotiorum expositione positum est tres habet partes: fabulam, historiam, argumentum. Fabula est quae neque veras neque veri similes c ontinet res, ut eae sunt quae tragoediis traditae sunt.
Historia est gesta res, sed ab aetatis nostrae memoria remota. Argumentum est ficta res quaetamen fieri potuit, velut argumenta comoediarum”4 (То, что изложено в описании дела, состоит из трех частей: фабула, история и аргумент. Фабула — это то, что не содержит ни истинное, ни вероятное, как то, что передано в трагедиях. История — это совершившееся событие, но удаленное из памяти нашего времени. Аргумент — это вымышленное событие, которое может случиться и составляет предмет комедии5).
Показательно, что автор трактата о риторике связывает фабулу и трагедию.
Цицерон в трактате «О нахождении риторики» (“De in-ventione”) дословно повторяет процитированный фрагмент из «Риторики для Геренния», добавляя только примеры:
“Ea, quae in negotiorum expositione posita est, tres habet partes: fabulam, historiam, argumentum. Fabula est, in qua nec verae nec veri similes res continentur, cuiusmodi est: "Angues ingentes alites, iugo iuncti". Historia est res gesta, ab nostrae aetatis memoria remota; quod genus: "Est Appius indixit Carthaginiensibus bellum". Argumen-tum est ficta res, quae tamen fieri potuit. Huiusmodi apud Terentium: "Nam is postquam excessit ex ephebis Sosia"”6 (То, что изложено в описании дела, состоит из трех частей: фабула, история и аргумент. Фабула — это то, что не содержит ни истинное, ни вероятное, например: «Змеи с огромными крыльями, связанные вместе». История — это совершившееся событие, но удаленное из памяти нашего времени, в таком роде: «Аппий объявил войну карфагенянам». Аргумент — это вымышленное событие, которое может случиться. Так обстоит дело с Теренцием: «Ибо после того, как Сосия оставил войска»).
Эта триада (historia — plasma — muthos в греческих терминах, или historia — argumentum — fabula в латинских) развивала платоновское противопоставление истины и лжи (см.: [Европейская поэтика: 13], [Гаспаров: 582]). Окончательно сформированная в латинской риторике, она, как показал Н. П. Гринцер, впервые возникла еще у греческого грамматика II в. до н. э. Асклепиада из Мирлеи, на которого в трактате «Против ученых» ссылался Секст Эмпирик [Гринцер: 85]. Фабуле (или мифу) в этой триаде отводилась функция «не истинного и не вероятного». Однако такая интерпретация фабулы не отражает понимания мифа у Аристотеля. В «Поэтике» понятия правды, правдоподобия относятся к категории мимесиса (см.: [Лосев: 402–442], [Гаспаров: 582], [Гринцер: 78], [Махов: 12]), а не мифа, который определяет не только содержание, но и структуру поэтического произведения.
Еще до появления первого русского перевода «Поэтики» русские авторы и читатели были знакомы с трактатом греческого философа по работам его европейских интерпретаторов7. Так, Феофан Прокопович в своем сочинении “De arte poetica” неоднократно ссылается на Аристотеля и иногда очень близко к тексту пересказывает «Поэтику». В труде Прокоповича термин fabula используется в нескольких значениях: нечто неправдоподобное, поэтическое произведение, предание или сказание, содержание поэтического произведения и басня как жанр поэзии. Такая многозначность термина отражает его понимание европейской традицией XVIII в.
Влияние «Поэтики» хорошо заметно в «Словаре древней и новой поэзии» Н. Ф. Остолопова (подробнее см.: [Нилова: 12–19]). При описании трагедии автор словаря использовал термин «баснь» («Баснь Трагедіи должна быть расположена такимъ образомъ, чтобы все, могущее доставить непріятность и отвра-щеніе вкусу и зрѣнію, происходило не предъ нами, а внѣ мѣста представленія, и было только пересказано»)8. Он не остановился подробно на объяснении этого элемента трагедии, поэтому мы не можем определить, какое конкретно содержание он вкладывал в этот термин. Кроме того, Остолопов различал баснь как часть трагедии и басню как поэтический жанр. Событийное содержание трагедии как одно из значений слова басня зафиксировано и в словаре Даля:
«Баснь или бáсня <…> вымышленное происшествіе, выдумка, разсказъ для прикрасы, ради краснаго (баскаго) словца; иносказательное, поучительное повѣствованіе, побаска, побасенка, притча, гдѣ принято выводить животныхъ и даже вещи словесными; ложь, празднословіе, пустословіе, вздорные слухи, вѣс-ти. <…> Баснь драмы, поэмы, содержаніе, завязка и развязка»9.
Даль также отметил в качестве основного значения слова басня неправдоподобие, как это было в случае с функционированием слова фабула в латинских риториках, и его сниженную оценочную характеристику. Таким образом, Остолопов перевел с латинского языка слово фабула , вошедшее в обиход европейской теории литературы, однако столкнулся с проблемой многозначности термина и эмоциональной маркированности общеупотребительной лексемы. Решить эту проблему он пытался при помощи вариативности написания слова, но, как кажется, такое решение не было успешным. Во всяком случае опыт Остолопова не нашел продолжения в русской литературной теории.
С. П. Шевырев в сочинении «Теория поэзии в историческом ее развитии у древних и новых народов» сопроводил описание теории Аристотеля переводом крупных фрагментов его «Поэтики». Термин μῦθοϛ он однозначно и последовательно переводил как миф :
«На комедіи это можно ясно видѣть: комики, сочинивши миѳы по вѣроятію, даютъ лицамъ случайныя имена и поступаютъ не такъ, какъ ямбическіе поэты, которые держатся частностей»10.
Еще один пример:
«И такъ вообще никакъ нельзя положить, чтобы слѣдовало предпочитать всегда историческіе миѳы»11.
Приведенные фрагменты показывают, что Шевырева нисколько не смущало понимание Аристотелем мифа не в «мифическом» (А. Ф. Лосев) ключе, а как событийно-структурной части произведения. Кроме того, Шевырев обратил внимание на то, что миф является частью комедии (латинские риторики связывали комедию и argumentum), и указал на вероятностный, а не на невозможный характер содержания мифа. Комментируя приведенный фрагмент Аристотеля, Шевырев особо подчеркнул специфическое значение, которое античный философ вкладывал в термин миф:
«Изъ этого отрывка мы видимъ, вопервыхъ , что Аристотель не полагалъ поэзіи въ простомъ механическомъ копированіи событій жизни, а, напротивъ, въ свободномъ изображеніи со-бытій вымышленныхъ, подъ условіемъ возможности и необходимости, которыми условливается истина искусства; вовторыхъ , что Аристотель ясно различаетъ миѳъ, событіе поэтическое, возможное (τά δυνατά) отъ факта, событія историческаго, слу-чившагося (τά γενόμενα), различаетъ ихъ, какъ общее отъ част-наго, посредствомъ связи, которая заключается въ идеѣ и да-етъ единство поэтическому произведенію, чего исторія не имѣетъ. На этомъ единствѣ миѳа, какъ мы увидимъ, Аристотель осно-вываетъ совершенство трагедіи»12.
Русский критик полностью разделял представление Аристотеля о принципиальном значении мифа для трагедии («Ἀρχὴ μὲν οὖν καὶ οἷον ψυχὴ ὁ μῦθος τῆς τραγῳδίας»13 — прежде всего миф — основа и как бы душа трагедии) и подражании возможному или необходимому.
В 1854 г. был опубликован первый перевод «Поэтики» на русский язык, выполненный Б. И. Ордынским. Перевод был магистерской диссертацией Ордынского, поэтому стал не просто первым, но еще и первым научным переводом трактата афинского философа на русский язык. Ордынский считал, что основным предметом «Поэтики» является описание трагедии, поэтому собственно переводом являются только первые 18 глав трактата, остальные восемь он подробно пересказал. Перевод и пересказ «Поэтики» сопровождался обширным «Предисловием», «Примечаниями» и подробным «Изложением», в котором переводчик описал текстологические проблемы трактата, прокомментировал европейскую традицию изучения «Поэтики» и основные термины Аристотеля, отметив сложность их перевода на новые языки. При описании важнейших терминов «Поэтики» Ордынский бóльшее внимание уделил терминам μίμησις, πάθος. Термин μῦθοϛ удостоился значительно меньшего внимания. Тем не менее Ордынский перечислил устоявшиеся в русской и европейской литературной традиции варианты перевода термина μῦθοϛ (басня, фабула, сюжет), но использовал свой эквивалент — вымысел. Ордынский никак не комментировал свой выбор, заметив лишь, что «вымысломъ, μῦθοϛ, называетъ Аристотель то, что мы называемъ 1) содержа-ніемъ и 2) сюжетомъ. Послѣднее слово едва ли замѣнимо рус-скимъ словомъ; не менѣе насъ затруднялся въ этомъ отношеніи и Аристотель. Онъ по всей вѣроятности первый усвоилъ слову μῦθοϛ то значеніе, которое имѣетъ оно въ разбираемомъ нами сочиненіи и которое я рѣшился придать нашему слову: вы-мыселъ; оно, мнѣ кажется, точнѣе и опредѣленнѣе басни, фабулы»14. Стремясь объяснить значение слова μῦθοϛ в греческом языке аристотелевской и ближайшей к нему эпохи, Ордынский приводил в пример использование этого слова в греческих трагедиях, где оно употребляется «въ значеніи содержанія»15. Такой выбор эквивалента для передачи аристотелевского термина позволил переводчику избежать необходимости объяснения своего понимания терминов сюжет и фабула, сложность соотношения которых стала предметом множества литературоведческих работ второй половины XX в. [Захаров: 56–62]. От использования термина басня он отказался, вероятно, в силу его многозначности и дополнительного оценочного значения.
Однако выбранный Ордынским эквивалент не учитывает всех оттенков значения термина Аристотеля. В четырнадцатой главе «Поэтики» читаем:
«Τοὺς μὲν οὖν παρειλημμένους μύθους λύειν οὐκ ἔστιν, λέγω δὲ οἷον τὴν Κλυταιμήστραν ἀποѳανοῦσαν ὑπὸ τοῦ Ὀρέστου καὶ τὴν Ἐριφύλην ὑπὸ τοῦ Ἀλκμέωνος, αὐτὸν δὲ εὑρίσκειν δεῖ καὶ τοῖς παραδεδομένοις χρῆσθαι καλῶς» (Aristotle: 186–187) («Переданные по преданію миѳы нельзя разрушать, — я разумѣю, напр., <…> что Клитемнестра была убита Орестомъ и Эрифила — Алкмеономъ, — но поэту должно самому быть изобрѣтателемъ и пользоваться преданіемъ какъ слѣдуетъ» — пер. В. Аппельрота16).
Ордынский перевел этот фрагмент следующим образом: «Пре-даній передѣлывать не слѣдуетъ… Нужно и самому изобрѣтать, и преданіями пользоваться»17 — и не использовал термин вымысел . Он заметил, что μῦθοϛ Аристотеля включает в себя и общекультурный структурно-событийный повествовательный комплекс, и его авторскую реализацию в конкретном поэтическом произведении, не исключающую и полностью оригинальный вымысел, однако не мог согласовать этот сложный комплекс значений аристотелевского термина с собственной его интерпретацией.
Перевод термина μῦθοϛ как вымысел не закрепился в отечественной поэтологии и литературной теории и не породил традицию. Тем не менее он отразил литературоведческие искания середины XIX в., указал на возможные пути интерпретации терминологии «Поэтики» и, вероятно, повлиял на перевод М. Л. Гаспарова, который отошел от сформировавшейся к его времени традиции передачи термина μῦθοϛ как фабула (В. И. Захаров, В. Аппельрот, Н. И. Новосадский) и передавал его как сказание 18.
В 1885 г. в Варшаве был опубликован первый полный русский перевод «Поэтики», который выполнил В. И. Захаров. Однако этот перевод вызвал очень скептические отзывы. Аппельрот отметил, что «это скорѣе вольный пересказъ, часто не соотвѣтствующій греческому тексту»19. Захаров сопроводил перевод обширным предисловием и пространными комментариями. Переводчик не пояснял своего выбора эквивалентов для передачи терминов Аристотеля, а из всех его терминов более или менее подробно остановился только на трагическом катарсисе. И в тексте перевода, и во «Вступлении» и «Примечаниях» Захаров, в основном, передавал μῦθοϛ как фабула. Так, в самом начале первой главы читаем:
«Мы будемъ говорить о сущности поэзіи, ея видахъ и ихъ значеніи. Укажемъ, какъ составляется фабула вполнѣ художе-ственнаго творенія, на сколько и на какія части оно дѣлится, равно коснемся всего того, что имѣетъ какое-либо отношеніе къ нашему предмету, начавши, разумѣется, разсужденіе отъ основныхъ началъ поэзіи»20.
Этот фрагмент дает представление и о стиле перевода. В пятой главе находим:
«Полное развитiе фабулы въ пьесу приписываютъ Эпихарму и Формису»21.
В шестой главе:
«Само-же воспроизведенное событіе будетъ составлять фабулу»22.
Однако несколько раз В. И. Захаров при передаче термина Аристотеля μῦθοϛ использовал и термин миф :
«Прежде поэты спѣшили развитъ всякій попавшійся имъ миѳъ»23.
В переводе четырнадцатой главы:
«Поэтъ долженъ найти соотвѣтствующій задуманной своей идеѣ миѳъ, а унаслѣдованными необходимо пользоваться согласно съ преданіемъ»24.
Этот фрагмент в свое время создал сложности и для Ордынского, который термин μῦθοϛ вообще не стал переводить и опустил его. Но следует отметить, что ранее, в девятой главе, когда речь идет о мифе , переданном как предание , Захаров использовал термин фабула :
«…трагическому писателю не ставится въ необходимость рабски придерживаться фабулъ, издревле переданныхъ»25.
Можно предположить, что Захаров различал фабулу как состав событий конкретного поэтического произведения и миф как общекультурный феномен, то, что сохранено преданием. Однако такому пониманию в некоторой степени противоречит «Вступление».
Во «Вступлении» В. И. Захаров также использовал термин миф : «Изъ словъ Аристотеля нужно заключить, что фабула, миѳъ есть планъ трагедіи, т. е. совокупленіе всѣхъ мелкихъ обстоятельствъ, наилучшее соединеніе всѣхъ частныхъ дѣйствій въ одно дѣйствіе, распорядокъ мелкихъ обстоятельствъ, ихъ соподчиненность, полное распланированіе цѣлаго дѣйствія»26. Но далее он писал о фабуле : «Событiя, фабула, есть конечная цѣль трагедіи, а конечная цѣль во всемъ есть главная и существенная вещь. Поэтъ долженъ быть поэтому творцомъ ми-ѳовъ, а не метровъ, т. е. плановъ, а не стиховъ или рѣчей»27. Во «Вступлении» Захаров использовал слова миф и фабула как синонимичные. Можно предположить, что использование этих слов в качестве терминов в его работе не было урегулировано. Как уже было сказано, терминология «Поэтики» не стала предметом его специальной рефлексии, что, вероятно, и отразилось в непоследовательности ее использования. Несколько раз он вообще использовал термин сюжет . Напр.:
«Въ Аѳинахъ первый Кратесъ, оставивъ личныя нападки, (т. е. перестав писать трагедии. — А. Н .) сталъ развивать въ разговорной формѣ общіе сюжеты»28.
Перевод Захарова явился попыткой компенсировать малую доступность ставшего к 1880-м гг. библиографической редкостью перевода Ордынского, однако стиль труда Захарова, непоследовательность и необоснованность выбора эквивалентов для передачи терминов «Поэтики» вызвали бурную критику и сделали его ап окрифическим текстом отечественной поэтологии.
В 1893 г. был опубликован перевод «Поэтики», выполненный В. Г. Аппельротом. По замечанию самого переводчика, гимназического учителя, перевод рассчитан на студентов-филологов и гимназистов старших классов29, а потому сопровождается лишь кратким объяснением исторических фактов и реалий. Из аристотелевских терминов Аппельрот, как и В. И. Захаров, сколько-нибудь подробно остановился только на очищении . Никаких объяснений по поводу выбора того или иного эквивалента для передачи терминов Аристотеля Аппельрот тоже не дал. Термин μῦθοϛ Аппельрот передавал, в основном, как фабула . Например, уже цитированную фразу Аристотеля из шестой главы «ἔστιν δὲ τῆς μὲν πράξεως ὁ μῦθος ἡ μίμησις, λέγω γὰρ μῦθον τοῦτον τὴν σύνθεσιν τῶν πραγμάτων» ( Aristotle : 174) Аппельрот перевел как «подражаніе дѣйствію есть фабула; подъ фабулой я разумѣю сочетаніе фактовъ» ( Аристо тель : 13). В этой же главе далее читаем:
«Итакъ, фабула есть основа и какъ бы душа трагедіи…» ( Аристотель : 15) ( «Архл ЦEv otv Kal olov yuxH ° цибо^ Tq^ тpaYw6^a^^» ( Aristotle: 175) ) .
В девятой главе фразу Аристотеля «Δῆλον οὖν ἐκ τούτων ὅτι τὸν ποιητὴν μᾶλλον τῶν μύθων εἶναι δεῖ ποιητὴν ἢ τῶν μέτρων» ( Aristotle : 180) Аппельрот перевел как «отсюда ясно, что поэту слѣдуетъ быть больше творцомъ фабулъ, чѣмъ метровъ» ( Аристотель : 21).
Однако Аппельрот понимал неполное соответствие термина фабула аристотелеву термину μῦθοϛ и несколько раз перевел μῦθοϛ как миф . Так, в пятой главе читаем:
«Обрабатывать миѳы стали Эпихармъ и Формисъ» ( Аристотель :
-
11) ( «То 6e цобои^ noielv’Eп^xapцo^ Kal Форц^» ( Aristotle : 172) ) .
Захаров, как мы помним, здесь использовал термин фабула .
Далее:
«Изъ афинскихъ комиковъ первый Кратесъ, оставивъ ямбическія стихотворенія, началъ общую разработку діалога и миѳовъ» ( Аристотель : 11) ( «twv 6e A6qvnoiv Крат^ пршто^ ^p^sv aф£ц£vo^ Tq^ 1ацв1кл^ ifi£a^ кабоХои noislv Xoyou^ Kal цобои^» ( Aristotle : 172) ) .
Захаров здесь использовал термин сюжет .
Фрагмент из девятой главы «Ὥστ᾽ οὐ πάντως εἶναι ζητητέον τῶν παραδεδομένων μύθων, περὶ οὓς αἱ τραγῳδίαι εἰσίν, ἀντέχεσθαι» ( Aristotle : 180) Аппельрот перевел следующим образом:
«Слѣдовательно, не надо непремѣнно стремиться къ тому, чтобы держаться переданныхъ преданіемъ миѳовъ, въ кругу которыхъ заключаются трагедіи» ( Аристотель : 21) (у В. И. Захарова — фабула ).
Фрагмент из тринадцатой главы «πρῶτον μὲν γὰρ οἱ ποιηταὶ τοὺς τυχόντας μύθους ἀπηρίθμουν» ( Aristotle : 184–185) Аппельрот передал так:
«Прежде поэты отдѣлывали одинъ за другимъ первые попав-шіеся миѳы» ( Аристотель : 27) (у Захарова тоже миф ).
Также термин миф В. И. Захаров использовал и при переводе уже цитировавшегося отрывка «переданные по преданію миѳы нельзя разрушать» ( Аристотель : 29). Этот отрывок в свое время создал сложности и для Ордынского, который μῦθοϛ вообще не стал переводить и опустил его, Захаров тоже здесь использовал термин миф .
Таким образом, Аппельрот вслед за Аристотелем различал 1) μῦθοϛ как состав событий конкретного поэтического произведения, и в этом случае он использовал для перевода термин фабула , и 2) μῦθοϛ как вообще набор и последовательность событий, общекультурный феномен, и в этом случае для перевода он использовал термин миф . В отличие от Захарова, такая терминологическая дифференциация у Аппельрота прослеживается регулярно.
Передача термина Аристотеля μῦθοϛ в русских переводах «Поэтики» Аристотеля XIX в. демонстрирует усвоение традиции передачи этого термина, сформированной латинскими переводами «Поэтики», но одновременно указывает на неполное соответствие термина фабула аристотелевскому термину μῦθοϛ , т. е. показывает то проблемное поле, на котором будут вестись дискуссии о фабуле в теоретических работах XX в.
Список литературы Термин в русских переводах «Поэтики» Аристотеля XIX века
- Алымова Е. В. Миф как сюжетный строй греческой трагедии: Аристотель "Поэтика" // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2023. Т. 24. № 1. С. 88-96. DOI: 10.25991/VRHGA.2023.1.1.005 EDN: HPBFGU
- Гаспаров М. Л. Поэзия и проза - поэтика и риторика // Гаспаров М. Л. Собр. соч.: в 6 т. М.: Новое литературное обозрение, 2021. Т. 2. С. 555-587.
- Гринцер Н. П. Античная поэтика // Европейская поэтика от античности до эпохи Просвещения: энциклопедический путеводитель. М.: Изд-во Кулагиной - Интрада, 2012. С. 73-87.
- Европейская поэтика от античности до эпохи Просвещения: энциклопедический путеводитель. М.: Изд-во Кулагиной - Интрада, 2012. 512 с.
- Захаров В. Н. Проблемы исторической поэтики. Этнологические аспекты. М.: Индрик, 2012. 264 с.
- Лосев А. Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. М.: Искусство, 1975. 775 с.
- Махов А. Е. Категория правдоподобия в литературной теории французского классицизма // Studia Litterarum. 2020. Т. 5. № 2. С. 10-33 [Электронный ресурс]. URL: https://studlit.ru/index.php/ru/arkhiv/60-2020-tom-5-2/721-kategoriya-pravdopodobiya-v-literaturnoj-teorii-frantsuzskogo-klassitsizma (10.08.2023). DOI: 10.22455/2500-4247-2020-5-2-10-33 EDN: SKZQDE
- Миллер Т. А. Основные этапы изучения "Поэтики" Аристотеля // Аристотель и античная литература / отв. ред. М. Л. Гаспаров. М.: Наука, 1978. С. 5-24.
- Нилова А. Ю. "Поэтика" Аристотеля в русских переводах // Проблемы исторической поэтики. 2021. Т. 19. № 4. С. 7-39 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1638352895.pdf (10.08.2023). DOI: 10.15393/j9.art.2021.9822 EDN: EORRNF
- Позднев М. М. Чем полезен Аристотель современной литературной теории? // Аристотель. Поэтика. М.: Рипол классик, 2017. С. 47-64.