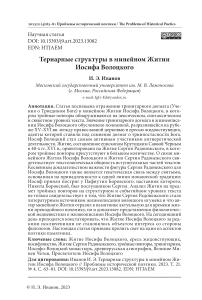Тернарные структуры в минейном житии Иосифа Волоцкого
Автор: Иванов И.Э.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.21, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена отражению тринитарного догмата (Учения о Триедином Боге) в минейном Житии Иосифа Волоцкого, в котором тройные повторы обнаруживаются на лексическом, синтаксическом и сюжетном уровнях текста. Значение тринитарного догмата в жизнеописании Иосифа Волоцкого обусловлено полемикой, разразившейся на рубеже XV-XVI вв. между православной церковью и ересью жидовствующих, адепты которой ставили под сомнение догмат о триипостасности Бога. Иосиф Волоцкий стал самым активным участником антиеретической деятельности. Житие, составленное епископом Крутицким Саввой Черным в 40-х гг. XVI в., ориентировано на Житие Сергия Радонежского, в котором тройные повторы присутствуют в большом количестве. О связи минейного Жития Иосифа Волоцкого и Жития Сергия Радонежского свидетельствует текстологическая общность вступительных частей текстов. Косвенным доказательством важности фигуры Сергия Радонежского для Иосифа Волоцкого также является генетическая связь между святыми, основанная на принадлежности к одной линии монашеской традиции: Иосиф принял постриг у Пафнутия Боровского, наставник которого, Никита Боровский, был послушником Сергия. Анализ Жития на предмет тройных повторов на структурном и событийном уровнях текста не только свидетельствует о том, что Житие Сергия Радонежского стало литературным источником жизнеописания волоцкого игумена и что автор минейного Жития отразил в памятнике актуальную для времени жизни преподобного полемику, но и дополняет представления филологической медиевистики о жизнеописании Иосифа Волоцкого. На сегодняшний день приходится констатировать, что Житие Иосифа Волоцкого за редкими исключениями не становилось объектом интереса со стороны филологов. Настоящая статья призвана пролить свет на один из аспектов поэтики памятника.
Житие иосифа волоцкого, ересь жидовствующих, иосифлянство, житие сергия радонежского, тройные повторы, тринитаризм, иосифо-волоцкий монастырь, древнерусская агиография, великие минеи четьи, просветитель иосифа волоцкого
Короткий адрес: https://sciup.org/147242344
IDR: 147242344 | DOI: 10.15393/j9.art.2023.13082
Текст научной статьи Тернарные структуры в минейном житии Иосифа Волоцкого
Б орьба с ересью жидовствующих стала ключевым направлением церковной и общественной деятельности преподобного Иосифа Волоцкого (1439–1515). Антиеретическую деятельность волоколамский игумен развернул в 1490-х гг., когда новгородский архиепископ Геннадий (Гонзов) обратился к преподобному с призывом посодействовать в борьбе за ортодоксальную веру. Церковный собор, состоявшийся в 1490 г., принял меры только в отношении новгородского кружка жи-довствующих, тогда как учение Схарии уже успело распространиться в Москве и, более того, найти себе сторонников при великокняжеском дворе1. Активность адептов ереси требовала консолидации всех сил Русской православной церкви. Минейное Житие Иосифа Волоцкого красноречиво повествует об этой угрозе: «…бяше бо всѣяся злаа и сквернаа ересь во многiа и неразумныя человѣкы, въ архимандриты и въ протопопы и въ дiякы царскiа полаты»2.
В своем стремлении противодействовать распространению еретического учения Иосиф Волоцкий начал «ово наказанiемъ, ово же писанiемъ спомогати архiепископу» Геннадию ( ВМЧ : 473). В рамках борьбы с еретиками преподобный составил свою «Книгу на новгородских еретиков», или «Просветитель», которая стала первым богословским трактатом на Руси, а также первой «суммой», посвященной тринитарной онтологии. Как отмечает М. В. Шпаковский, «до Иосифа ни в одном из древнерусских оригинальных текстов мы не встречаем столь глубокого и целенаправленного погружения в триадологическую проблематику» [Шпаковский: 53].
Труд преподобного состоит из Вступления и 16 слов, в которых Иосиф Волоцкий с опорой на святоотеческое предание последователь но опровергает тезисы учения жидовствующих.
Слово первое «Просветителя»3 преподобный посвящает защите тринитарной онтологии, оспариваемой еретиками. Вероятно, восходящие к Ветхому Завету идеи новгородской ереси отрицали основополагающий для ортодоксальной церкви догмат о триипостасности Бога, на что указывал, например, Пол Бушкович [Bushkovitch: 32–50].
Стоит отметить, что единственными источниками, позволяющими пролить свет на учение еретиков, являются сочинения самого Иосифа Волоцкого: послания преподобного и «Просветитель», а также послания других иерархов, выступивших против «мудрствующих». В целом же о жидовствующих известно мало, а попытки установления генетических связей этого учения с другими аналогичными явлениями Средневековья противоречат друг другу и зачастую являются голословными. Как справедливо отмечает А. И. Алексеев, «на сегодняшний день приходится констатировать, что источниковедческая разработка проблемы отстает от уровня обобщений, на котором ведутся споры» [Алексеев, 2012: 212].
Минейное Житие Иосифа Волоцкого, в котором, по словам А. И. Плигузова, отразилось «официальное изложение истории иосифлянства» [Плигузов: 29], отражает тринитарную установку на синтаксическом, лексическом и семантическом уровнях, ориентируясь при этом, по-видимому, на Житие Сергия Радонежского.
На тройные повторы в Житии Сергия Радонежского, отражающие догмат о Троице, обратил внимание В. В. Колесов [Колесов], который вычленил в тексте Жития минимальные синтагмы — триады, «однозначные, по-видимому, три слова, которые могут относиться к любой части речи (имени существительному или прилагательному, глаголу или наречию), но слова каждой триады обязательно относились к одной и той же части речи» [Колесов: 191]. В качестве примеров триады В. В. Колесов приводит следующие фрагменты Жития: «Ни плакаше, ни стъняше, ни дряхловаше. Но и лица, и сердце, и очи весели…»; «Егда же прииде кончина лѣтъ житиа его, и время ошествия его наста, и приспѣ година преставления его» [Колесов: 191]. Языковому воплощению тринитарного догмата в тексте Жития Сергия Радонежского не стоит удивляться: догмат о триипостасности пронизывает текст памятника и на сюжетном уровне, что связано с мировоззрением самого преподобного, а также основанным им монастырем в честь Святой Троицы.
О значимости числа 3 в Житии Сергия писал В. М. Кириллин, анализируя в том числе и лексико-синтаксические и стилистические триадные конструкции в тексте памятника [Кириллин, 2000: 180–196].
Тройные повторы на событийном уровне текста Жития Сергия Радонежского были проанализированы А. М. Ранчиным [Ранчин, 2007]. Так, например, «тройное возглашение ребенка из материнского чрева выступает в Житии в роли парадигмы и первообраза для последующих событий жизни Сергия», — отмечает исследователь [Ранчин, 2007: 216]. Другие событийные триады в Житии Сергия Радонежского связаны с крещением, дарованием «книжного разумения» и пострижением — тремя главными событиями в жизни подвижника, а также с трижды совершаемыми исцелением и воскрешением; тремя чудесными видениями: видением ангела, посещением Сергия Богородицей и явлением огня; в триады собраны и образы монахов в тексте Жития. Агиобиография Сергия, по словам А. М. Ран-чина, перенасыщена тройными повторами, причем в триады выстраиваются реальные события жизни преподобного, «о тайне Сергия и о тайне Святой Троицы говорит не агиограф, но как бы сам текст и сама жизнь» [Ранчин, 2007: 219].
Савве Черному, автору минейного Жития Иосифа Волоцкого, было известно Житие Сергия. Об этом свидетельствует предисловие Жития волоколамского игумена, в котором епископ Крутицкий дословно заимствует начальные строки из Жития Сергия Радонежского: «Слава Богу о всемъ и всячьскыхъ ради! О нихъ выну прославляется великое и трисвятое имя, еже и присно прославляемо есть» (ВМЧ: 453) и «Слава Богу о всемь и всячьскых ради, о нихже всегда прославляется великое и трисвятое имя, еже и присно прославляемо есть!»4. Заимствует Савва Черный библейский тематический ключ [Пиккио: 431–473] из Жития Сергия: «…вѣсть бо Господь славити славящая его и благословити благословящая его» (ВМЧ: 453), ср.: «Вѣсть бо Господь славити славящая его и благословя-ти благословящая его…» (БЛДР: 254) (ср.: Быт. 12:3; 1 Цар. 2:30), при этом нанизывая новую цитату из Писания: «Языкъ святъ царское священiе!» (ВМЧ: 453) (ср.: 1 Пет. 2:9). По-видимому, таким прибавлением книжник акцентирует внимание на значении фигуры Иосифа Волоцкого в деле борьбы с ересью — под «царством священным» традиционно понимается христианский народ, семантическое значение библейского ключа в данном контексте указывает на противопоставление православных христиан вероотступникам.
Кроме дословной цитаты, с которой Савва Черный начинает свое сочинение, в минейном Житии Иосифа Волоцкого обнаруживаются другие текстуальные совпадения с Житием Сергия Радонежского. Стоит отметить, что приведенные ниже совпадения — это либо топосы, либо библейские цитаты, которые могут вполне естественно встречаться в житийных текстах, однако в данном случае играет роль количество приведенных библейских цитат в текстах обоих житий. Предсказание ребенку о подвижническом будущем, известный топос в древнерусской агиографии, выглядит в двух памятниках так: «…что отрочя се будетъ? яко благодать Божiа бѣ на немъ» ( ВМЧ : 455), ср.: «Что убо будет отроча се? И яже о немь воля Господня да будет» ( БЛДР : 264). Кроме двух уже приведенных тематических ключей, заимствованных Саввой Черным из Жития Сергия, в жизнеописании волоцкого игумена обнаруживаются и другие библейские парафразы из Жития Сергия: в обоих житиях цитируются 10-й стих 29-го Псалма: «Кая польза въ крови моей, внегда сходити ми во истлѣнiе…» (Пс. 29:10; ср.: ВМЧ : 456; БЛДР : 286), 9-й стих 4-й главы Книги Премудрости Соломона: «…сѣдина же есть мудрость человекомъ, и возрастъ старости житiе непорочно» (Прем. 4:9; ср.: ВМЧ : 458; БЛДР : 408),
9-й стих 2-й главы Первого послания апостола Павла к Коринфянам: «…их же око не видѣ, и ухо не слыша, и на сердце человѣку не взыдоша, яже уготова Богъ любящымъ Его» (1 Кор. 2:9; ср.: ВМЧ : 461; БЛДР : 338), цитируются в житиях слова апостола Павла, ставшие важным постулатом общежительного монашества: «…яко ничтоже имуще, а вся содержаще» (2 Кор. 6:10; ср.: ВМЧ : 462; БЛДР : 322), цитируется в памятниках и 6-й стих 4-й главы Послания Апостола Павла к Колоссянам: «Слово ваше (да бывает) всегда во благодати, солiю растворено, вѣдѣти како подобаетъ вам единому комуждо отвѣщавати» (Кол. 4:6; ср.: ВМЧ : 493; БЛДР : 400). Стоит отметить, что контексты, в которых приводятся перечисленные библейские цитаты и реминисценции, в двух житиях разные, однако само их количество может служить одним из аргументов в пользу того, что Савва Черный ориентировался на Житие Сергия Радонежского при составлении жизнеописания Иосифа Волоцкого.
О значимости фигуры Сергия Радонежского для волоколамского игумена и иосифлянской мысли свидетельствует Духовная грамота, или Монастырский устав Иосифа Волоцкого. В 10-м слове Устава, названном «Отвѣщанiе любозазорнымъ и сказанiе въ кратцѣ о святыхъ отцѣхъ, бывшихъ в монасты-рѣхъ, иже в Рустѣй земли сущихъ» ( ВМЧ : 546–563), игумен дает исторический очерк крупнейших русских монастырей: Киево-Печерской лавры, Свято-Троицкой Сергиевой лавры, Кирилло-Белозерского монастыря, Симонова монастыря и др. В. М. Кириллин называет 10-е Слово Духовной грамоты «первым в русской духовной литературе агиологическим сочинением, первым аналитическим обзором русской святости» [Кириллин, 2008: 51]. Говоря о Сергии Радонежском и основанном им монастыре, Иосиф Волоцкий пишет:
«…бяху бо милостиви, егда подобаше; напраснѣ, егда потреба бяше, и обличающе и понужающе къ благому съгрѣшающая; не послушающихъ же не оставляху своимъ волямъ послѣдовати, но всячьскы възбраняху и отъ церкви и отъ трапезы отлучяху…» ( ВМЧ : 550).
Пишет волоколамский игумен и о нестяжании Троицкой обители, упоминает нищелюбие самого преподобного Сергия Ра- донежского. Словами: «были милостивы, когда подобало, (и были) сильными/резкими, когда была необходимость» (ВМЧ: 550) — Иосиф Волоцкий будто подчеркивает ту модель поведения церковного иерарха, которой он сам следует в своем игуменском служении.
По всей видимости, игумен земли Русской был для Иосифа Волоцкого не просто авторитетом, но и образцом монастырского управителя. Не лишним здесь будет указать и на генеалогическую связь между двумя преподобными: еще Г. П. Федотов отметил, что преподобный Пафнутий Боровский, пострижеником и преемником на игуменском троне которого стал Иосиф Волоцкий, был учеником преподобного Никиты Боровского, постриженика и ученика Сергия Радонежского [Федотов: 140].
Савва Черный, который удостоился «своима рукама преподобное его тѣло и въ гробъ положити» ( ВМЧ : 454), вероятно, был приближен к волоколамскому игумену в последние годы его жизни и мог знать о значении фигуры Сергия Радонежского для Иосифа Волоцкого, поэтому он обратился к Житию основателя Троицкого монастыря.
Вышесказанное, наряду с явными текстуальными совпадениями вступительных частей двух житий, свидетельствует об ориентации Саввы Черного при написании агиобиографии волоколамского игумена на Житие Сергия Радонежского.
Ориентация во многом проявилась в тернарных структурах на лексическом, синтаксическом и событийном уровнях ми-нейного Жития Иосифа Волоцкого. О значении тринитарного догмата для волоколамского игумена и его современников было сказано выше, свое значение он сохранял на протяжении всего XVI в., прошедшего под знаком антитринитаристских споров. Однако стоит оговориться, что наличие в тексте троичного кода — отнюдь не исключительная черта минейно-го Жития Иосифа Волоцкого. Тернарные структуры, как уже было отмечено, обнаруживаются не только в Житии Сергия Радонежского, но и в других текстах древнерусской словесности. При этом в Житии Иосифа Волоцкого установка автора на литературное отражение тринитарного догмата продиктована идеологической полемикой времени жизни преподобного, поэтому троичность в Житии последовательна и закономерна. Примером аналогичной авторской интенции в отношении поэтики текста служит Сказание о Борисе и Глебе, лексические и синтаксические бинарные структуры в котором подробно проанализировал А. М. Ранчин [Ранчин, 2017].
Троичный код присутствует уже во вступлении к Житию, в котором Савва Черный, заимствуя слова из Жития Сергия, пишет о «великом и трисвятом имени», там же агиограф называет Иосифа Волоцкого поборником «по святѣй Троици» и отмечает, что приступил к составлению жизнеописания преподобного через 30 лет после его смерти (ВМЧ: 453). Важно заметить, что вряд ли число 30 играет здесь исключительно символическое значение. По всей видимости, Житие было составлено в 1545–1546 гг., то есть действительно через 30 лет после смерти Иосифа Волоцкого, который преставился в 1515 г. На это указывает несколько признаков: во-первых, агиограф пишет, что Житие составлено по благословению митрополита Макария, занявшего митрополичью кафедру в 1542 г., во-вторых, Савва признается, что приступил к работе, будучи «въ святителѣхъ», — в епископа Крутицкого Савва Черный был рукоположен в 1544 г., поэтому время написания Жития приходится на 40-е гг. XVI в. Однако этот факт не мешает нам предположить, что число 30, обладая этикетным значением во многих памятниках древнерусской словесности, вписывается в троичный код, обозначенный уже во вступлении к Житию. Стоит напомнить, что важное для христианской нумерологии число 30 [Кириллин, 2000: 18] кратно трем, поэтому оно вполне может быть вписано в троичный код памятника. Исследователь также отмечает этикетно-литературную функцию числа 3 в «Девгениевом деянии», где число «семантически подкрепляет общий смысл повествования, в котором речь идет о <…> борьбе христиан с нехристианами» [Кириллин, 2000: 87]. Подобно тому, как биографические реалии жизни святого могут выстраиваться в символические цепочки событий, указывающие на библейские параллели или содержащие в себе эксплицитно выраженные глубинные смыслы, так и время написания Жития может быть подчинено, как в данном случае, заявленному агиографом во вступлении троичному коду. Возможно, не стоит считать 1545–1546 гг. точной датой создания памятника и полностью доверять сведениям Саввы, полагая, что работа велась ровно через 30 лет после преставления Иосифа Волоцкого. Житие могло быть составлено и несколькими годами позже. В таком случае агиограф использовал число 30 во вступлении в целях семантического указателя. При этом, конечно, датировка минейного Жития Иосифа Во-лоцкого не сдвигается ранее 1544 г.5
Житие Иосифа Волоцкого содержит в себе большое количество лексических триад, они используются агиографом в определенных эпизодах повествования. Первая такая триада встречается уже во вступлении: «…дабы въ забвенiи не было въ преходящемъ и настоящемъ семъ маловрѣменнемъ житiи» ( ВМЧ : 454). Такой троичный повтор семантически взаимозаменяемых прилагательных нацелен на усиление идеи бренности и незначительности человеческой жизни. Савва использует триаду и при традиционной для агиографии авторской самохарактеристике: «…и въ глаголехъ неискусна, и свитiа слову не учена, и боже-ственнаго писанiя вконець не знающа…» ( ВМЧ : 454). Члены триады в данном случае не взаимозаменяемы, здесь важна именно такая последовательность, основанная на принципе градации: глагол — слово — Писание. Черты стиля плетения словес, который Савва Черный называет «свитием слова», продолжают использоваться древнерусскими книжниками в XVI в.
Триады-характеристики праведной жизни героев Жития встречаются довольно часто. Например, о жизни матери будущего преподобного говорится: «…и живяше въ вся-комъ благоговѣиньствѣ и въ въздръжанiи и въ молитвахъ…» (ВМЧ: 455), — а сам Иосиф Волоцкий (в миру — Иван Санин) до принятия пострига жил «въ всякой тишинѣ, въ безмолвiи и въ молитвахъ», «въ цѣломудрiи и чистотѣ и въ всякомъ ду-ховномъ бреженiи» (ВМЧ: 456). По замечанию В. В. Колесова, при сложении триад заключительный компонент может быть выделен формально: «либо союзом, либо уточнением, либо характерным словом, что является своеобразным кадансом в ритмической структуре текста» [Колесов: 192]. Приведенные примеры из минейного Жития Иосифа Волоцкого подтверждают наблюдения В. В. Колесова.
Синтаксические триады могут быть образованы и глагольными формами. Например, в эпизоде с приходом Ивана Санина в обитель Пафнутия Боровского триада оформлена формами аориста:
«И егда Иванъ прiиде къ преподобному игумену Пафнутiю, и паде на ногу его, и глагола…» ( ВМЧ : 458).
Приход в монастырь — один из важнейших моментов в жизни подвижника. Житие Иосифа Волоцкого не лишено психологизма и изображает просьбу Ивана к Пафнутию о постриге яркими эмоциональными красками. Тройной повтор форм аориста способствует наглядности и динамичности, делает читателя непосредственным зрителем описываемых событий. Как было сказано выше, триады в Житии концентрируются вокруг ключевых эпизодов, к которым относится и приход в Пафнутьево-Боровский монастырь. В небольшом фрагменте беседы находится еще одна триада: игумен хочет понять мотивы прихода юного Ивана в монастырь и пытается узнать, «егда отъ нужи какiа или отъ напасти и скорби» пришел Иван в его обитель. Триада аористных форм открывает эпизод беседы подвижников, триадой он и завершается:
«…и видя его благое произволенiе и усердiе въ совершеннѣ разумѣ, и постриже его, и облече въ святый иноческiй образъ, и нарече ему имя Iосифъ, в лѣто 6968…» ( ВМЧ : 458).
Троичной формулой обращаются к Пафнутию Боровскому насельники монастыря, когда преподобный, находясь при смерти, просит братию избрать нового игумена: «…ты нашъ пастырь и отець и учитель» ( ВМЧ : 459).
Большое количество триад включается агиографом в важный для иосифлянской мысли эпизод, связанный с попыткой Иосифа Волоцкого установить в Пафнутьево-Боровском монастыре порядки «еже бы обще быти и ничесоже свое имѣти». Согласно тексту Жития, Иосиф Волоцкий покинул Боровскую обитель из-за нежелания братии принять устав общежительного монастыря. Эпизод начинается с обращения Иосифа Волоцкого к братии после смерти Пафнутия Боровского. Слова преподобного: «…еже око не видѣ, и ухо не слыша, и на сердце человѣку не взыде» (ВМЧ: 461) — отсылают к Первому посланию апостола Павла к Коринфянам (ср.: 1 Кор. 2:9), а именно к библейской триаде. При этом цитатный характер фрагмента не отменяет наличия в нем тернарной структуры6. В стремлении Иосифа Волоцкого обустроить Боровский монастырь по строгим правилам общежительного монашества игумена поддержал старец Герасим Черный, пребывающий «въ постѣ и въ мо-литвахъ, паче же въ безмолвiи» (ВМЧ: 462).
Триады пронизывают весь текст минейного Жития Иосифа Волоцкого, однако к концу повествования их количество уменьшается, в посмертных чудесах — рассказах о насельниках монастыря князе Андрее Голенине, Андрее Квашнине, иноке Исихее, сыне боярском Великого Новгорода — триады практически отсутствуют.
Ориентация на тринитаризм в минейном Житии особенно ярко проявлена в тринитарной формуле: «Iосифъ воздаде о всемъ славу Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу…» ( ВМЧ : 472), которая выступает в роли своеобразных смысловых пуантов в тексте памятника и выполняет композиционную функцию — эта формула завершает важные эпизоды Жития ( ВМЧ : 472, 475, 482, 484, 492), отражающие основные направления деятельности игумена.
Первый эпизод связан со смертью и чудесным воскресением волоколамского князя Ивана Борисовича молитвой Иосифа Волоцкого. Второй раз тринитарная формула приводится агиографом после рассказа о ереси жидовствующих, в победе над которой «по святѣй Троици поборникъ» Иосиф Волоцкий сыграл одну из ключевых ролей. Формула используется Саввой Черным и после повествования о конфликте волоколамского игумена с новгородским архиепископом Серапионом — важного эпизода биографии обоих подвижников, остававшимся актуальным на протяжении всего XVI в. Славу Святой Троице Иосиф Волоцкий воздает после разразившегося голода в Волоколамском княжестве, когда преподобный повелел открыть монастырские житницы и каждый день кормить голодных,
«бяше бо ихъ седмъ сотъ, опричь малыхъ дѣтей», детей же «бяше бо ихъ до пятидесятъ» ( ВМЧ : 482). Этот эпизод воплощает те социальные функции монастыря как института, которые для Иосифа Волоцкого и иосифлянства были наиболее важны. Последний, пятый раз, тринитарная формула приводится агиографом в рассказе о преставлении преподобного:
«…игуменъ Iосифъ прекрестивъ лице свое, предасть духъ тре-ми дохновенми, проповѣда святую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, отъиде къ Господу…» ( ВМЧ : 492).
Мы видим, что тринитарной формулой отмечены главные периоды жизни волоколамского игумена. Эта формула подводит черту под каждым эпизодом и играет, таким образом, композиционную роль в тексте памятника.
Тройные повторы обнаруживаются и на событийном уровне Жития. До основания собственной обители на Волоке Ламском Иосиф Волоцкий был так или иначе связан с тремя другими обителями: Крестовоздвиженским монастырем в Волоколамске, где будущий преподобный еще в детстве обучался грамоте у старца Арсения Леженки, Саввиным Тверским монастырем, куда Ивана Санина привлекла фигура подвижника Варсонофия Неумоя, однако, услышав в трапезной сквернословие, юноша не захотел остаться в Саввином монастыре и по совету старца Варсонофия отправился в Боровск к преподобному Пафнутию, где принял постриг и стал его преемником на игуменском троне.
После того, как братия Боровского монастыря не согласилась со строгими общежительными порядками, которые Иосиф Волоцкий хотел ввести в обители, преподобный по совету старца Герасима Черного решил «пойти <…> во вся Рускыя монастыря и избирати отъ нихъ яже на ползу» ( ВМЧ : 462). В Саввином Тверском монастыре произошло следующее: во время богослужения в храме не нашлось чтеца, тогда старец Герасим начал просить Иосифа читать. Просьба старца оформлена тройным повтором. После первого призыва «встани, чти» ( ВМЧ : 463) Иосиф отказывается, боясь выдать свой игуменский сан, во второй раз преподобный «взя <…> книгу, и нача складывати, якоже кто первоучныя азбукы», после третьего призыва старца:
«чти, якоже умѣеши» — Иосиф, у которого «бѣ же <…> въ язы-цѣ чистота, и въ очехъ быстрость, и въ гласѣ сладость», начал читать так, как умеет. Здесь, возможно, нашел отражение характерный для фольклорных текстов принцип троичности, потому что только на третий раз Иосиф Волоцкий полностью исполняет волю старца Герасима.
Еще один эпизод связан с матерью преподобного Иосифа Волоцкого Мариной, которая по наставлению сына приняла постриг в обители святого Власия на Волоке с именем Мария. В соответствии с агиографическим каноном преподобный не согласился встретиться с матерью, когда она пришла к монастырю Успения Пресвятой Богородицы, чтобы увидеть сына. Когда второй сын Елиазар посетил мать, она, находясь уже при смерти, «нача просити мантiи». Как отмечает А. А. Казаков, инокиня Мария, вероятно, просила о предсмертном пострижении в схиму [Казаков, 2019: 35], но сын этого не понял, ответив: «…на что ти, госпоже, мантiа?». Дальше обнаруживается следующий тройной повтор: «пришли по мене Марiа Маг-далыни и Марiа Iаковля и Марiа Египетскаа». В тот же час инокиня Мария «отъиде съ Марiами въ животъ вѣчный» ( ВМЧ : 469–470).
Большое значение агиограф уделяет основанному Иосифом Волоцким монастырю, который олицетворяет собой фигуру самого преподобного и все его жизненные начинания; поскольку в церковно-политической доктрине иосифлян социальные функции монастыря выдвигались на первый план, агиограф концентрирует свое внимание вокруг основанной преподобным Иосифом обители, монастырь как институт становится воплощением деятельности Иосифа Волоцкого и всей иосифлянской партии.
Будучи при смерти, игумен наставляет своего преемника — преподобного Даниила Рязанца, будущего митрополита Московского:
«…храни обычаи монастыря сего, и со иныхъ монастырей обычаевъ не снимайте; якоже азъ написахъ и предахъ вамъ, сице пребывайте. И аще получю отъ Бога милость, сiе вамъ знаменiе, яко обитель сiа ничимже скудна будетъ» ( ВМЧ : 491–492).
В Житии встречаются три эпизода с чудесами, связанными с основанием обители и ее судьбой. В первом представлен традиционный для преподобнических житий топос божественных знамений о месте, где суждено быть построенным монастырю: посланный волоколамским князем Борисом Васильевичем человек видит вихрь и вспышку молнии там, где вырастет обитель ( ВМЧ : 464–465). Второй эпизод связан с видением, которое явилось праведному и благочестивому иноку Селифону во время заутрени в Великую субботу. Монах видит, что на плащанице над головой преподобного Иосифа Волоцкого сидит белый голубь, при этом остальная братия голубя не наблюдает. Когда Селифон рассказал об этом игумену, Иосиф Волоцкий понял этот знак, «яко не оставитъ Богъ мѣста сего» ( ВМЧ : 469). Третий эпизод повествует о рассказе земледельца по имени Жук, который много лет жил на землях монастыря еще до его появления. За год до прихода Иосифа Волоцкого и основания обители в честь Успения Пресвятой Богородицы земледелец вместе со своим отцом слышали в лесу звон, «яко заутренюю и обѣдню звонящимъ», который на следующий день повторился, при этом слышали его и окрестные крестьяне ( ВМЧ : 484–485).
В тройные повторы складываются и другие чудеса в миней-ном Житии. Их можно разделить на чудеса карающие и чудеса воскрешения или исцеления. Чудеса с исцелением непосредственно связаны с фигурой преподобного. Трижды Иосиф Волоцкий совершает такие чудеса. В первом из них преподобный молитвой воскрешает не успевшего причаститься перед смертью Ивана Борисовича, старшего сына волоколамского князя Бориса Васильевича ( ВМЧ : 471–472). В посмертных чудесах Иосиф Волоцкий является постриженику монастыря князю Андрею Голенину со словами: «получихъ милость предъ Богомъ» — и предсказывает князю скорое отшествие к Богу ( ВМЧ : 494). Чуду исцеления посвящен эпизод «О сыне боярском Великого Новгорода», в котором некий благочестивый новгородец Дмитрий Выповский заболел, но был исцелен после молитвы Иосифу Волоцкому в Волоколамской обители ( ВМЧ : 498–499).
Есть в Житии и триада чудес карательного характера. Первое из них — это рассказ об Андрее Квашнине, постриженнике Волоколамского монастыря, которому не понравились устои обители и который решил перейти в Кирилло-Белозерский монастырь. На новом месте он начал ругать Иосифа Волоцкого и его обитель, но когда пришел к гробнице Кирилла, «внезапу паде на землю и бысть яко мертвъ» (ВМ Ч: 496). Только вернувшись в монастырь Иосифа Волоцкого и помолившись у гробницы преподобного, Андрей Квашнин исцелился. Еще один эпизод посвящен иноку с именем Исихей, который по наущению дьявола «захотѣ пива пити», покинул монастырь, отправился в ближайшее поселение и получил наказание, как и Андрей Квашнин: «паде на землю, и бысть яко мертвъ» (ВМЧ: 498). Исцеление инок обрел только у гробницы преподобного Иосифа Волоцкого. Третье карательное посмертное чудо содержится в списке Жития из рукописи Синодальной библиотеки № 927 (ГИМ. Син. № 927), опубликованного К. И. Невоструевым7. Герой сюжета «О иерее Новгородском» по дороге из Новгорода в Москву заболел, но отказался заехать в Иосифов монастырь, потому что не любил Волоколамскую обитель. На обратном пути иерею стало хуже, «нача вопити ночь всю, никакоже засну и нача кликати архидиякона: Господа ради повезите мя въ Iосифовъ монастырь»8. Иерею привиделась Богородица, которая заступилась за обитель Иосифа Волоцкого и повелела иерею ехать туда, где он впоследствии и исцелился.
Мы видим, что тройные повторы пронизывают минейное Житие Иосифа Волоцкого на разных уровнях. Вероятно, это обусловлено как активным участием Иосифа Волоцкого в борьбе с ересью жидовствующих, не признававшей догмат о Святой Троице, так и актуальностью полемики с антитринита-риями в середине XVI в., когда было составлено Житие. При этом в Житии Иосифа Волоцкого стремление агиографа отразить догмат о Святой Троице продиктован, по всей видимости, не столько необходимостью отождествить жизнь самого волоколамского игумена с догматом о Троице (хотя Житие и содержит такие смыслы, называя Иосифа Волоцкого главным поборником учения о триипостасности Бога в годы борьбы с ересью), сколько отразить ту официальную идеологичес кую линию, ко торая была актуальна для всего XVI в.
Список литературы Тернарные структуры в минейном житии Иосифа Волоцкого
- Алексеев А. И. Сочинения Иосифа Волоцкого в контексте полемики 1480–1510-х гг. СПб.: Российская национальная библиотека, 2010. 390 с.
- Алексеев А. И. Религиозные движения на Руси последней трети XIV — начала XVI в.: cтригольники и жидовствующие. М.: Индрик, 2012. 560 с.
- Алексеев А. И. «Бодроопасный воин Христов». Иосиф Волоцкий и его сочинения в свете данных современной науки. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2019. 376 с.
- Казаков А. А. Жития Иосифа Волоцкого середины XVI века как источник по истории раннего иосифлянства: дис. … канд. ист. наук. М., 2019. 273 с.
- Казаков А. А. Иосиф Волоцкий: от агиографического повествования к научной биографии. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2022. 292 с.
- Кириллин В. М. Символика чисел в литературе Древней Руси (XI–XVI века). СПб.: Алетейя, 2000. 320 с.
- Кириллин В. М. Литературное наследие преп. Иосифа Волоцкого // Преподобный Иосиф Волоцкий и его обитель: сб. ст. М.: Иосифо-Волоцкий ставропигиальный мужской монастырь, 2008. С. 46–52.
- Колесов В. В. Епифаний Премудрый «плетение словес» // Колесов В. В. Древнерусский литературный язык. Л.: Изд-во ЛГУ, 1989. С. 188–215.
- Лурье Я. С. Идеологическая борьба в русской публицистике конца XV — начала XVI в. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. 532 с.
- Манохин А. А. «Новгородские злые ереси» конца XV века. М.: Квадрига, 2023. 462 с.
- Пиккио Р. Slavia Orthodoxa: литература и язык / отв. ред. Н. Н. Запольская, В. В. Калугин. М.: Знак, 2003. 720 с. (Сер.: Studia Philologica.)
- Плигузов А. И. Вторая редакция минейного Жития Иосифа Волоцкого // Исследования по источниковедению истории СССР дооктябрьского периода: сб. ст. М.: Ин-т истории СССР, 1984. С. 29–55.
- Ранчин А. М. Тройные повторы в Житии Сергия Радонежского // Ранчин А. М. Вертоград Златословный: древнерусская книжность в интерпретациях, разборах и комментариях. М.: Новое литературное обозрение, 2007. С. 211–220.
- Ранчин А. М. Поэтика антитез и повторов в Сказании о Борисе и Глебе // Ранчин А. М. Памятники Борисоглебского цикла: текстология, поэтика, религиозно-культурный контекст. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2017. С. 136–149.
- Федотов Г. П. Святые Древней Руси // Федотов Г. П. Собр. соч.: в 12 т. М.: Мартис, 2000. Т. 8. C. 140–149.
- Шпаковский М. В. Триадология Иосифа Волоцкого // Вестник ПСТГУ. Серия 1: Богословие. Философия. Религиоведение. 2019. Вып. 85. С. 52–70 [Электронный ресурс]. URL: https://periodical.pstgu.ru/ru/pdf/article/6961 (03.05.2023). DOI: 10.15382/sturI201985.52-70
- Bushkovitch P. Religion and Society in Russia: The Sixteenth and Seventeenth Centuries. NewYork; Oxford: Oxford University Press, 1992. 278 p.