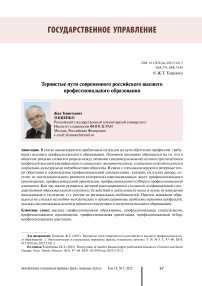Тернистые пути современного российского высшего профессионального образования
Автор: Тощенко Ж.Т.
Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc
Рубрика: Государственное управление
Статья в выпуске: 5 т.18, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются проблемные ситуации на пути обретения профессий, требующих высшего профессионального образования. Основное внимание обращается на то, что в обществе реально сложился разрыв между личными (индивидуальными) целями при получении профессий высшей квалификации и социально-экономическими, социально-политическими и социально-культурными потребностями общества. В связи c этим анализируются реперные точки обретения и прохождения профессиональной социализации, которая, на взгляд автора, состоит из последовательного решения (алгоритма) взаимосвязанных задач: профессионального просвещения, профессиональной ориентации, профессионального отбора и профессиональной адаптации. Как эти задачи решаются, автором рассматривается с позиций: а) официальной государственной образовательной политики; б) действий и деятельности школ и вузов; в) поведения школьников и студентов; г) с учетом их региональных особенностей. Причем внимание обращается не столько на учебно-методические и организационные проблемы освоения профессий, сколько на социальные аспекты процесса подготовки и получения высшего образования.
Высшее профессиональное образование, профессиональная социализация, профессиональное просвещение, профессиональная ориентация, профессиональный отбор, профессиональная адаптация
Короткий адрес: https://sciup.org/147252100
IDR: 147252100 | УДК: 378 | DOI: 10.15838/esc.2025.5.101.2
Текст научной статьи Тернистые пути современного российского высшего профессионального образования
Постановка проблемы
Социальное значение высшего образования характеризуется в первую очередь такими показателями, как официальные решения по его развитию и совершенствованию, количество высших учебных заведений, численность студентов, профессорско-преподавательского состава и обслуживающего персонала, а также состояние материально-технической базы.
Напомню, что в настоящее время (2025 год) в России действуют 724 вуза (университетов, институтов, академий, в том числе 242 частных) и 532 филиала (427 государственных и 105 частных), в которых учатся 4,33 млн юношей и девушек. Из них 89,2% обучались в государственных и муниципальных организациях, 10,4% – в частных учебных заведениях. Распределение студентов по специальностям выглядит следующим образом: 31,65% – инженерное дело, технологии и технические науки, 28,85% – науки об обществе, 12% – здравоохранение и медицинские науки, 9,3% – образование и педагогические науки, 5,96% – математические и естественные науки, 5,21% – гуманитарные науки, 3,79% – сельскохозяйственные науки, 3,25% – искусство и культура1.
Их обучали в 2024 году 216,5 тыс. штатных педагогических работников – преподавателей, ассистентов. Ещё 74,9 тысячи были внешними совместителями. Около 58 тысяч педагогов работали по договорам гражданско-правового характера2. Численность штатных преподавателей значительно сократилась по сравнению с 2008/2009 учебным годом, когда их насчитывалось 341,1 тыс. человек.
По данным Высшей школы экономики, 32,4% россиян в возрасте от 25 до 64 лет имеют высшее образование. Для сравнения: в Италии – 19,9%, в Японии – 34,2%, в США – 39,5%, в Великобритании – 41,3%. Вместе с тем состояние высшего образования вызывает обоснованную тревогу, озабоченность и неудовлетворенность его результатами.
Противоречивая политика в области высшего профессионального образования привела к резкому снижению качества подготовки специалистов в результате непродуманных и поспешных реформ. Развал образования прошел в новой России через несколько этапов. В начале 1990-х годов внимание было сосредоточено на многочисленных вариациях организации высшего образования на основе демонтажа советской системы, на ее отрицании, на отказе от всего, что было достоянием не только советского, но всего отечественного опыта по подготовке специалистов высшей квалификации. Затем последовали шаги по превращению образования в сферу услуг с внедрением мер по коммерциализации вузов. В этот период произошло массовое увеличение количества высших учебных заведений, когда нередко даже в крупных селах создавались филиалы вузов (так, в 2008/2009 учебном году функционировали 1134 вуза и порядка 2 тысяч филиалов)3. На следующем этапе была осуществлена политика по переходу на модель «настоящего образования», под которой подразумевалась болонская модель образования. Ее апологеты – бывшие ректоры Высшей школы экономики Я. Кузьминов, Российской академии народного хозяйства и государственной службы В. Мау совместно с министром образования РФ Д. Ливановым с пристрастием и большим рвением пропагандировали это «западное достижение» и добились его внедрения. Стоит отметить, что основным их аргументом было то, что бакалавр и магистр могут свободно и беспрепятственно претендовать на работу во всех европейских странах. Более того, Я. Кузьминов в 2021 году заявлял, что в зависимости от вуза и научного направления за рубеж уезжают от 20 до 85% студентов, в среднем больше 50%. Однако социологические опросы Российского государственного гуманитарного университета показали, что такое намерение (даже еще не действие) высказывают от 1,4 до 8,3% работников в зависимости от отрасли экономики и культуры (Жизненный мир работников…, 2024, с. 436). В ответ на критику апологеты болон- ского процесса постоянно изобретали новые предложения вроде двух ступеней бакалавриата, делили вузы на категории – достойные поддержки или третьестепенные (в число которых попадали многие региональные вузы). Вместе с А. Чубайсом предлагали сделать всё высшее образование платным, что вело к формированию еще одной грани социального неравенства – образовательного. Нужно отметить, что эти меры вызвали протест и несогласие большинства вузовской интеллигенции, но к ее голосу не прислушивались. Практически все предложения сторонников болонщины приобретали характер обязательного внедрения, без учета особенностей вузов, их региональной и национальной специфики. В результате происходила «кукуризация» образования (по типу хрущевской инициативы сеять кукурузу везде – от северных приполярных районов до пустынь), когда однообразие было признано нормой для всех без исключения.
Одновременно возникали и множились другие проблемные ситуации. Назову некоторые из них. В 2024 году по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры было выпущено 823 тыс. человек4), из которых 31% составляли юристы и экономисты (35% в 2020 году). Число выпускников, окончивших вузы по экономическим и юридическим направлениям, в 4 раза превышает кадровую потребность. Очевидно, что при всей важности этих профессий такая явная диспропорция не соответствовала объективным потребностям общества, хотя коррелировала с личными устремлениями молодежи и их родителей. Появилась и весьма странная специальность «менеджер», которая не привязана ни к какой конкретной сфере трудовой деятельности, в результате чего готовятся специалисты, которые могут управлять всем, что поручат – от ЖКХ до предприятия или учреждения культуры. В то же время произошло резкое снижение внимания к подготовке инженеров, их спустя некоторое время стало катастрофически не хватать. В результате сложился дисбаланс на рынке труда. По данным Минтруда РФ, в 2023 году на одного инжене- ра приходилось 12 вакансий, но 1 вакансия на подготовленных 7–8 юристов и экономистов в зависимости от региона.
Вызывает сомнения внешне благополучная, но в то же время лукавая цифра: по официальным данным от 80 до 90% выпускников трудоустраиваются после окончания учебного заведения. Однако более глубокий анализ показывает, что по полученной специальности (или смежной) начинают работать в зависимости от вуза и/ или специальности от 40 до 60% выпускников5. Но можно ли считать их трудоустроенными по специальности, исходя из таких примеров? Так, подготовка ветеринара для работы в сельскохозяйственных предприятиях завершается устройством его на работу по обслуживанию домашних животных в том городе, где он учился. Или можно ли считать трудоустройством по специальности лечебное дело молодого врача при его уходе на работу в косметологи, или учителя, устроившегося на работу на государственную или другую управленческую службу по подготовке повседневного документооборота или по сбору текущих сведений?
Немаловажно, что на сферу образования в стране уходит всего 3,7% ВВП. Россия по этому показателю занимает 125 место в мире. Для сравнения: в Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии – от 7 до 8% ВВП, США – 6,1%, Канаде – 5,5%, Франции – 5,4%6.
Одновременно произошли старение и феминизация преподавательского состава, удвоение нагрузки при низкой оплате туда преподавателей, студенты получают символические стипендии. Сдерживают качественную подготовку специалистов также устаревшая материально-техническая база и многие издержки экономико-финансового плана.
К этому следует добавить ущербную общественно-культурную позицию средств массовой информации, которые не устают пропагандировать и рекламировать формы занятости, представленные преуспевающими лицами эстрады и спорта, маркетологами, бизнесменами всех рангов и профилей при практически полном игнорировании производственных профессий. А такая политика в немалой степени сказывается на предпочтениях молодежи.
К 2020-м годам стало очевидно, что бездумное копирование чужого опыта при полном игнорировании отечественных, в том числе советских, достижений без учета мнения основной массы преподавательского состава привело к реальному отставанию от мировых показателей и снижению качества подготовки квалифицированных специалистов. Поэтому не удивительно, что в настоящее время Россия по уровню образования занимает 34 место в мире, потеряв то первенство, которым обладал Советский Союз.
В настоящее время на официальном уровне провозглашен не только отказ от осложнивших деятельность вузов болонских принципов, но и необходимость осуществить коренные изменения в сложившейся структуре высшего образования, которые, как надеются в Минобрнауки РФ, позволят полностью перейти на новую структуру обучения в 2027 году. В рамках новой стратегии предполагается включить накопленный за последние два века опыт развития и функционирования отечественного образования и удовлетворить реальные потребности наступающей Пятой промышленной революции.
Исходя из обзора состояния высшего образования в России, в статье осуществлено исследование всех этапов профессиональной социализации, которая включает профессиональное просвещение, профессиональную ориентацию, профессиональный отбор и профессиональную адаптацию .
Эмпирической базой исследования стали 118 сайтов университетов, отражающих их включенность в осуществление всех этапов профессиональной социализации молодых людей. Кроме того, в марте – июне 2023 года методом онлайн-анкетирования (CAWI) посредством платформы Google.Forms проведен онлайн-опрос «Роль профориентации в выборе профессии». Объектом исследования стали старшеклассники, абитуриенты, студенты и выпускники. Объем выборочной совокупности: N = 769. Тип выборки: целевая, нерепрезентативная. Метод отбора респондентов: по одному из целевых признаков – статус ученика старших классов, статус обучающегося по про- граммам высшего образования или статус выпускника. Также использовались данные исследования ФНИСЦ РАН 2023 года, содержащие результаты опроса 4 тысяч молодых специалистов (Горшков и др., 2023), ВЦИОМ-20247. Привлекались данные социологических центров (ВШЭ, ФОМ), научные публикации по этой теме за 2015–2024 гг. При исследовании отдельных групп, таких как врачи, преподаватели, архитекторы проводились глубинные интервью с экспертами, молодыми специалистами и студентами. При анализе поставленных проблем использовался успешный опыт работы в Татарстане, Свердловской и Ростовской областях.
Однако совершенствование высшего образования предполагает изменения не только в нем самом, но и на подготовительных стадиях, на которых базируется его реализация. Именно исходя из этого мы рассматриваем как довузовские, так и университетские и постуниверситетские этапы его развития и функционирования.
Таким образом, осуществлен замысел рассмотреть путь в профессию в более широком контексте, начиная с первых попыток профессионального самоопределения до первых шагов по реальному применению полученных знаний и компетенций непосредственно на производстве.
Рассмотрим каждый из этих этапов, обращая особое внимание на то, что препятствует их эффективному осуществлению, в том числе на такую специфическую проблему, как функциональная неграмотность (Тощенко, 2025).
Профессиональное просвещение как исходная база для социально-профессионального самоопределения
В жизни каждого молодого человека наступает момент, когда приходится решать, как и какую выбрать профессию, как определиться с будущей трудовой деятельностью, т. е. практически предположить траекторию своего жизненного пути. Согласно Конституции РФ, каждому молодому человеку предоставлено право на выбор профессии, род занятий и работы.
Однако это право, как показывает практика, порой не просто реализовать – не хватает знаний о профессиях, о тех требованиях, которые они предъявляют к личности работающего и умению оценить их, в особенности о которых молодые люди осведомлены понаслышке. Немалое значение приобретает знание о потребностях общества в тех или иных профессиях. К этому стоит добавить влияние общественного восприятия, той или иной оценки имеющихся или желаемых профессий, когда именно ориентация на некоторые из них определяется не потребностями экономики и культуры, а личностными, семейными или групповыми предпочтениями8.
В связи с этим остро стоит вопрос об осуществлении последовательных, логически непротиворечивых действий по органичному соединению объективных потребностей и субъективных ориентаций молодежи . Тем более что в большинстве случаев процесс вхождения в взрослую жизнь для молодых людей ограничивается рассмотрением профориентации, зачастую с учетом только местных интересов. Но, как показывает реальная жизнь, это ограниченный по своей целостности процесс, упускающий многие аспекты приобретения профессий, закрепления молодежи в их профессиональном выборе, подготовки к производительному труду и сохранению верности избранному трудовому пути.
На наш взгляд, говоря о профессиональном просвещении, следует говорить о таких двух его важных компонентах, как профессиональная информация и профессиональная пропаганда. Но именно на этом этапе допускается часто встречающаяся ошибка – вместо распространения всесторонней информации о всех возможных профессиях и их востребованности в экономике и культуре обычно переходят к профориентации, которая непосредственно связана с имеющимися в данном регионе производственными организациями и высшими учебными заведениями.
Работа по профпросвещению предполагает ее проведение с большим педагогическим тактом. Ориентируя учащихся на профессии, в которых страна (регион) испытывает потребность, необходимо соблюдать такой важнейший принцип, как связь с жизнью, избегая всякого рода нажимов, давления на сознание молодого человека, купирование порывов моды на те или иные профессии. В свое время это блестяще продемонстрировал в своих представительных исследованиях о профессиональных ориентациях школьников В. Шубкин. Он убедительно показал и доказал, что в 1960–1970-е годы желание и устремления молодежи и потребности народного хозяйства в кадрах представляли собой взаимоисключающие пирамиды: образно говоря, число желающих стать космонавтами, артистами в сотни-тысячи раз превышало количество желающих работать на производстве (Шубкин, 1970).
Но реальная жизнь демонстрировала несоответствие поведения молодежи с нуждами общества. Эту неадекватную ситуацию можно охарактеризовать как расхождение между мечтами (пусть даже искренними) и дальнейшим выбором трудового пути, что неминуемо приводило к деформированной социальной реакции на отношение к труду, к разочарованиям, к снижению гражданской активности и, соответственно, к тому, что заложенный природой и обучением потенциал не использовался ни во благо общества, ни во благо самого человека.
В реализации информированности первое место, конечно, принадлежит школе. Но эта деятельность часто ограничивается рассказом и встречами с представителями тех профессий, которые «под рукой», т. е. используется то, что имеется в данном городе, в конкретном регионе. Усилия школ нередко дополняются работой домов детского творчества (бывших дворцов пионеров), которые предлагают знакомство с широким кругом профессиональных направлений, включая технические, художественные, естественно-научные, физкультурно-спортивные и социально-педагогические. Отметим, что если в 1957 году в СССР функционировали 2153 дворца и дома пионеров, то по экспертным подсчетам (официальной статистики нет) в России их сохранилось около 500.
Не в лучшую сторону изменилось участие детской и школьной периодики в информировании и пропаганде профессий. Вместо потерявших привлекательность и массовость журналов, таких как «Юный техник», «Юный натуралист», «Квант», «Химия и жизнь» и дру- гих познавательных изданий, ориентированных на подрастающее поколение, появились в большей степени развлекательные журналы типа «Юный эрудит», «Тошка и компания», «Майн-крафт» или направленных на развитие интереса к бизнесу и предпринимательству («Думай» и «Думай Кидс»), а также на формирование лидерских качеств и финансовой грамотности (журнал от бизнес-школы Lovely Beetle и программа «Я в деле»). В результате из информационного поля выпали массовые профессии, связанные с участием в производительном труде в большинстве отраслей национального хозяйства и культуры. Справедливости ради нужно сказать, что в настоящее время осуществляются интенсивные попытки перестроить эти трудовые ориентации, что, например, выразилось в резко возросшем внимании к инженернотехническим специальностям: в наборе в 2025 году на бюджетные места в вузах им отведено 41% мест от общего количества поступающих.
Таким образом, перестройка профессионального просвещения является существенной предпосылкой для достижения общегосударственных целей, заложенных в национальных программах и проектах и направленных на рост производительного труда.
Пока же можно сделать вывод, что про-фпросвещение нуждается в коренной перестройке на всех уровнях работы с молодежью, как в школе, так и в каждом регионе, и в целом в стране, в политике Минобрнауки и Минпрос-вещения РФ.
Профориентация как процесс формирования профессиональных установок
Основная цель профориентации – подготовка молодежи к осознанному выбору будущей профессии. Иначе говоря, на базе профпросве-щения после ознакомления с существующими и, возможно, новыми профессиями школьнику предстоит предварительно сформировать свой интерес к вариантам будущей трудовой деятельности. Предполагается, что на этом этапе он сосредоточивает внимание на более обстоятельном усвоении сути и функций желаемой профессии, необходимых для нее навыках и способностях, ее социальной оценке, а также получении сведений об учебных заведениях, в которых готовят соответствующие кадры (Апостолов, 2011, с. 61). Иногда школьники получают профессиональное консультирование;
проходят диагностику – чаще всего это тестирование; получают психологическую поддержку (подробнее см.: Пряжникова, 2010). Однако эта структура в 1990-е годы была разрушена.
Сейчас эта деятельность возрождается. В настоящее время достаточно широко в школе стали использоваться такие формы, как встречи с представителями тех профессий, которые намерены выбрать молодые люди, специализированные кружки по избранной специальности, а в ряде случаев специализированные (инженерные, медицинские, педагогические, экономические) классы. В вузах организуются такие новые формы взаимодействия со школьниками, как предуниверсарии, олимпиады и конкурсы; создаются учебно-практические ячейки. В последние годы к осуществлению программ профориентации подключились социальные сети, которые не только информируют, но и организовывают занятия по тем или иным специальностям. Однако, как показывает проведенный анализ, многие их этих форм работы распространены достаточно слабо, охватывают не всех участников, нередко проводятся формально. В этой ситуации из многих форм воздействия исключены школьники и их сверстники в малых городах. Да и такие формы, как специализированные классы, имеют свою специфику, так как организуются по желанию родителей и/ или учеников, а не исходя из потребностей экономики и культуры. Так, по состоянию на 2023 год школьники обучались всего в 131 инженерном классе, что, на наш взгляд, явно недостаточно, в то же время массово представлены экономические, юридические и медицинские классы (Анисимов, 2024). Такая форма, как предуниверсарии, существует только в крупных городах, численность их тоже незначительна.
На пути профориентации, помимо названных институциональных усилий, лежат серьезные противоречия социально-психологического характера, время профессионального самоопределения, выбора той профессии или того направления будущей деятельности, которые составят основы жизненной стратегии (Леонтьев, Шелобанова, 2001).
Реальная жизнь показала, что на пути профориентации продолжают существовать значительные расхождения между указаниями, рекомендациями и мерами, сформулированными в официальных документах, и тем, на что ори- ентируется молодежь перед поступлением в университет. По данным Института социологии ФНИСЦ РАН (опрос 4000 молодых специалистов 207 предприятий и учреждений в 41 субъекте Российской Федерации в 2021 году), содержательные (идеальные) устремления молодежи имеют ярко выраженную социальную значимость: 57% сказали, что они нацелены на желание получить избранную специальность; 40,5% привлекает высокий спрос на специальность, 30,6% – престижность избранной профессии; 29% – ее общественная значимость; 27,4 % – высокая оплата труда; 26,4 % – перспективы карьерного роста. Стоит обратить внимание на показатель «семейная традиция», о которой упоминают 14,2% опрошенных. Но в реальности при выборе места обучения нередко превалируют другие ориентации, которые торпедируют социальную значимость выбранной подготовки. Эти инструментальные средства обучения в избранном вузе включают наличие бюджетных мест (50,5% опрошенных) и невысокий конкурс (17%). Хотя есть рациональные и приемлемые ориентации: 37,3% сказали об имидже университета и 10,6% – о гарантии трудоустройства, немалое значение приобретают практические соображения, нередко связанные с финансовым положением семьи: 18,1% респондентов важна близость к дому и еще 17% – наличие общежития (Горшков и др., 2023, с. 83–84, 87).
Сравнение этих данных показывает, что при окончательном выборе вуза, где хочет учиться школьник, содержательные (идеальные) цели и ориентации нередко уходят на второй план, а на первый выходит практическая целесообразность, которая может не совпадать с предыдущими намерениями. Здесь, на наш взгляд, заложена одна из причин расхождения между первоначальной убежденностью в преимуществах желаемой профессии и реальным решением избрать ту специальность, на которую по ряду обстоятельств пришлось согласиться. Молодой человек может так и не привыкнуть к реально выбранной специальности, не говоря о том, чтобы ее полюбить, сделать смыслом, основой своей профессиональной деятельности. Отсюда возникает разочарование, недовольство, сомнение или пассивное следование избранному пути, что реально грозит превратить человека в будущем в «серого»
представителя некачественного труда (подробнее см.: Тощенко, 2023).
Также нельзя сбрасывать со счетов эгоистические и даже приспособленческие предпочтения молодых людей при выборе профессии, которые нередко складываются под влиянием обстоятельств внешнего характера: мода на специальности, как в случае с юристами, экономистами и менеджерами, а также учеба ради получения диплома9.
Профотбор в процессе обучения
Прежде всего отметим, что в литературе имеются самые различные трактовки профотбора – от предельно расширительной (в нее включаются профинформация, профориентация, профподготовка и даже трудоустройство) до более узкого и, на наш взгляд, более определенного его толкования как начала реального вхождения в будущую профессиональную деятельность и закрепления в ней в своей трудовой жизни. Именно с этих позиций мы рассмотрим данный феномен.
Итак, молодой человек стал студентом, т. е. из массы возможных профессиональных предложений и намерений он(а) избрал ту профессию, которую предстоит освоить, и ему следует начать готовиться к будущей трудовой деятельности именно по этому избранному пути.
Первый признак, который говорит об успешности овладения будущей профессией – это успеваемость. Именно четкая ориентированность на достижение положительных оценок говорит об устойчивой сформированности мотивации на получение знаний по будущей профессии, а также о намерении работать именно по этой специальности. И даже в том случае, когда по тем или иным причинам молодой человек переключается на другую профессию (как правило, после получения второго образования или специальных курсов переподготовки), подтверждается его ориентированность на достижение новых результатов на базе основательного научно-обоснованного образования. Как правило, контингент студентов, четко ориентированный на получение избранной профессии, регулярно пополняет свои знания, расширяет свои компетенции не только в процессе обучения, но и за счет участия в научных мероприятиях, олимпиадах и других соревнованиях, выполнении грантов, в различного рода мероприятиях, связанных с увеличением интеллектуального багажа по избранной специальности. Даже вынужденная или сознательно осуществляемая занятость во время учебы, связанная с будущим трудом, закрепляет в нем уверенность в правильности избранной профессиональной деятельности.
Итак, первым и часто решающим звеном профотбора является организация учебного процесса . Ей отводится ведущая роль. Рационально и эффективно сформированный процесс образования при постоянном его обновлении и совершенствовании помогает обучающемуся накапливать знания так, чтобы наиболее успешно применять их в будущей практической жизни. Однако «современная система обучения в высшей школе весьма низкая. Наблюдается большая потеря времени, и это при наличии перегрузки, недостатка времени. Далеко не так эффективно, как это возможно, используется время, которое студент проводит в аудиториях»10.
Иначе говоря, перед учебным процессом в университетах в условиях происходящей промышленной революции стоят принципиально новые задачи. Сейчас жизнь выдвигает иные требования к подготовке специалистов. Вуз, прежде всего университет, ориентируясь на освоение наукоемких технологий, призван «давать молодому человеку не только прочные фундаментальные знания, но и возможность чувствовать себя участником реальных процессов, уметь быстро ориентироваться в потоке информации. Важно, чтобы человек оказался вооруженным не тысячами готовых рецептов, среди которых может и не оказаться нужного, а методом их получения, как известным, так и новым» (Карелина, 2003, с. 3).
Традиционная форма организации образовательного процесса может быть охарактеризована как контактное, сообщающее обучение, целенаправленно управляемое, построенное по дисциплинарно-предметному принципу и дополняемое такими формами повышения ка- чества обучения будущего специалиста, как участие в различных научно-практических мероприятиях, конкурсах, включенность в выполнение исследований, практическая деятельность по внедрению новаторский идей непосредственно на производстве. Эта деятельность закрепляет профессиональные качества уже в процессе обучения и повышает вероятность окончательного закрепления студента за избранной специальностью.
Но реальный процесс обучения не всегда происходит или завершается успешно. Как по статистическим, так и по социологическим данным, учебу в вузе не заканчивают от 15 до 25% и даже 30% студентов в зависимости от вуза и профиля избранной профессии, особенно в инженерных, сельскохозяйственных и педагогических университетах. За этим скрывается немало причин, начиная от «необучаемых» студентов, разочаровавшихся в избранной профессии, до финансовых затруднений для продолжения учебы (подробнее см.: Зиятдинова, 1999; Денисова-Шмидт, Леонтьева, 2015; Буланова, 2018).
Но особое значение в процессе профотбора приобретает производственная практика как критерий качества профотбора, в связи с тем что одной из острых проблем современного российского высшего образования становится неподготовленность (и неспособность) выпускников вузов к полноценному включению в производственный процесс после окончания учебного заведения.
Эта проблема отражается в том, что работодатели постоянно и в течение многих лет выражали(ют) претензии к качеству подготовки большинства выпускников вузов, отсутствию у них изначальных навыков полноценно включиться в работу на производстве (Антонова, 2020). Критически к уровню подготовки молодых специалистов для практической деятельности относятся и рабочие, о чем свидетельствуют данные социологических исследований (Арискин и др., 2015).
Эти данные коррелируют с мнением 38,7% студентов о том, что плохо соблюдается один из основных трендов в современном образовании – сочетание обучения с практикой, один из ключевых моментов в необходимом совершенствовании их подготовки к будущей профессиональной жизни (Тощенко, 2023).
Такое положение с профессиональной и трудовой подготовкой выпускников вузов во многом упирается в нерешенность важнейшей задачи – организации производственной практики.
Конечно, имеются примеры ее достойной организации, которые заслуживают не только одобрения, но и максимально расширенного применения. Так, «Роснефть» обеспечила организацию регулярной деятельности преподавателей вузов и постоянной и непрерывной практики студентов, что, как показывает опыт, является одним из эффективных способов развития ответственности и формирования профессиональных компетенций11. Университет ИТМО (бывший Ленинградский институт точной механики и оптики) объявил о трансформации университета в научно-образовательную корпорацию, среди целей которой – создание уникальной среды для самореализации.
Но данные примеры похожи на известные в советское время «маяки» – высокоэффективные предприятия (заводы, фабрики, совхозы и колхозы), а также на выдающиеся достижения отдельных работников, которые упорно не желали становиться реальностью для подобных организаций или соответствующих профессий во всех отраслях и сферах экономики и культуры.
Эффективность и действенность подготовки выпускников вузов к производственной деятельности эксперты, преподаватели и студенты оценивают весьма критично. Если внимательно проанализировать их аргументы, то мы выйдем на необходимость говорить не только о принципах ее организации, но и о таких ее сторонах, как предварительное планирование, реальное осуществление и ее эффективность с точки зрения подготовки студента к производительному труду. Анализ показывает, что сложилась весьма странная и даже парадоксальная ситуация: в настоящее время, с одной стороны, много говорят о совершенствовании собственно учебного процесса, о различных формах передачи и усвоения информации, с другой, недостаточно обсуждают проблемы, с которыми сталкивается молодой специалист, когда ему придется приступать к выполнению производственных заданий. В связи с этим нет ответа на вопрос, что соединяет или должно соединять два процесса – учебную деятельность и подготовку к будущей работе, чтобы максимально сократить коллизии при переходе студента от учебы к профессиональной деятельности. Здесь возникает вопрос о производственной практике, которую можно и нужно, на наш взгляд, рассматривать как критерий оптимального вхождения молодого специалиста в полноценную трудовую жизнь. Об этом говорят и сами студенты. Опрос студентов Оренбургского государственного университета показал, что они на третье место по значимости в построении карьеры поставили возможность прохождения практики в известной компании (42%), второе место (48%) отвели практике, в процессе которой, по их мнению, можно получить дополнительные компетенции (Мирошников и др., 2022, с. 104–105).
Таким образом, анализ состояния производственной практики приводит к неутешительному выводу: эта форма подготовки будущих специалистов нуждается в коренном пересмотре и принципиально ином подходе к ее организации и осуществлению (подробнее см.: Тощенко, 2024).
Анализ практики свидетельствует о наличии многих причин, порождающих претензии студентов (очень разных в зависимости от профиля вуза). Но их объединяет одно – пока производственной практике присущ порок, который можно назвать словом имитация . Ее преодоление – один из важнейших показателей, который должен быть учтен в грядущей реформе высшего образования, если общество, экономика и культура хотят получить высококвалифицированных специалистов.
Итак, мы пришли к выводу о том, что состояние дел с производственной практикой нуждается в ее существенной перенастройке, избавлении ее от таких пороков, как приукрашивание отдельных ее результатов, уменьшение значимости негативных аспектов, замалчивание по тем или иным причинам нежелательных для организаторов сведений (Федорова, 2013).
Профессиональная адаптация: состоится ли реализация целей образования
Данные социологических исследований (Институт социологии ФНИСЦ РАН, НИУ ВШЭ, РГГУ, УрГу и др.) показывают, что в настоящее время переход от учебы к работе является во многом стихийным процессом. Это дополняется и тем, что профессиональная подготовка многих выпускников не соответствует потребностям конкретного рынка труда, в результате чего выпускники не готовы к реальным вызовам, с которыми они сталкиваются, приступая к работе. В результате картина трудоустройства выглядит следующим образом. В настоящее время, по информации Минобрнауки, чаще всего работу по специальности находят выпускники инженерных направлений подготовки: 97% из числа вышедших на работу сразу после выпуска трудоустраиваются в отраслях, прямо или косвенно связанных с решением инженерных задач. На втором месте – медики: 74% из них находят работу в сфере здравоохранения. На третьем месте – представители педагогических специальностей: 60% трудоустраиваются по своему профилю, при этом еще 17% заняты в сферах, косвенно связанных с образованием12.
Социологические опросы показывают, что 29% выпускников устроились на работу при помощи знакомых, 23% пользовались информацией из интернета и СМИ, 22% помогли родные (Горшков и др., 2023).
Организованная помощь незначительна – на содействие службы трудоустройства университета (центров карьеры) указали 8% выпускников, 2% – на поддержку городских и районных служб по трудоустройству. Около 2% сказали, что они пытались открыть свое дело, стать индивидуальными предпринимателями (Горшков и др., 2023). Отметим новый аспект трудоустройства – участие рекрутинговых фирм. В настоящее время контакты с ними установили 162 вуза. Такое состояние позволяет сделать вывод, что, с одной стороны, трудоустройство выпускников происходит в соответствии с законами рыночной экономики, достаточно стихийно, с другой стороны, приводит к нерациональному использова- нию интеллектуального потенциала молодых специалистов в силу влияния на этот процесс значительного числа ситуационных и случайных факторов. В особенно неблагоприятных условиях оказываются выпускники провинциальных вузов, у которых таких возможностей значительно меньше, чем у их сверстников в столичных и крупных промышленных и социально-культурных центрах (подробнее см.: Дружинина, 2023).
Остается противоречивой позиция работодателей. Требуя подготовленных и квалифицированных специалистов, большинство работодателей реально не участвуют в их подготовке, отделываясь пожеланиями и рекомендациями. Даже такая форма участия, как целевой набор, в вузах характеризуется достаточно неоднозначно и нуждается в существенных изменениях.
Но и эти пути трудоустройства имеют негативную сторону, которую можно обозначить вопросом: а как встретили выпускников вузов при поступлении на работу , так как работодатели сетуют на слабую подготовленность выпускников вузов к полноценному выполнению обязанностей в рамках должности, на которую претендуют. Поэтому, по данным Российского технологического университета (МИРЭА), большая часть руководителей (56,8%) обращает больше внимания на наличие у соискателя опыта работы. Только 27,9% руководителей учитывают соответствие специальности в дипломе предлагаемой вакансии. Это лишний раз подчеркивает, что само по себе образование даже при соответствии предлагаемой работе играет незначительную роль13. О недоверии диплому говорит и то, что соискателю нередко предлагают менее квалифицированную работу при обещании в будущем рассмотреть вопрос о переводе на претендуемую должность после успешного прохождения испытательного срока. При этом следует отметить, что 52% руководителей фирм, по данным Superjob, организуют переобучение или дополнительное обучение молодых специалистов в связи с тем, что многие из них не знают последних достижений в технике/техно-логиях и/или методах принятия решений (Ари-скин и др., 2015).
При трудоустройстве, первых шагах по адаптации к производственной атмосфере имеются существенные различия во взглядах трех групп, причастных к этому процессу: работодателей, преподавателей и студентов. По данным НИУ ВШЭ, выпускники и начинающие специалисты оценивались по 11 критериям. Мнение всех этих групп совпало только по пяти надпрофессиональным компетенциям: «партнер-ство/сотрудничество», «анализ информации и выработка решений», «коммуникативная грамотность», «планирование и организация», «саморазвитие». При этом по ряду важнейших компетенций для работодателей: «клиентоори-ентированность», «ориентация на результат», «следование правилам и процедурам» – мнения преподавателей и студентов не совпали. Такие компетенции, как «стрессоустойчивость», «лидерство», «оказание влияния», «стратегическое мышление», оказались значительно переоцененными студентами и/или преподавателями при сопоставлении с мнением работодателей. Хотя по ряду компетенций преподаватели и студенты единодушны с работодателями, однако есть компетенции, которые они переоценивают или недооценивают, что создает опасное для рынка труда расхождение между тем, какие требования к молодым специалистам предъявляют работодатели, и тем, развитию каких непрофессиональных навыков уделяют внимание университеты и студенты (подробнее см.: Степашкина и др., 2022, с. 20).
Наконец, для профессиональной адаптации очень важно такое социально-психологическое обстоятельство – насколько ясны и очевидны перспективы служебного роста, возможности построения карьеры в будущей трудовой жизни.
Заключение
Подводя итоги анализа всех этапов подготовки будущих специалистов к производительному труду: профпросвещение, профориентация, профотбор и профадаптация, на наш взгляд, можно утверждать, что все предложения и суждения, высказанные как экспертами, так и студентами и молодыми специалистами, показывают, что каждый из названных этапов нуждается в существенном, а иногда кардинальном совершенствовании.
Профессиональное просвещение нужно рассматривать как самостоятельное, отдельное звено подготовки молодежи к выбору не просто профессии, а соотнесенной с потребностями общества, его экономики и культуры. На наш взгляд, пока на это недостаточно обращает внимание и Министерство просвещения РФ, которое в своем приказе от 18 мая 2023 года № 370 об утверждении Федеральной образовательной программы основного общего образования не разделяет профпросвещение и профориентацию, но, чувствуя это противоречие, вводит понятие «ранняя профориентация». Пока же можно констатировать, что не выстроена система информирования, которая бы позволила сопоставить личные потребности и устремления молодых людей с нуждами как страны, так и региона, в котором они живут. Эти требования касаются не только самой школы, но и более широкого информирования – от усилий местных и региональных органов власти до систематической пропаганды и разъяснения в средствах массовой информации потребностей сфер жизнедеятельности, наиболее значимых и актуальных для рационального сочетания личных и общественных интересов.
Этап профориентации не менее значим для большей конкретизации намерений молодежи и предварительного, а нередко окончательного выбора профессии. Здесь большое значение имеет организация специализированной сети по дополнительному приобретению знаний именно по избранной профессии, по более глубокому представлению о ее специфике и пониманию ее сущности, а также тех усилий, которые предстоит предпринять на пути к ее освоению. В реализации этой цели важны три фактора: а) организация вузами различных форм разъяснения и ознакомления, в том числе посредством социальных сетей, с избранной формой обучения и последующей трудовой деятельности; б) работа внешкольных детских организаций, таких как дома детского творчества, добровольные професси ональные сообщества, периодические издания, ориентированные на молодежь; в) регулярные встречи с представителями избираемой профессии вкупе с посещением мест их работы. Последний фактор особенно значим для тех, кто ориентируется на региональные и местные интересы. Особо следует отметить, что в последнее время обострился региональный аспект этой проблемы. Усилиями клевретов болонского процесса «одеяло» набора студентов тянули на себя столичные и перспективные вузы, оголяя возможности образовательного поля многих республик, краев и областей. Поэтому вполне закономерно, что этот перекос был осознан – доля студентов региональных вузов достигла 73% от общего объема принятых на первый курс14.
Особенно сложные задачи стоят на этапе профотбора, когда окончательно определяется, насколько избранная профессия становится уделом будущей трудовой деятельности. Основные усилия по реализации этой цели сосредоточены в организации учебного процесса. В том, что обучение в вузе является ключевым в определении будущей профессии, практически никто не сомневается. Сомнения возникают по поводу того, как это осуществляется. В настоящее время началось комплексное реформирование всех уровней образования, в том числе высшего. При этом все возрастающее значение приобретает фундаментальность образования в сочетании с практикоориентированностью. И поэтому остро стоит вопрос, как в процессе предстоящих преобразований осуществить отбор тех ресурсов и резервов, которые есть в российском обществе, но до сих пор не реализованы в должной мере. Особо отметим, что неоднозначно оценивается широко используе- мое платное образование – экономические результаты его очевидны, чего не скажешь о его социальных и культурных издержках. В стране имеются многие заслуживающие внимания начинания, но они остаются уделом отдельных конкретных вузов.
Наконец, нуждается в достижении определенной стройности и последовательности работа, которая относится к профессиональной адаптации . Пока вхождение в трудовую жизнь осуществляется самотеком, часто стихийно, исходя из особенностей и традиций той организации, в которой начинает работать молодой человек. Необходимость такого согласованного и научно-обоснованного вхождения в круг своих профессиональных и в то же время четко определенных обязанностей в зависимости от требований конкретной организации подтверждается данными: от 20 до 40% сменивших профессию и место работы – молодые специалисты в первые три года работы.
Все это позволяет сделать вывод, что только последовательное обеспечение всех этапов вхождения молодого специалиста в трудовую жизнь гарантирует его полноценную профессиональную социализацию, обеспечивает желаемое взаимодействие с реальными потребностями экономики и культуры.