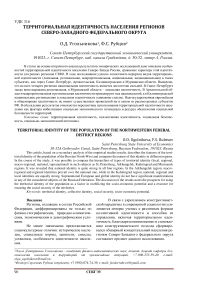Территориальная идентичность населения регионов Северо-Западного федерального округа
Автор: Угольникова О.Д., Рубцов Ф.С.
Журнал: Технико-технологические проблемы сервиса @ttps
Рубрика: Организационно-экономические аспекты сервиса
Статья в выпуске: 3 (65), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе вторичного анализа результатов эмпирических исследований дано описание особенностей территориальной идентичности населения Северо-Запада России, сравнение характера этой идентичности для разных регионов СЗФО. В ходе исследования удалось сопоставить иерархии видов территориальной идентичности (локальная, региональная, макрорегиональная, национальная, наднациональная) в таких субъектах, как город Санкт-Петербург, Архангельская, Калининградская и Мурманская области. Выявлено, что во всех четырех регионах национальная идентичность является достаточно сильной. В Санкт-Петербурге также явно выражена региональная, в Мурманской области - локальная идентичность. В Архангельской области макрорегиональная и региональная идентичности превалируют над национальной, а в Калининградской национальная, региональная и локальная идентичности одинаково сильны. Надгосударственная европейская и общемировая идентичность не имеют существенных проявлений ни в одном из рассмотренных субъектов РФ. В обсуждении результатов отмечаются перспективы использования территориальной идентичности населения как фактора мобилизации социально-экономического потенциала и ресурса обеспечения социальной безопасности территорий.
Территориальная идентичность, коллективная идентичность, социальная безопасность, социально-экономический потенциал
Короткий адрес: https://sciup.org/148327308
IDR: 148327308 | УДК: 316
Текст научной статьи Территориальная идентичность населения регионов Северо-Западного федерального округа
Регионы, входящие в состав Российской Федерации, дифференцированы не только по физико-географическим, природно-климатическим, экономическим и демографическим условиям.
Не менее значимыми представляются социокультурные отличия: историческое наследие, социальные нормы, ценности, смыслы, установки, особенности идентичности населения.
В связи с укреплением конструктивистской парадигмы в современной социологии усиливается интерес ученых к различным формам коллективной идентичности и способам ее управления, включая территориальную идентичность. Благодаря возникновению и становлению конструктивистского подхода сформировался обширный концептуальный населения регионов Северо-Западного федерального округа составляет предмет данного исследования.
В силу мультипарадигмальности социологической науки не существует унифицированного варианта интерпретации территориальной идентичности. Поэтому исследователи формулируют или селектируют определения и выделяют эмпирические индикаторы в первую очередь в соответствии с целями и задачами своих работ (анализ подходов к исследованию территориальной идентичности представлен в [14] ).
Если рассматривать территориальную идентичность как систему эмоциональных и рациональных представлений населения об определенной территории, характеризующихся устойчивостью, отражающихся в индивидуальном и коллективном сознании, способных к организации и регуляции деятельности жителей и в оформляющихся в результате этой деятельности, то в структуре данного феномена можно выделить следующие два компонента: ценностносмысловой и деятельностный.
Ценностно-смысловой компонент территориальной идентичности включает географические образы, мифы и историческую память, ценности и ценностные ориентации населения, социальные нормы.
Деятельностный компонент, на котором акцентируют внимание исследователи последних лет [2, с. 90–91], находит выражение в социальных практиках населения территории, способствует манифестации сложившихся в коллективном сознании представлений, служит укреплению, развитию и трансформации этих представлений, тем самым усиливая территориальную идентичность. В основе территориальной идентичности лежит самоотнесение индивидов с неким территориально ограниченным сообществом [23] .
Материалы и методы
Для выявления особенностей территориальной идентичности населения регионов Северо-Западного федерального округа и сравнения этих особенностей авторами был проведен вторичный анализ результатов эмпирических исследований (опросов и формализованных интервью), посвященных (полностью или частично) территориальной идентичности населения регионов СЗФО: города Санкт-Петербург, Архангельской, Калининградской и Мурманской областей.
При оценке иерархии территориальных идентичностей жителей указанных регионов в качестве методологической основы была использована описанная Т.Н. Кувеневой и А.Г. Манаковым модель, в соответствии с которой верхним уровнем территориальной идентично- сти является национальная (в политическом разрезе ей соответствует государственная), средним уровнем – региональная, нижним уровнем – локальная. При этом не стоит игнорировать существование наднациональной (цивилизационной) идентичности [8, с. 77–78]. Предваряя представление результатов настоящего исследования, отметим, что в ряде опросов, направленных на индикацию территориальной идентичности населения регионов СЗФО, в качестве наднациональной идентичности оценивалась как общеевропейская («Я – европеец»), так и общемировая, космополитическая («Я – гражданин мира / житель планеты Земля»).
Для обеспечения возможности более точного представления результатов исследования данная модель модифицирована с учетом того факта, что промежуточное положение между национальной и региональной идентичностью занимает идентичность макрорегио-нальная (табл. 1). При этом под макрорегионами понимаются «крупные экономические зоны страны с характерными природными и экономическими условиями развития производительных сил» [21, с. 203].
Таблица 1 – Иерархия территориальной и политической идентичностей
|
Уровень идентичности |
Территориальная идентичность |
Политическая идентичность |
|
Верхний |
Наднациональная (цивилизационная) |
|
|
Национальная |
Государственная |
|
|
Средний |
Макрорегиональная |
|
|
Региональная |
||
|
Нижний |
Локальная |
|
Ключевым отличием макрорегиональ-ной идентичности от региональной, помимо существенно большего пространственного охвата, является отсутствие административной детерминированности, поскольку макрорегионы не обладают четкими границами. Неудивительно, что макрорегиональная идентичность является более устойчивой и сохраняется даже при изменении политического режима государства. Вместе с тем функционирование социальных институтов и повседневность территориальных сообществ в основном ориентированы на сложившиеся административные границы, определяющие региональную идентичность, почему актуальность общей идентичности для жителей макрорегиона возникает прежде всего в чрезвычайных ситуациях или при неординарных обстоятельствах [там же, с. 203–204].
В анкетах, использованных при проведении рассмотренных опросов, основные вопросы, призванные отражать территориальную идентичность респондентов, касались самоидентификации (альтернативные вопросы, либо поливариантные вопросы, либо биполярные градуированные оценочные шкалы) и ощущения близости, единства с представителями различных территориальных сообществ (как правило, биполярные градуированные оценочные шкалы). Сопутствующие вопросы в разных исследованиях варьировались и были связаны с образом региона, оценкой привлекательности жизни и социально-экономического развития территории, миграционными настроениями.
При анализе ответов на вопросы, связанных с самоидентификацией, с единственным или множественным выбором применялся метод ранжирования. Если же эти вопросы содержали биполярные градуированные оценочные шкалы, вычислялись мода ( Мо ), медиана ( Ме ) и индекс значимости видов самоидентификации ( И З ; рассчитывается как разность между долей положительных и долей отрицательных ответов).
Основная часть
В Санкт-Петербурге наблюдается доминирование общероссийской идентичности с явно выраженной региональной. Согласно результатам исследования О.В. Поповой, проведенного с использованием метода телефонного интервью (n=1163; тип выборки – квотная; параметры контроля выборки: пол, возраст, образование, район проживания), наиболее значимыми видами территориальной идентичности петербуржцев являются национальная («Я – россиянин») и региональная («Я – петербуржец»), индекс значимости равен 0,776 и 0,735 соответственно, а наименее значимыми – локальная и надгосударственная европейская идентичность, индекс значимости – 0,365 и 0,015 соответственно (табл. 2); этническая идентичность занимает промежуточное положение, индекс значимости – 0,529 [13, с. 133]. При этом пространственные границы региона в сознании многих горожан совпадают с границами «Большого Петербурга», включающего Пушкин, Павловск, Кронштадт, Ораниенбаум, Петергоф. О. В. Попова также отмечает, что в Санкт-Петербурге период, определяющий, будет ли сформирована у иммигранта новая территориальная идентичность, составляет 5 лет [13, с. 135].
Таблица 2 – Иерархия территориальных идентичностей петербуржцев : 1 – ничего не значит, 5 – очень значимо, %
|
Ранг |
Вид территориальной идентичности |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Мо |
Ме |
И З |
|
I |
Национальная |
5,7 |
3,2 |
8,4 |
10,5 |
71,5 |
5 |
5 |
0,776 |
|
II |
Региональная |
4,7 |
2,8 |
9,9 |
13,2 |
67,8 |
5 |
5 |
0,735 |
|
III |
Локальная |
16,1 |
7,1 |
15,2 |
13,3 |
46,4 |
5 |
4 |
0,365 |
|
IV |
Надгосударственная европейская |
29,6 |
7,1 |
20,1 |
16,1 |
22,1 |
1 |
3 |
0,015 |
Источник: составлено авторами на основе [13] .
П. З. Талыбов на основе блиц-опросов и глубинных интервью с горожанами выделяет ряд ключевых пространственных мифов, разделяемых жителями Санкт-Петербурга:
-
1) Петербург – «самобытная культурная столица России»;
-
2) Петербург – европейский мегаполис, «проводник общеевропейских ценностей и западного стиля жизни»;
-
3) Петербург – элитарный город, родина политических, экономических, военных, научных элит, город «образованных масс» [17] .
А. М. Сосновская, А. В. Михайлов и О. Ю. Орлова на основе результатов интернет-опроса петербургских школьников обозначают следующие наиболее значимые для молодежи практики места: знание истории; любовь к поэзии и литературе; прогулки в белые ночи, по набережным, по крышам; творческую активность [15, с. 93].
Выраженная региональная идентичность населения Санкт-Петербурга вполне объяснима. В отличие от других субъектов СЗФО, Санкт-Петербург отличается сравнительно небольшой площадью территории и существенной пространственной гомогенностью. В силу богатого культурно-исторического наследия у населения сформировался четкий географический образ города, понимание его места в стране и мире, чувство гордости. Уникальность и высокий социокультурный статус Санкт-Петербурга многократно подчеркивались в произведениях искусства, в риторике политических деятелей, лидеров общественного мнения. Дополнительным фактором укрепления территориальной идентичности петербуржцев служит перманентное негласное противостояние культурной и официальной столицы России, Санкт-Петербурга и Москвы. Развитию региональной идентичности петербуржцев способствуют публич- ные и массовые мероприятия, организуемые городскими властями (День Победы, День города, Новый год на Дворцовой площади, «Алые паруса», День России, День народного единства, Первое мая), бизнес-сообществом и гражданскими ассоциациями (Праздник корюшки, различные локальные фестивали), открытие новых городских пространств [3; 12].
Основой региональной идентичности в Архангельской области выступает «северность» региона. По данным опроса представителей «переходного» и «постсоветского» поколений, проведенного социологами ФИЦКИА УрО РАН (n=305), наиболее распространенным вариантом самоидентификации молодежи (при ответе на поливариантный вопрос) является «Северянин» - 84,8%, что свидетельствует о доминировании макрорегиональной - северной - идентичности. В первую очередь как жителей Архангельской области себя определяют 66,3%, как граждан РФ - 57,5%. При этом значимость всех трех видов территориальной идентичности (макрорегио-нальной, региональной и национальной) оказывается существенно выше, нежели династической (35,2%), профессиональной (22,5%), этнической (10,8%) или конфессиональной (1,0%) идентичности [16] .
Специфической для Архангельской области особенностью выступает высокая значимость поморской идентичности: 77,1% опрошенных предпочитают самоидентификацию «житель Поморья» [16], а каждый второй житель области называет себя помором [7] . Это объясняется, среди других, фактом, что в 2011 году Поморье было названо брендом региона. В настоящее время политика формирования региональной идентичности в Архангельской области переориентируется на связь региона с Арктикой. Однако, как отмечает М. В. Юркова, на данный момент эта идея не оказывает существенного влияния на самоидентификацию населения [22] .
Поморская идентичность не является всецело ни территориальной, ни этнической (точнее, может выступать и той, и другой в представлениях различных респондентов). Для 52% молодежи Архангельской области Поморье -это «территория побережья Белого моря», для 22,2% -неофициальное название региона, для 3,5% - территориальный бренд. 34,9% считают поморами «всех русских, живущих на побережье Белого моря», 27% - «русских, которые раньше занимались на Севере морскими промыслами», 16,2% - всех жителей Архангельской области, а 19% полагают, что это отдельная северная национальность [16] .
А. О. Подоплекин отмечает, что, хотя региональная идентичность в Архангельской области и является выраженной, ее устойчивость находится под угрозой по причине высокой распространенности в общественном мнении негативных оценок экономики региона, социальной сферы, общественной безопасности и рынка труда, продуцирующих высокую миграционную готовность молодежи [11] . Такие оценки молодыми людьми Архангельской области условий для полноценного развития в ней, а также высокий уровень миграционной готовности уже были выявлены ранее в [10] .
В Калининградской области в 2003-2015 гг., в соответствии с замерами приоритетной идентичности в массовых опросах И. И. Жуковского и Е. С. Фидри (табл. 3), на первый план выходила национальная (общероссийская) или локальная идентичность: первая фиксировалась у 31,5%-41,4%, вторая - у 26,8% -40% респондентов, в то время как региональная варьировалась от 15,8% до 22,5%. При этом национальная идентичность непрерывно усиливалась с 2001 года, а локальная сталкивалась с существенными колебаниями, и после 2004 года начала ослабевать [5, с. 82].
Таблица 3 - Территориальная идентичность населения Калининградской области в 2001–2015 гг.
|
Вид территориальной идентичности |
2001 |
2003 |
2004 |
2011 |
2015 |
|
Локальная |
32,2 |
27,5 |
40 |
36 |
26,8 |
|
Региональная |
28 |
21,2 |
19,9 |
15,8 |
22,5 |
|
Национальная |
24,6 |
31,5 |
32,5 |
36 |
41,4 |
|
Европейская |
2,6 |
7,6 |
2,4 |
1,5 |
2,4 |
|
Космополитическая |
6,6 |
6,7 |
4,1 |
9,9 |
5,6 |
Источник: составлено авторами на основе [5
В 2015 году иерархия была следующей:
-
1) национальная идентичность - 41,4%;
-
2) локальная идентичность - 26,8%;
-
3) региональная идентичность - 22,5%;
-
4) космополитическая идентичность -5,6%;
-
5) европейская идентичность - 2,4% [5].
Начиная с 2016 года Балтийским федеральным университетом им. И. Канта проводится мониторинг, в ходе которого оценивается множественная идентичность жителей региона: респондентам предлагается указать, насколько сильно они чувствуют собственную принадлежность к различным территориальным сообществам (жителям своего города / села, жителям области, жителям России, европейцам и жите- лям планеты Земля). Использование такой методики не позволило обнаружить существенных отличий в степени выраженности национальной, региональной и локальной идентичности. Поэтому А. В. Щекотуров и М. И. Кришталь указывают, что данные способы идентификации являются для населения Калининградской области первостепенными, в отличие от европейской и космополитической идентичности [20, с. 52– 53]. Менее значимые их проявления были зафиксированы в обоих мониторингах: в 2001– 2015 гг. и 2016–2020 гг. [5, с. 82; 20, с. 53].
Выраженность трех видов территориальной идентичности среди населения Калининградской области подтверждаются данными опроса «Социокультурная модернизация
СЗФО», проведенного ФГБУН ВолНЦ РАН в 2017 году. Значения вычисленного М. А. Груздевой и О. Н. Калачиковой на его основе коэффициента интенсивности близости с различными территориальными сообществами (в соответствии с типовой методикой Центра изучения социокультурных изменений Института философии РАН, рассчитываются как отношение доли отметивших близость к доле отметивших отдаленность [9] ) свидетельствуют о том, что национальная, региональная и локальная идентичность жителей региона существенно сильнее соответствующих видов идентичности в других субъектах СЗФО: Вологодской, Мурманской, Новгородской областях и Республике Карелия (табл. 4).
Таблица 4 – Коэффициент интенсивности близости с различными территориальными сообществами
|
Вариант ответа |
Вологодская область |
Калининградская область |
Мурманская область |
Новгородская область |
Республика Карелия |
|
Жители поселения, в котором я живу |
12,6 |
43,5 |
12,1 |
10,3 |
15,1 |
|
Жители всей моей области |
4,5 |
39,0 |
7,9 |
4,8 |
7,2 |
|
Жители Москвы – столицы России |
1,2 |
2,5 |
1,6 |
1,1 |
0,9 |
|
Жители всей России |
1,0 |
2,3 |
1,9 |
1,3 |
0,7 |
|
Жители бывших республик СССР |
0,5 |
1,0 |
0,9 |
0,7 |
0,3 |
|
Жители всей Земли |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,4 |
0,2 |
Источник: [4, с. 311].
В ходе опросов, проводимых А. В. Ще-котуровым и М. И. Кришталем, были обнаружены динамические трансформации территориальной идентичности жителей Калининградской области: если в 2016–2018 гг. доли положительных оценок респондентами собственной локальной, региональной и национальной идентичности не опускались ниже 90%, то в 2020 году их значения не превышали 80% – и все это на фоне увеличения уровня космополитической идентичности с 44% в 2018 г. до 55% в 2020 г. [20, с. 53].
Можно заключить, что в Калининградской области наиболее устойчивой и стабильной является национальная идентичность, в то время как динамика локальной и региональной идентичности оказывается в большей степени изменчивой. Космополитическая идентичность, как правило, доминирует над европейской. На первый взгляд, высокая значимость для жителей области национальной (общероссийской) идентичности и столь же низкая значимость европейской противоречат географическому положению региона-эксклава. Однако калининградский кейс иллюстрирует символическую устойчивость территории – носителя российской культуры, окруженной европейскими странами. Усиливающаяся национальная идентичность выступает адаптационным механизмом, обеспечивающим социокультурное единство Калининградской области и остальной России.
Для анализа особенностей территориальной идентичности населения Мурманской области мы обратились к исследованию научно-исследовательской лаборатории Мурманского государственного гуманитарного университета среди молодых людей от 14 до 30 лет (n=955, тип выборки – квотная). Согласно результатам опроса, в структуре территориальной идентичности наибольшей силой обладает национальная: 49,6% респондентов оценивают свою привязанность к России на наивысший балл («5»). Локальная идентичность занимает второе место: наивысшие оценки дают 35,4% опрошенных. Четверть респондентов отмечают наибольшую привязанность к макрорегиону – Северу, одна пятая – к Мурманской области, 26,4% и 20,1% соответственно [19, с. 167].
Для составления иерархии авторами были рассчитаны индексы значимости видов территориальной идентичности (табл. 5).
Таблица 5 – Иерархия территориальных идентичностей молодежи Мурманской области:
1 -практически отсутствует, 5 - сильная, %
|
Ранг |
Вид территориальной идентичности |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Мо |
Ме |
И З |
|
I |
Национальная |
8,1 |
7,6 |
13,9 |
20,8 |
49,6 |
5 |
4 |
0,547 |
|
II |
Локальная |
6,4 |
8,5 |
21,0 |
28,8 |
35,4 |
5 |
4 |
0,493 |
|
III |
Региональная |
9,8 |
11,2 |
26,9 |
31,9 |
20,1 |
4 |
4 |
0,31 |
|
IV |
Макрорегиональная |
13,4 |
13,0 |
23,1 |
24,0 |
26,4 |
5 |
4 |
0,24 |
Источник: рассчитано авторами на основе [19] .
Оценка молодежью привлекательности жизни в регионе не является ни оптимистической, ни сугубо критической. Большинство респондентов (43,4%) отмечают, что в одинаковой степени присутствуют черты привлекательности и непривлекательности. Второй по популярности ответ – 22,5% – что жизнь в Мурманской области скорее привлекательна, чем не привлекательна, а третий – 16,9% – скорее не привлекательна, чем привлекательна. Наиболее высокие оценки привлекательности дают 7,3%, наиболее низкие – чуть больше, 9,9% [19, с. 169].
Слабо выраженную региональную идентичность иллюстрируют ответы на вопросы, касающиеся миграционных установок. Неудивительно, что молодые люди – основные образовательные мигранты – в большинстве своем планируют переезд: 56,1% против 21,9% тех, кто не планирует. При этом лишь 11% собираются найти новое место жительства внутри Мурманской области, в то время как 45,2% планируют уехать в другой регион / страну [19, с. 176].
Результаты омнибуса, проведенного лабораторией социологических исследований при филиале Мурманского арктического государственного университета в г. Апатиты и охватившего 702 жителей области от 18 до 82 лет, также подтверждают выявленную иерархию территориальных идентичностей. Около 2/3 респондентов хотели бы переехать в другой регион России (одна треть – в среднюю полосу, около 17% – в Москву, 13% – на юг), в то время как внутри региональная миграция привлекательна лишь для 15%, а международная – для 6%, что свидетельствует о более тесной связи населения области со страной, нежели с регионом проживания [18, с. 144].
Список литературы Территориальная идентичность населения регионов Северо-Западного федерального округа
- Александрова С. Ю., Угольникова О. Д. Общероссийская идентичность как культурологический аспект обеспечения социальной безопасности // Инновационные технологии и вопросы обеспечения безопасности реальной экономики, ITES-2022: Материалы IV Всероссийской науч.-практ. конф., Санкт-Петербург, 25 марта 2022 года / Под ред. Г. В. Лепеша, О. Д. Угольниковой, С. Ю. Александровой. СПб.: СПбГЭУ, 2022. С. 5–14.
- Воробьева И. Н. Факторы формирования территориальной идентичности населения: социологический анализ // Проблемы развития территорий. 2023. № 2. С. 89–109.
- Гигаури Д. И. «Город над вольной Невой»: развитие территории и новая идентичность жителей Санкт-Петербурга // Город. Среда. Политика. 2018: Сб. материалов науч.-практ. конф. / Под ред. Л. А. Гайнутдиновой и М. В. Невзорова. СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2019. С. 62–65.
- Груздева М. А., Калачикова О. Н. Социокультурные характеристики населения регионов Северо-Западного федерального округа: общее и особенное // Вестник Удмуртского университета. Социология. Политология. Международные отношения. 2019. Т. 3. № 3. С. 306–316.
- Жуковский И. И., Фидря Е. С. Восприятие жителями Калининградской области статуса региона: динамика в 2001–2016 гг. и факторы формирования предпочтений // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. 2015. № 6. С. 73–89.
- Идентичность: Личность, общество, политика: Энцикл. изд. / отв. ред. И. С. Семененко. М.: Весь Мир, 2017. 992 с.
- Каждый второй житель Архангельской области называет себя помором [Электронный ресурс]. URL: https://region29.ru/2021/11/06/61862d4d179bed2ea0692e12.html (дата обращения: 25.06.2023).
- Кувенева Т. Н., Манаков А. Г. Формирование пространственных идентичностей в порубежном регионе // Социологические исследования. 2003. № 7. С. 77–83.
- Лапин Н. И., Беляева Л. А. Программа и типовой инструментарий «Социокультурный портрет региона России» (Модификация – 2010). М.: ИФ РАН, 2010. 112 с.
- Методическая база [Электронный ресурс]. URL: https://молодежьсеверодвинска.рф/services/metodicheskaya-baza/#1568378906691-eefa4ced-0289 (дата обращения: 12.07.2023).
- Подоплекин А. О. Региональная и этническая самоидентификация представителей «переходного» и «постсоветского» поколений в европейской части Арктической зоны России (на примере Поморья) // Россия: общество, политика, история. 2022. № 4. С. 178–197.
- Попова О. В. Политика идентичности: отношение петербуржцев к праздничным мероприятиям в городе // ПОЛИТЭКС. 2017. Т. 13. № 4. С. 37–48.
- Попова О. В. Территориальная идентичность петербуржцев: европейская vs региональная // Формирование современной европейской идентичности в рамках интеграции ЕС: социальное и культурное измерения / Под ред. Е. В. Викторовой. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2018. С. 130–137.
- Скалабан И. А., Серебрянникова О. А. Территориальная идентичность как фактор социального участия: поколенный контекст // Идеи и идеалы. 2014. № 1. С. 65–74.
- Сосновская А. М., Михайлов А. В., Орлова О. Ю. Нематериальное наследие и идентичность молодежи Санкт-Петербурга // Управленческое консультирование. 2018. № 2. С. 88–99.
- Социологи ФИЦКИА УрО РАН оценили состояние этнической, гражданской и региональной идентичности молодёжи региона [Электронный ресурс]. URL: http://fciarctic.ru/index.php?page=news&id=661 (дата обращения: 12.07.2023).
- Талыбов П. З. Особенности пространственной идентичности – Санкт-Петербург // Сравнительная политика. 2014. № 4. С. 86–88.
- Тертышная К. А. Региональная идентичность населения Мурманской области в свете российских социологических исследований // Труды Кольского научного центра РАН. 2019. № 2. С. 139–145.
- Шарова Е. Н., Ануфриева Т. В. Региональная идентичность молодежи Мурманской области // ЖССА. 2015. № 2. С. 163–180.
- Щекотуров А. В., Кришталь М. И. Динамика территориальной идентичности и восприятия статуса региона жителями Калининградской области в 2016-2020 гг. // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. 2021. Т. 27. № 3. С. 43–61.
- Щербаков, А. Ю. Символические границы макрорегиональной идентичности: уральский случай // Дискурс-Пи. 2014. № 2-3. С. 202–205.
- Юркова М. В. Арктический аспект формирования региональной идентичности жителей Архангельской области // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2018. № 29. С. 163–171.
- Florida R. Who's Your City?: How the Creative Economy Is Making Where to Live the Most Important Decision of Your Life. N. Y.: Basic Books, 2008. 374 pp.