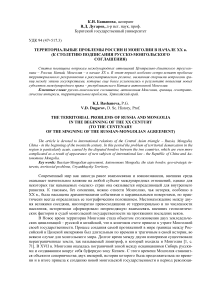Территориальные проблемы России и Монголии в начале ХХ в. (к столетию подписания Русско-монгольского соглашения)
Автор: Башанова К.И., Дугаров В.Д.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Статья в выпуске: 4 (43), 2013 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена вопросам международных отношений Центрально-Азиатского треугольника Россия, Китай, Монголия в начале ХХ в. В этот период особенно остро встает проблема территориального разграничения в рассматриваемом регионе, вызванная спорными вопросами границ между этими государствами, которые еще более усложнились в результате появления новых субъектов международного права республиканского Китая и автономной Монголии.
Русско-монгольское соглашение, автономная монголия, граница, геостратегические интересы, территориальные проблемы, урянхайский край
Короткий адрес: https://sciup.org/142148154
IDR: 142148154 | УДК: 94
Текст научной статьи Территориальные проблемы России и Монголии в начале ХХ в. (к столетию подписания Русско-монгольского соглашения)
Современный мир как никогда ранее взаимосвязан и взаимозависим, внешняя среда оказывает значительное влияние на любой субъект международных отношений, однако для некоторых так называемых «малых» стран она оказывается определяющей для внутреннего развития. К таковым, без сомнения, можно отнести Монголию, чья история, особенно в ХХ в., была насыщена драматическими событиями и кардинальными поворотами, но практически всегда определялась ее географическим положением. Местонахождение между двумя великими соседями, многократно превосходящими ее территориально и по численности населения, исторически сформировало непреходящую взаимосвязь внешних геополитических факторов и судеб монгольской государственности на протяжении последних веков.
В Новое время территория Монголии стала объектом столкновения двух земледельческих цивилизаций – русской и китайской, что в конечном счете привело к утрате Монголией своей государственности. Процесс создания самой протяженной в мире границы между Российской и Цинской империями был длительным по времени и трагичным в своей истории, во всяком случае для монгольского мира. Долгое время между двумя империями существовали неразграниченные земли, так называемый лимитроф, в который входила и Монголия [1, с. 71]. В XVII в. Монголия оказалась пограничной зоной между осваивавшими Сибирь русскими и создававшим вокруг себя буферную зону Китаем. С этого времени Монголия становится объектом соперничества двух империй, история которого была продолжительна по времени и в итоге привела к созданию новой монгольской государственности в период революци- онных преобразований в России и активного революционного процесса в Китае, гражданских и мировых войн [5, с. 53].
В противостоянии России и Китая за обладание Монголией в начале ХХ в. задачей первого плана становится определение места и роли малых государств в глобальных и региональных конфликтах того времени. Оригинальной в этом отношении является мысль востоковеда С.Г. Лузянина, выделяющего внешнеполитическую особенность Монголии: сочетание активного и пассивного начала в монгольском курсе на мировой арене (Монголия как объект политики России, Китая, Японии и, одновременно, Монголия как субъект собственной государственной политики). Он, в частности, выделяет этнорегиональный уровень международной политики Монголии в пределах российско-монголо-китайской границы, на котором Монголия «могла быть активным субъектом, проводившим в рамках той или иной идеологической доктрины собственную линию относительно Внутренней Монголии, Тувы, Бурятии, Тибета и других сопредельных этнорегионов» [7, с. 38].
В 1911 г. Внешняя Монголия (Халха), изгнав маньчжуров, провозгласила свою независимость. Во главе Халхи стал первоиерарх монгольской буддийской церкви Богдо-гэгэн VIII (Джебзун-Дамба-хутухта), получивший титул Богдо-хана (Великого хана). Основу внешней политики составляла борьба за международное признание суверенитета Монголии. Правящие круги стремились создать единое государство, включавшее Халху, Западную Монголию и княжества Внутренней Монголии. Объективно такая политика была прогрессивной, так как направлялась на возрождение национальной государственности и способствовала подъему национального самосознания.
Еще в августе 1911 г. монгольское правительство направило письмо русскому царю с предложением заключить договор о признании независимости Монголии. Считаясь с негативной реакцией европейских держав, правительство Николая II отклонило предложения монгольских феодалов о восстановлении государственной независимости Монголии и признании полной автономии. Тем не менее Россия решила принять на себя посредничество в отношениях между Монгольским государством и Китаем и оказать монголам возможную поддержку. Влияние России на Внешнюю Монголию в основном шло через развитие торговли. В связи с принятием в 1891 г. решения о строительстве Транссибирской железнодорожной магистрали в начале ХХ в. в России активизировался процесс освоения восточных окраин и укрепления безопасности дальневосточных границ. Монголия входила в зону российских экономических интересов и в связи с дальнейшей политической и экономической самостоятельностью Внешней Монголии. Правительство России стремилось изолировать Внешнюю Монголию от иностранного капитала и привязать экономически к Транссибирской магистрали.
21 октября 1912 г. было заключено русско-монгольское соглашение о гарантиях со стороны России автономии Халхи в составе Китая. В ответ на протесты официального Пекина, который указывал, что «Монголия является составной частью Китая, и, хотя в ней и происходят волнения, она отнюдь не правоспособна заключать соглашений с иностранными государствами» [9, с. 32], 5 ноября 1913 г. в Кяхте была подписана декларация, формулирующая позиции сторон в возникнувшем споре о статусе Внешней Монголии. Власть Богдо-гэгэна подкреплялась соответствующими гарантиями, которыми и обеспечивалось и сохранение монгольской теократии при республиканском правительстве Китая.
В целях урегулирования имеющихся разногласий и дальнейшего определения статуса Внешней Монголии 7 июня 1915 г. было подписано русско-китайско-монгольское (так называемое «Тройное соглашение») соглашение об автономии Внешней Монголии. Правительство Богдо-гэгэна получало исключительное право ведать всеми внутренними делами управления, иметь дипломатическое представительство за границей, а также могло заключать международные договоры и соглашения, касавшиеся вопросов торговли и промышленности. Оно было лишено права заключения международных договоров с другими государствами, по которым предусматривалось решение политических и территориальных проблем [9, с. 68].
Оказывая поддержку монголам в их борьбе за освобождение от Цинской империи и позже от Китая, Россия имела в виду собственные стратегические и экономические интересы в Северной и Западной Монголии. Так, например, министр иностранных дел С.Д. Сазонов предлагал включить в границы фактически отделившейся к тому моменту Внешней Монголии Кобдосский и Алтайский округа (западные регионы современной Монголии), так как «это соответствовало бы нашим интересам», ибо «в географическом, экономическом, этнографическом отношениях они являются естественным продолжением Халхи и примыкают к нашей границе, представляя удобный заслон от Китая» [2, с. 67]. Одновременно с этим Сазонов выступал против включения в состав отделившейся Внешней Монголии Внутренней Монголии и Барги (населенной монголами области Маньчжурии). Подобную позицию можно объяснить следующими причинами. Во-первых, включение Внутренней Монголии в состав отделившейся Внешней Монголии противоречило условиям секретных русско-японских соглашений 1907 и 1910 гг. о разделе между Петербургом и Токио сфер влияния в Монголии и Маньчжурии. Во-вторых, Россия была заинтересована в укреплении антикитайских сил лишь в тех районах Монголии, которые территориально отделяли российские границы от Китая. В подобном подходе преобладали соображения геостратегического характера [8, с. 45].
Поддерживая монголов, Петербург выступал за предоставление Внешней Монголии статуса автономии в составе Китая и отрицательно относился к идее ее полной независимости. И в российско-монгольской декларации 1912 г., и в российско-китайской декларации 1913 г., и, наконец, в Кяхтинском тройственном (России, Китая и Монголии) соглашении 1915 г. царское правительство последовательно отстаивало эту позицию [3, с 42]. Тем самым оно стремилось сохранить исторически сложившийся баланс сил, существовавший в регионе на протяжении двух столетий. Не случайно в основу Кяхтинского соглашения легли три основных требования России к Китаю: не содержать во Внешней Монголии китайских войск, не колонизировать ее земель, не вводить в ней китайскую военную и гражданскую администрацию [10, с. 103]. Фактически подобные условия означали сохранение традиционной системы отношений между Внешней Монголией, Россией и Китаем, в которой монгольская территория являлась естественной преградой между обширной частью российской территории и Китайским государством.
Кроме сохранения регионального статус-кво , в политике России присутствовало опасение за целостность собственной территории. Образование независимого Монгольского государства, по мнению представителей Российского руководства, могло послужить стимулом к национальному движению родственных монголам российских бурят [8, с. 46]. О том, что российские власти рассматривали возможность существования подобных связей, свидетельствует телеграмма управляющего МИД посланнику в Пекине от 9 сентября 1911 г., в которой говорилось следующее: «... мы не намерены поощрять среди наших буддистских подданных волнений, которые могли бы передаться в Монголию; но и китайское правительство хорошо сделает, если со своей стороны откажется от мер, вызывающих в Халхе брожения, которые могут передаться в наши пределы» [11, с. 135].
Также на протяжении всего периода переговоров монгольской стороной неоднократно поднимался вопрос об Урянхайском крае. Монгольское правительство заявляло, что не может отказаться от этого края, ибо он искони входил в состав Монголии, к тому же, тану-урянхайцы обратились в Ургу с просьбой о принятии их в подданство. И ныне, ввиду объединения всех монголов, Урянхайская земля должна войти в состав Халхи [6, с. 249]. Притязания Ургинского правительства Петербург посчитал малообоснованными, поскольку для России эти территории тоже представляли интерес.
Урянхайский край лежит в Западной Монголии и прилегает к Сибири, гранича с Енисейской, Томской и Иркутской губерниями. Область эта, орошаемая Верхним Енисеем и его притоками, изобилует реками, озерами, лесами и пастбищами. Кроме того, Урянхайский край богат минералами - золотом, железом, медью, асбестом, каменной солью и проч. Богат- ства эти, за немногими исключениями, никем не использовались из-за отсутствия рабочих рук и капиталов, а также ввиду неустойчивости положения края [6, с. 250].
Между тем российское правительство могло привести некоторые доводы в пользу своих прав на Верхний Енисей. Еще в начале XVII в. местные племена являлись данниками Москвы и платили ясак сибирским воеводам, а их правитель Алтын-хан присягнул на верность царю Михаилу Федоровичу. Смерть Алтын-хана в 1657 г. прервала даннические отношения урянхов и отвлекла внимание Москвы от бассейна Верхнего Енисея. Следующим этапом в разграничении территорий в этой области стало заключение в 1727 г. договора с Китаем в Кяхте. Договор этот, заключенный русским посланником Саввой Владиславичем Рагу-зинским, установил русско-китайскую границу на всем протяжении между Сибирью и Монголией. Вследствие политических обстоятельств того времени внимание было, главным образом, направлено на центральные и восточные участки, поскольку при заключении Нерчинского договора 1689 г. территория между реками Горбица и Уда осталась не разграниченной. На южном и западном участках китайским комиссарам удалось провести границу в желательном для Китая направлении – по южному склону Саянского хребта. Таким образом, бассейн Верхнего Енисея и Урянхайский край были формально включены в китайские владения. Однако Пекинское правительство продолжало смотреть на него как на полузависимую область, а проведенная граница вызывала сомнения российской стороны [6, с. 253].
По мнению проф. А.Д. Воскресенского, юридическое оформление государственных границ и принадлежности буферных зон между Россией и Китаем, к которым, мы считаем, вполне правомерно отнести и Урянхайский край, отражало изменение внутри региональной системы русско-китайских отношений. Главным образом благодаря наличию подобных буферных зон, где официальная граница могла меняться, этим государствам всегда удавалось решать свои проблемы и восстанавливать стабильное равновесие посредством дипломатических переговоров [4, с. 87].
Иллюстрацией положения в Урянхае служит мнение известного английского исследователя Монголии Д. Каррутера, посетившего эту страну в 1909 г.: «При взгляде на бассейн Верхнего Енисея, я понял, что эта местность, хоть и находится в пределах Китайской империи, но, в сущности, принадлежит Сибири. Физически, политически и экономически бассейн должен принадлежать России, а не Монголии, и неизбежность поглощения этой местности Сибирью легко себе представить» [12, с. 97].
В конце концов, на основании русско-монгольского соглашения в состав Халхи, кроме четырех аймаков, вошли Улясутайский и Кобдосский округа, Урянхайский же край оказался отрезанным от Син-цзяна и Алтая, оставшихся под властью Китая.
Вспыхнувшая в Китае в 1911 г. революция ускорила развязку Урянхайского вопроса. В 1913 г. российское правительство высказалось в пользу постепенного подчинения Урянхая России, отметив необходимость пересмотра границы с Китаем. Осенью 1914 г. местное население было оповещено о принятии края под покровительство России. Вскоре в Урянхайском крае был основан в качестве административного центра город Белоцарск, чем подтвердилось решение считать этот край русским. В Китае объявление протектората не вызвало протеста. Урга также не стала открыто выступать против России и вынуждена была на время отказаться от планов включения указанных территорий в состав своего государства. Все последующие притязания на Урянхайский край как со стороны Урги, так и со стороны Пекина российским правительством были твердо отклонены.
Таким образом, Российская империя проводила сложную дипломатическую политику. С одной стороны, Россия стремилась к укреплению влияния на Внешнюю Монголию, а с другой, - дорожила стабильными отношениями с Китаем. К этому запутанному клубку международных противоречий добавлялись и территориальные проблемы, вызванные спорными вопросами границ в Центрально-Азиатском регионе и усложнившиеся в результате появления новых субъектов международного права – республиканского Китая и автономной Мон- голии.