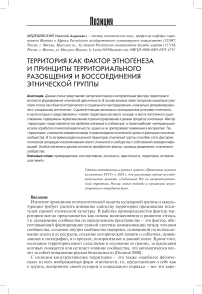Территория как фактор этногенеза и принципы территориального разобщения и воссоединения этнической группы
Бесплатный доступ
Данная статья представляет авторский подход к интерпретации фактора территории в контексте формирования этнической идентичности. В основе анализа лежит авторская концепция трактовки этноса как объекта исторического и социального конструирования, изначально детерминированного «социальным инстинктом». С данной позиции изначально эссенциальные установки этничности, в числе которых и представление о «своей» территории как месте «исхода» и месте постоянного существования, подвержены переосмыслению и реконструированию в рамках процесса этногенеза. Фактор «территории» представляется как наиболее значимый и стабильный, а также наиболее «материальный» из всех атрибутов этнической идентичности, однако и он претерпевает изменения в восприятии. Так, «территория» становится элементом мифа о происхождении этнической группы и фактором сплочения сообщества. В то же время раздел исконной территории этнической группы способен стать фактором этнической сепарации и возникновения нового этнического сообщества с собственной самоидентификацией. Особое значение в данном контексте приобретает фактор «границы разделения» этнического сообщества.
Примордиализм, конструктивизм, этничность, территория, историческая память
Короткий адрес: https://sciup.org/170210372
IDR: 170210372 | DOI: 10.24412/2071-5358-2025-3-29-37
Текст научной статьи Территория как фактор этногенеза и принципы территориального разобщения и воссоединения этнической группы
Изучение принципов психологической защиты культурной группы и аккультурации требует уделить внимание единству территории проживания носителей единой этнической культуры. В работах примордиалистов фактор территории всегда представляется как основа возникновения и развития этноса, т.к. проживание сообщества на определенном пространстве – это фактор, обеспечивающий формирование единой системы коммуникации между членами сообщества, создание внутри сообщества иерархии, основанной на использовании земли и ее ресурсов, создание исторической памяти о событиях, привязанных к топографии, и о предках, похороненных в данной земле. Кроме того, осознание территории имеет следствием и осознание ее границ, за пределами которых снижается или исчезает влияние сообщества, что автоматически влечет за собой повышение рисков безопасности [Осипов 2008].
С позиции конструктивизма территория – это также «наиболее физическая» из всех воображаемых форм этничности, т.к. представления о себе как о группе, восприятие своей истории и социального порядка – все это коре- нится в географии, физическом пространстве, на котором происходили определенные события [Тишков 2003], или применительно к которому относятся «воображаемые сообщества» как в статике, так и в динамике их существования [Андерсон 2016]. Так, даже если мерилом этнической идентичности выступает отдельный человек и его внутреннее личное восприятие собственной принадлежности к сообществу, отправной точкой для его самоидентификации все равно выступает место, а точнее, комплекс воображаемых мест, отвечающих на вопросы «где я», «где я хочу быть», «откуда я» и «где я буду». В идеале при статичной этнической самоидентификации ответы на данные вопросы совпадают, что особенно характерно для традиционных обществ, характеризующихся низкой мобильностью их членов.
Вне зависимости от парадигмы, с позиции которой мы изучаем этническую группу и ее идентичность, следует признать примат и безусловное значение территории в вопросе индивидуальной, и особенно групповой самоидентификации, в результате чего можно говорить об этнотерриториальной идентичности, которая «в определенном контексте может рассматриваться человеком как устойчивая и даже неизменная» [Мочалов 2017].
В то же время даже в условиях традиционного мировоззрения совпадение желаемых, вынужденных и реальных локаций нахождения индивида присутствует далеко не всегда и может быть обусловлено как временным перемещением, выраженным в ожидании возвращения и восстановления status quo в виде совпадения исходной, реальной и желаемой локации, например в рамках какой-либо поездки, так и перемещением, не предполагающим возвращения и восстановления status quo . В данной связи показательным историческим примером является в т.ч. рабство, которое определенно не предполагает возвращения человека на родину [Андерсон 2016] и в глазах окружающих его людей в социальном плане превращает его в маргинала, являющегося заложником своего статуса человека, не связанного с территорией, и человека, за которым больше не стоит «его сообщество».
Однако даже в традиционных обществах территория объективно далеко не всегда статична. Этническое сообщество подвержено миграции, которая в большинстве случаев является вынужденной и может быть обусловлена негативным внешним воздействием, например экспансией другого народа, природными явлениями, эпидемиями, а также резким демографическим ростом населения. Все эти причины приводят этнос в движение и заставляют его менять территорию своего проживания, параллельно создавая в коллективном сознании дуалистический образ территории, комбинирующий пространство исхода и пространство нахождения. Оба данных пространства выступают объектом нашего изучения как исторические детерминанты, формирующие этногенез.
Методология и историография
В методологическом плане данная работа основана на авторском подходе к интерпретации этнической идентичности, представленном в статьях «На стыке примордиализма и конструктивизма: осмысливая понятие “этнос”», часть 1 и часть 2 [Медушевский 2025а; Медушевский 2025б], в соответствии с которым автор представляет универсальные примордиалистские детерминанты этнической идентичности как динамические и подверженные трансформации с точки зрения их фактического восприятия. Сама же этническая идентичность обладает основой для формирования и обретения формы на основе базового «социального инстинкта», переходящего в осознание необ- ходимости сохранения и развития этнической солидарности и ее укрепления через обретение исторической памяти и конструирование исторического наследия.
В данной статье автор обращается к анализу фактора территории в рамках формирования этнической идентичности, который проводит с опорой на работы ряда исследователей [Андерсон 2016; Тишков 2003; Мочалов 2017; Асман 2004].
Территория и миф о происхождении
В дуалистическом образе территории, комбинирующем пространство исхода и пространство нахождения, оба данных пространства связаны с самоидентификацией членов этноса. Но если пространство нахождения подтверждается самим фактом жизни на нем этнической группы, а также накоплением исторически приобретаемых знаний о данной территории, то пространство исхода физически отдалено от визуального и хронометрического восприятия, что ведет к его мифологизации и сакрализации периода жизни в данной локации, становясь частью мифа о происхождении народа [Тишков 2003].
Миф о происхождении выступает доминирующей категорией этногенеза, т.к. трактуется как «коренное основание» [Андерсон 2016] для совместного существования членов этнической группы и является символом их первичного исторического единства [Гулыга 1980], в рамках которого заложены атрибуты других элементов этнической идентичности – родства, языка, религии, культуры и т.д. Вопрос территории происхождения выступает лишь одной из частей мифа о происхождении, наряду с предками-основателями, историческими врагами, а также сакральными сущностями, причастными к возникновению народа [Eliade 1963].
Отметим, что образ пространства исхода в сознании членов этнической группы может быть вариативен, что обусловлено целым рядом факторов. В числе первых следует отметить продолжительность существования группы в данной локации и уровень приобретенного там культурного развития. Очевидно, что если рассуждать просто о миграции популяции народонаселения, как это, например, происходило в каменном веке, то категория пространства исхода либо будет отсутствовать, либо окажется слабо сформированной, т.к. память сообщества о существовании в данной локации крайне слабо подтверждена фактологической информацией о культурных достижениях и исторических событиях, происшедших на данной территории.
В то же время если этническое сообщество прошло путь складывания в рамках конкретной географической локации, обрело традиции и обычаи, привязанные к местности, климату и иным территориальным особенностям, то память о данной локации неизбежно останется в сознании членов этнической группы как платформа формирования их внутриэтнической солидарности [Асман 2004] и может считаться примордиальной установкой, передаваемой от поколения к поколению.
Вторым фактором, влияющим на восприятие пространства исхода, является время, прошедшее с момента данного исхода [Асман 2004]. Можно говорить о прямой зависимости между восприятием образа территории и временем, прошедшим с момента ее оставления. В данной связи мы выделяем три этапа памяти о территории исхода.
Первый связан с «живыми воспоминаниями» об оставленной территории. Живые воспоминания – это память людей, ушедших с исходной территории в осознанном возрасте. Данная память хранит практические знания о местности и воспоминания о социальных практиках, в которых носители памяти участвовали, проживая на данной территории. Живая память стирается со смертью ее носителей даже в том случае, если данные носители передали ее потомкам в устной или письменной форме, что объясняется неспособностью последующих носителей данной информации трактовать ее исходя из контекста, воспринятого в локации исхода. Иными словами, передаются только более или менее полные фрагменты знания, но не исходное восприятие контекста существования в оставленной локации.
Второй этап памяти связан с сохранением фрагментов информации о существовании этнической группы на покинутой территории [Асман 2004]. Данный этап по своей длительности может сильно отличаться от группы к группе, что обусловлено формой хранения и передачи информации, а также ее актуализированностью. Самую продолжительную передачу информации обеспечивают письменные источники, хроники, мемуары, летописи. Данные документы могут существовать даже тысячелетиями, на что указывает пример еврейского народа, который фактически сделал исторические документы такого типа основой сохранения своей этнической идентичности. Тем не менее здесь тоже присутствует нюанс, связанный с сохранностью документов и сохранением навыка их восприятия. Последнее связано с изменением языка, культуры речи и менталитета членов этнической группы, сохраняющих историческую память о территории исхода на основе древних документов. Со временем для них актуализируется задача не только прочитать старые хроники, но и понять их реальный смысл, который без дополнительной, несохранившейся информации становится все менее понятным.
Наряду с письменной передачей информации о территории исхода, что в истории архаичных народов встречается крайне редко из-за отсутствия либо крайне ограниченного распространения письменного языка, применяется устная передача информации, которая может быть как систематизированной, так и бессистемной. Под систематизированной передачей информации мы подразумеваем существование особого института «сказителей», или «бардов», которые во многих архаичных культурах зазубривали целые комплексы исторических рассказов для их популяризации среди аристократии и жречества и дальнейшей передачи потомкам. Обычно данные традиции системной устной передачи исторической информации, в т.ч. о территории исхода, существовали до сильного социального кризиса, в рамках которого традиция передачи подобной информации прерывалась либо данная традиция перерастала в традицию рассказов о прошлом, в которой фактологическая информация все больше уступала место вымыслу, превращаясь в мифы и легенды. Еще быстрее данный процесс происходил в случае бессистемной передачи информации от старшего поколения к младшему, где каждый рассказчик заново адаптировал передаваемую информацию, выбирая из ее общего массива данные, с его личной точки зрения, наиболее подходящие для конкретного рассказа или поучения.
Третий этап памяти о территории происхождения и исхода этнической группы можно связать с реанимацией памяти [Рикер 2004]. Данный этап, как правило, начинается вместе с системным накоплением исторической памяти [Нора и др. 1999], когда история превращается в инструмент социального сплочения и управления и, в соответствии с нашим методологическим подходом, у группы возникает потребность в системном представлении о собственной идентичности, когда группа формируется в этнос, а позже – в нацию с присущим ей историческим наследием. В данном контексте ответ на вопрос «откуда мы?» становится уточнением к ответу на вопрос «кто мы?», что побуждает уже историков сообщества изучать корни происхождения народа с использованием различных научных методов лингвистики, этнологии, антропологии и археологии [Лобанов 2012].
Территория как фактор сплочения и разобщения этнической группы
Констатировав приоритетное значение территории как фактора этногенеза, мы также должны отметить, что данный идентификационный признак не безусловен. Проживая на конкретной территории, этническое сообщество во многом подчинено ее характеристикам (ландшафт, климат, границы и др.) [Тишков 2003]. Данные характеристики влияют на расселение людей по отдельным локациям, способствуют или препятствуют связям между этими локациями, обеспечивают естественную защиту или угрозу проживанию людей, а также детерминируют их быт, ремесла, обычаи, традиции и, в целом, культурное развитие. Вторичным по отношению к территории фактором становится проживающее на ней народонаселение, с которым переместившейся этнической группе требуется взаимодействовать, бороться, ассимилировать либо ассимилироваться. В итоге связка территория – этническая группа неизбежно приобретает уникальные характеристики с точки зрения территориально обусловленных социальных отношений и может как способствовать интеграции этнической группы, ее сплочению и укреплению связей между локальными пространствами, так и препятствовать интеграции, приводя, в конечном итоге, к полному разобщению локалитетов и их интерпретации местным населением как единственной территориальной детерминанты, а не как части общей многосоставной территории.
На наш взгляд, причиной территориального сплочения этнической группы (вокруг идеи единой территории) служит потребность в обеспечении безопасности, которая является базовой потребностью человека и от удовлетворения которой зависит удовлетворение всех остальных потребностей. В данном случае опасность, ответом на которую служит территориальная интеграция этнической группы, многомерна и может быть представлена как внутритер-риториальными факторами, так и внешними угрозами.
В числе внутритерриториальных факторов следует назвать ресурсную обеспеченность, т.е. территория должна давать необходимое для жизни населения количество ресурсов; социальную безопасность, т.е. на территории должна отсутствовать недопустимая угроза выживанию населения, происходящая как от природных факторов, так и от коренного населения, если таковое имеется.
Внешние факторы во многом аналогичны и связаны с приходом на территорию этнической группы негативного влияния извне.
Если внутренняя безопасность способствует сплочению территории и выстраиванию взаимозависимых отношений между локациями, то внешняя безопасность, а точнее ее обеспечение, требует создания границ территории, обеспечивающих ее комплексное восприятие этнической группой как целостного явления и уже не просто географического пространства, а пространства безопасности, аналогичного восприятию дома или селения, но в большем размере. Границы позволяют этнической группе идентифицировать территорию как «свою» [Фадеичева 2006], а пространство за ее пределами – как «не свое» либо «чужое», в зависимости от уровня исходящей извне агрессии.
Наряду с границами, формирующими «свое» пространство, не менее важным фактором сохранения целостности территории и единства ее восприятия у членов этнической группы являются внутренние связи и взаимозависимость локаций проживания представителей этнической группы. Нарушению связей способствует невозможность либо отсутствие потребности во внутритерриториальном сообщении, которое может проявляться в слишком большой удаленности локалитетов друг от друга, топографических особенностях (горы, реки, болота, леса и др.), самодостаточном развитии локалитета или его тесном взаимодействии с контрагентами за границей территории, превалирующем над внутритерриториальным взаимодействием [Санакоев 2018].
Также разделение территории проживания этнической группы может происходить принудительно, посредством умышленного обособления одной или нескольких частей единого физического пространства. В данном контексте причины принудительного обособления могут быть очень вариативными. Так, во многих архаичных обществах раскол территории происходит в результате дробления социальной и политической элиты этнического сообщества, части которой отдаляются друг от друга не только в плане политических, социальных и культурных связей, но и физически – обособляясь территориально с целью развития локальной идентичности и создания самостоятельной территориальной единицы, например княжества в рамках феодальной раздробленности. В данном случае причины обособления, как правило, имеют комплексный характер и представлены расколом в родовых отношениях правящей семьи, формированием местной аристократии, религиозным расколом или обособлением локального духовенства (жречества) и т.д.
Другой причиной может служить захват части территории проживания этнической группы и ее принудительное обособление с дальнейшей интеграцией в соседнее территориальное образование или без таковой. В данном случае обособление части территории носит вынужденный характер, однако вне зависимости от причины обособления – вынужденной или добровольной – сам факт обособления ведет к возникновению границы между основной территорией проживания этнической группы и ее обособившимся фрагментом. Граница выступает препятствием для поддержания системного взаимодействия частей одного этнического сообщества и со временем начинает влиять на самовосприятие представителей этнической группы по обе ее стороны, формируя самоидентификацию по принципу «свои» и «другие». Отсутствие коммуникации между частями либо ослабление данной коммуникации сказывается и на других характеристиках этнической идентичности, которые, изначально являясь одинаковыми, с появлением границы начинают развиваться по-разному, углубляя формальный раскол. Язык, обычаи, традиции, религия приобретают более выраженную специфику, и наступает период «новой истории», отправной точкой которой служит возникновение границы, т.е. момент формализованного разобщения.
Заключение: идея воссоединения или окончательный разрыв
Раздел территории и возникновение границы ведет к разделению этнического сообщества на два (или более) автономных сообщества, обладающих общим историческим корнем. Процесс сепаратизации основан на территориальном разделении и подкрепляется практиками автономного социокультурного развития, а также (в ряде случаев) враждой между частями бывшего единого этнического сообщества на основе претензии на восстановление status quo, т.е. исходного единства, с одной стороны, и обособления – с другой [Connor 1994].
Несмотря на объективно существующий факт разделенности и автономного существования частей некогда единой этнической группы, важным фактором этнической интеграции продолжает оставаться идея исходного единства на основе представлений об общности культуры, языка, религии и территории [Horowitz 1985].
Статус данной идеи в общественном сознании по обе стороны границы может варьироваться от номинального (как общее воспоминание об историческом прошлом) до актуализированного, выраженного в идее воссоединения этнической группы через упразднение границы, т.е. слияния территорий. В данном контексте исторически единая территория превращается в инструмент внутриэтнической мобилизации, способствующей воссоединению на основе исторической памяти. В то же время нельзя не отметить, что основанием для воссоединения, как правило, выступают политические мотивы элит одной или обеих частей этнической группы, в соответствии с которыми воссоединение несет в себе прагматическую выгоду, в свою очередь, подкрепленную идеей восстановления исторической справедливости и исторического единства разделенного сообщества.
Можно говорить о существовании определенной исторической закономерности, в соответствии с которой продолжительность разделенного существования частей этнической группы и автономность, а также успешность их самостоятельного развития напрямую влияют на перспективу воссоединения. В данном случае мы констатируем, что опыт успешного существования каждой из частей этнической группы влияет на комплексную трансформацию всех атрибутов этнической идентичности, превращая данную идентичность в самостоятельную и независимую. Признаком возникновения независимой идентичности, на наш взгляд, следует считать укоренение нового самоназвания обособившейся группы, т.к. именно самоназвание является атрибутом независимого восприятия членами этнической группы всех ее приобретенных в рамках отделенного от основной группы развития атрибутов, в т.ч., например, изменившиеся язык, традиции, обычаи, социальные установки, аспекты религии и духовной культуры и др. Итоговым результатом данного процесса становится окончательное закрепление в сознании данной «новой» этнической группы образа «своей» территории, не включающего образ территории другой части первичного этнического сообщества [Андерсон 2016].
После обретения данной новой формы идентичности ранее отколовшейся частью когда-то единого этноса добровольное и мирное воссоединение с целью слияния (возвращения к корню) вряд ли возможно, т.к. оно неизбежно будет предполагать слом устойчивых стереотипов идентичности и их замену на другие идентификационные признаки, переставшие быть «родными» и интуитивно понятными, органичными. В данном контексте факт воссоединения территорий уже будет обозначать лишь номинальное их сложение, а не восстановление единой исторической территории как базового атрибута самоидентификации исходной этнической группы.