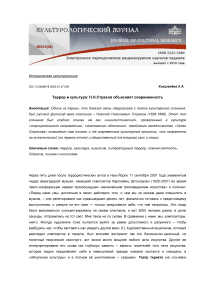Террор и культура: Н.Н. Страхов объясняет современность
Автор: Кокшенва Капитолина Антоновна
Журнал: Культурологический журнал @cr-journal
Рубрика: Историческая культурология
Статья в выпуске: 2 (52), 2023 года.
Бесплатный доступ
Одним из первых, кто доказал связь терроризма с типом культурного сознания, был русский философ века классиков - Николай Николаевич Страхов (1828-1896). Этот тип сознания был глубоко описан им как «нигилистический», проявленный в культуре «отрицательного направления», «эпатажного обличения», лакейского западничества. «Уроки Страхова» позволяют нам понять и те современные культурные процессы, что направлены на эстетический (на первом этапе) и общественный (на втором) хаос и страх.
Террор, культура, нигилизм, литературный террор, ложная святость, страхов, письма о нигилизме
Короткий адрес: https://sciup.org/170198233
IDR: 170198233 | DOI: 10.34685/HI.2023.91.47.009
Текст научной статьи Террор и культура: Н.Н. Страхов объясняет современность
Через пять дней после террористических актов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года знаменитый лидер авангардной музыки, немецкий композитор Карлхайнц Штокхаузен (1928-2007) во время пресс-конференции назвал произошедшее «величайшим произведением искусства» и пояснил: «Перед нами умы, достигшие в своих действиях того, о чем мы не можем даже помыслить в музыке, – они репетировали как сумасшедшие десять лет, фанатично готовясь к предстоящему выступлению, и умерли на его пике — только представьте себе, что там творилось. Эти люди были максимально сконцентрированы на своем спектакле, и вот 5000 человек разом, в долю секунды, отправились на тот свет. Мне такое не по силам. В сравнении с ними, мы, композиторы, никто. Иногда художники тоже пытаются выйти за рамки допустимого и разумного – чтобы разбудить нас, чтобы заставить нас увидеть другой мир» [1]. Художественный акционизм, который разглядел композитор в теракте, был многими воспринят как его бесконечно-циничный, но понятный творческий «восторг»: акт жизни много мощнее любого акта искусства. Другие же интерпретировали его слова как глубокую зависть – зависть носителей того типа искусства, которое жадно предъявляет себя в немыслимой прежде новизне протеста и скандала, в «обнулении культуры» и в полном её уничтожении – «взрыве». Театр теракта (не случайно
Штокхаузен использует театральные термины), когда пять тысяч человек становятся участниками реального «спектакля» и реально погибают , - да, такой «театр» и есть «настоящий», «предельный» поступок для современного художника, жаждущего иммерсивного, то есть обеспечивающего эффект полного присутствия, опыта.
***
Термины «террор-спектакль», «террор-фильм» приняты и у современных культурологов. И речь идет отнюдь не о первом американском фильме ужасов «Террор», появившемся на экране в 1928 году (реж. Рой Дель Рут). Первым террор-фильмом принято считать снятую на пленку знаменитым изобретателем (в том числе и электрического стула) Т. Эдисоном публичной казни слонихи Топси (США, 1903 год). Следующим террор-фильмом критики называют знаменитую картину Гриффита «Рождение нации» (1915), в которой «афроамериканцы изображаются неполноценными и к тому же чрезвычайно опасными» [2, с. 43]. Здесь, собственно, и был сформулирован посыл террор-культуры обществу - сигнал о том, что изображаемая на экране угроза может быть (или является) вполне реальной . Естественно, «угроза» может стать как преувеличенной, так и преуменьшенной, - смотря какие цели ставит перед собой художник, её пропагандирующий.
В новейшей современной культуре активные позиции занимает х о ррор. Если террор устрашает, то хоррор (лат. ужас, оцепенение ) передает состояние подверженности акту террора. «…Хоррор, - пишет исследователь, - является существенным компонентом культуры современного общества, которое характеризуется по-разному - как информационное постиндустриальное общество, как проектно-сетевой социум, как общество массового потребления [3, с. 47].
Ближайшая же к нам постмодернистская среда трансформировала террор в акционизм. Акционизм может быть и вполне кровавым, и вполне антигуманным. Его носители, в отличие от террористов рубежа XIX-XX вв., уже совсем лишены какой-либо мировоззренческой платформы «больших идей». Исследователь уверенно заключают, что «современный акционизм, занявший большое место в искусстве, перенимает формы, атрибутику и тактику террора, оголяя бессмысленность его оправдания укладом традиционных национально-религиозных обществ» [4, с. 2].
Впрочем, в этом же сборнике статей участников Международной научной конференции «Террор и культура» (22–24 октября 2014 г., СПбГУ, Факультет свободных искусств и наук) можно как раз и найти рассуждения о связи террора с «традиционными укладами». В частности, в статье журналиста и историка Д.А. Коцюбинского «Страх и память. Державный террор как основа русской политической культуры» делается попытка доказать, что «системообразующая и “паттернообразующая” специфика становления русской политической культуры» определена тем, что «она изначально сформировалась как рабско-самодержавная (холопско-господская), поскольку само возникновение русского народа и московской (ставшей позднее российской)
государственности происходило в условиях монгольского колониального господства и соответствующего политического менеджмента, т. е. при активном участии "колонизаторов” -ханов и элиты Золотой Орды в целом. Именно по этой причине Россия как политическая цивилизация может быть названа “рабской”, ибо политическое рабство явилось фундаментом русско-московского национально-государственного становления, в следствии чего навеки утвердился страх подданных (“политических холопов”) перед государственным террором и вытекающий из этого страха феномен интроекции общества-жертвы с властью-агрессором - то, что принято еще называть “стокгольмским синдромом”» [5, с. 23]. Именно в российской культуре последних двадцати лет (в популярной литературе, кино и театральных спектаклях, драматургических лабораториях и лекциях) активно разрабатывалась и демонстрировалась западная колониальная концепция «закрытого» «государства-террориста» и «жертвы» (жертвы как «результата» истории насилия; жертвы государственного насилия; жертвы культурного насилия; иных народов как жертвы от совместного проживания с русскими) ' [ Так, в согласии с концепцией «жертвы», как следствия этноцида бурятского народа, поставлен в 2016 году спектакль Сойжин Жамбаловой «Полёт. Бильчирская история» в Государственном бурятском академическом театре драмы имени Х.Н. Намсараева. Повесть В.Г. Распутина «Прощание с Матёрой» кардинально переделана «под свои нужды», под главную идею – экологического этноцида, когда в 1961 году при строительстве Братской ГЭС была утеряна земля бильчирцев. Валентин Распутин писал, конечно, о трагедии русских затопленных земель. Позаимствовав идею, режиссер и автор идеи Саян Жамбалов подчинили её как раз ложной «колониальной концепции», навязанной нам западными «советологами» ].
Можно называть десятки акций и произведений современного искусства последних двух десятилетий [6]; можно говорить, что современный художник так или иначе закреплял в культуре «травмированные террором» образы людей и вещей, но все же самое существенное - в другом.
***
Проблема «террор и культура» – это проблема культуры сознания. Именно так поставил вопрос и дал глубокие ответы на него русский философ Николай Николаевич Страхов (1828– 1896), отнюдь не из книжек знающий, что такое террор - сначала «литературный» (гуманитарный), а потом - практический.
Принято до сих пор считать, что термин «литературный террор» принадлежит В.В. Розанову (1856-1919) [7, с. 62], который отвечал П.Б. Струве и другим в той полемике с левыми журналистами, что возникла в печати после выхода его книги «Когда начальство ушло» (1910 г.). Розанов полагал, что именно «социал-демократия давно установила в нашей литературе террор», а орудие террора - «лишение чести, опозорение, как я выразился, "кислота в лицо"» [8]. Но собственно травля Розанова, которую устроили ему социал-демократы в оппозиционных органах печати 1910-1911 гг., как раз и прямо подтверждала точность розановского определения
– «литературный террор» направлен на сознательное искажение реальности (будь то оценка личности писателя, будь то его творчество).
И, тем не менее, исправить эту культурно-историческую неточность нам представляется справедливым. В 1883 году Страхов издает книгу «Заметки о Пушкине и других поэтах», в которой впервые употребляет определение «литературный террор»: «К концу семидесятых годов, в эпоху турецкой войны, литературный террор уже совершенно затих…» (выделено мной. – К.К .) [9, с. 128]. О чем же говорит критик и философ?
Оставляя за Пушкиным звание национального поэта, давшим образцы изящнейшей и ясной поэтической формы, утвердившим русское искусство на высочайшем пьедестале и много способствовавшим лично тому, чтобы «николаевский Петербург стал культурной столицей мира» [10, с. 574] – Страхов клонит к чему-то другому. Он вдруг называет 1856 год переломным. В этот год была проиграна Крымская война. В этот год западная русофобия больше не скрывала своего лица: «Понятны цели, которые “культурный мир” в этой войне преследовал. Осадить варварскую Россию, указать ей на её настоящее место в мире, ну и, если получится, установить международный контроль над этими тёмными территориями и хоть как-то их культивировать: организовать здесь, к примеру, десяток-другой государств среднего восточноевропейского уровня – “не хуже Польши”. Во всяком случае, прижечь этот рассадник средневекового варварства, угнездившегося под боком у свободного мира...» [Там же]. Конечно, Западный мир не говорил «вслух» о том, что хочет уничтожить и разграбить Россию. Вперед были выдвинуты лозунги именно культуры: он нёс России свою «культурную программу», с помощью которой шёл цивилизовать её. Нёс демократию, свободу, «хартию вольностей и Шекспира», забыв, что в России 1854 года «Шекспиром интересовались и занимались ничуть не меньше, чем в самой Англии» [10, с. 755]. Какими бы лозунгами культуры и просвещения не прикрывались тогда европейские цели (я все еще продолжаю мысль Н.И. Калягина), все равно главная «цель всякой войны – убить как можно больше военных, носящих на себе чужую военную форму. Передовому отряду западноевропейского человечества, высадившемуся в 1854 году в Крыму, необходимо было убить, во-первых, защищавших эту территорию русских военных: артиллерийского поручика Толстого, военного лекаря Леонтьева и других военных. Затем нужно было убить русских офицеров, спешащих на помощь Севастополю со своими отрядами, — графа А.К. Толстого, Владимира Жемчужникова, Ивана Аксакова и других» [10, с. 575]. Но этого не случилось. Русская литература в их лице тоже выжила и дала фантастически-прекрасные литературные плоды.
А умным свидетелем этой войны и знатоком глубинных её целей был и Николай Николаевич Страхов – свидетелем того, как к началу Крымской войны (1854 г.) окончательно созрела «мысль Запада о России». И с какой особенной нагрузкой и силой звучат сегодня слова Н.И. Калягина о том, что «самая большая глупость, которую мы, русские, в современной и будущей своей культурно-исторической жизни способны совершить, это – забыть хотя бы на миг ту ясную мысль, с которой обрушился на нашу землю в 1854 передовой Запад. Мысль эта: Европа без жандарма, мир без России. Свободный мир. Мир без «Преступления и наказания», мир без «Войны и мира» [10, 576]. Теперь уже и мы свидетели того, как через «культуру отмены» современный гуманитарный террор осуществляется на коллективном Западе в отношении культуры русской.
В 1856 году, говорит Страхов, возникла в русской литературе «заря обновления» – появились на горизонте гражданское направление и обличительная литература отрицательного направления. «И вообще, – пишет он, – проповедовалась теория, что всякое искусство и писательство, всякая наука и умственная деятельность должны иметь в виду прямую пользу для общества, а не отвлеченный интерес самого искусства и науки» [9, 127]. Критерий пользы (и общественной пользы) убивал поэзию и эстетику. Полемика между «реалистами» и «эстетиками» напоминала самую жестокую войну. Разрушение авторитетов поэтических (во главе с Пушкиным), а также «разрушение эстетики» привело к тому, что «настоящая поэзия, можно сказать, едва влачила своё существование» [9, 127]. Отрицание искусства, заключает Страхов, есть одна из современных тенденций, поскольку именно с искусством связаны идеал, идеализм, жажда вечного, а не временного, против которых и враждует «отрицательное направление».
Не служащие гражданскому направлению подвергались насмешкам и издевательствам, травле со стороны журналистов, не имевших настоящего вкуса . В результате – «новые стихотворцы» не смели «заявлять своих дум и чувств, а должны были ограничиваться самыми казенными гражданскими темами или же шуточными стишками» [9, 128]. Всё это вместе – восстание против «чистой эстетики», с одной стороны, и давящее требование «служения гражданскому идеалу» вне поэзии и Пушкина, с другой, позволило Страхову говорить о литературном терроре . Будто Пушкин, вобравший в себя всю полноту народной личности, будто поэзия Баратынского, Фета и Случевского не служили Отечеству! Но служение с середины XIX века должно было быть исключительно «принципиальным», «модным», то есть сильно облегчённым, освобождающим от дум высоких ради пользы .
Литературный террор, как и террор политический питались из одного источника – культурного нигилизма .
***
Эпоха литературного нигилизма внимательно рассмотрена Страховым в период его (литературного нигилизма) максимальной активности – с 1861 по 1865 год (позже, в 1890 году он соберет свои статьи в книжку «Из истории литературного нигилизма»). «Истинный объем нигилизма», его «внешние размеры», как говорит Страхов в Предисловии к книге, были очень велики [11]. Он прямо называет «нигилистическим» двадцатилетие русской литературы – с 1856 года. Страхов настаивает на массовости этого явления, завершившегося реальным «нигилистическим террором» 1 марта 1881 года – смертью императора Александра II.
Литературные герои Базаров, Кириллов, Верховенский – с одной стороны, и реальные деятели культуры и общества (А.Я. Чаадаев, А.И. Герцен, Д.И. Писарев, М.А. Бакунин, А.И. Желябов, В.И. Засулич, П.Л. Лавров, С.Л. Перовская, П.Н. Ткачёв, Н.Г. Чернышевский), – с другой, представляли эпоху нигилизма. Современный исследователь уверена, что «нигилизм создали русские писатели – Тургенев его описал (отчасти, видимо, придумал) – и русский нигилизм появился. Рожденный нигилизм поддержал критик Писарев – потому что при его резком складе ума иначе как нигилистом его и не назвать. Нигилизм Писарева – теоретический нигилизм, нигилизм разрушающего слова. Но боевой призыв Писарева не вызвал к жизни реальных нигилистов. Кто еще нигилист? Герцен в полемике с Писаревым придал явлению иллюзию жизнеспособности, поскольку обсуждал его как нечто реально существующее. Писарев утонул в 1868 г., и теоретический период нигилизма закончился. Следующих «говорящих уст» он не нашел. В 1869 г. Нечаев и нечаевцы убили студента Московской сельскохозяйственной академии Ивана Иванова – так начался период практического нигилизма, переход от слова к делу» [12, с. 130].
Русскую литературу обвиняли не раз в том, что она готовила революции и выращивала революционеров. И все же процесс взаимного влияния жизни и литературы был сложнее. «Базаров, – пишет Страхов, – во всяком случае есть лицо созданное, а не только воспроизведенное, предугаданное, а не только разоблаченное. Так это должно было быть по самой задаче, которая возбуждала творчество художника» [9, с. 184]. И Тургенев, и особенно Достоевский, написавшие свои романы «Отцы и дети» и «Бесы», смогли показать процессы утраты русским человеком фундаментальных ценностей. Но разве те же писатели, как, например, Н.Г. Чернышевский, не утратили все тех же фундаментальных опор (различения добра и зла), когда представляют совершенно нормальным, что муж объявляется мёртвым, чтобы жена счастливо соединилась с другим (в романе «Что делать?»)?
Но как «отрицательное направление» стало массовым? Как у него появились эпигоны, которые гораздо больше влияли на повседневную жизнь, чем романисты Тургенев и Достоевский?
Именно журналистика и стала тем посредником между «новыми идеями» и «новыми людьми» в синих очках , которые охраняли их «свет разума».
Внимание Страхова к предметам, лично ему глубоко чуждым (а нигилизм был именно таким для него), можно объяснить его главным принципом – принципом понимания. Он тратит очень много сил на журнальную полемику, несмотря на то, что высказанные его оппонентами мнения часто «дики» и «бессмысленны». Страхов стремился понять причину их «странной нелогичности», «уродливого хода мыслей». «Пустота и зыбкость умов», обнаруженная критиком, и была той почвой, «на которой выросло столько чудовищных мнений и чудовищных действий» [11]. Нигилистические мнения так массово распространялись потому, что отсутствовала культура мышления русских о самих себе: «Господствующую силу у нас имеют только два крайние направления, – фанатический радикализм и фанатическое староверство… От этого происходит, что писатель у нас связан по рукам и ногам; что бы он ни сказал, его тянут или в одну, или в другую сторону и не дают ему остаться самим собой. От этого рост нашей мысли, нашего умственного развития подавлен, и радикалы содействуют этому также усердно, как и староверы. Писатели, не желающие попасть ни в тот, ни в другой лагерь, <…> предпочитают оставлять в тени самые существенные свои взгляды и, по внешнему виду нашей литературы, можно подумать, что ее почти вовсе не занимают основные вопросы богословия, философии, политики» [Там же]. К ««не попадающим» в эти два лагеря относился и сам Страхов (как и Ап. Григорьев, например), которые отстаивали свой, не заёмный, сложный взгляд русских на самих себя.
В статье Страхова «Нечто о петербургской литературе», открывающей его книжку «Из истории литературного нигилизма», как раз и дан «портрет» нигилиста-эпигона: «Представьте -полнейшее отрицание авторитетов; слабое, даже ничтожное развитие эстетического вкуса; некоторое отвращение к стихам, как к чему-то очень приторному; пламенное желание общественной пользы; желание стать во главе, на виднейшем и главнейшем месте в нашем движении вперед; очень малая начитанность; полнейшая уверенность в достоинстве собственной логики и в непогрешимости самобытных, хотя немногих собственных убеждений; неопределенное, но постоянное недовольство всем и всеми; инстинктивное уклонение от общества и пребывание в узких кружках; причисление себя к избранным и весьма немногим; полнейшее незнание действительности; мизантропический взгляд на людей, скорая вера во все дурное; воззрение на жизнь более аскетическое или стоическое, чем современное…» [Там же] Можно говорить уверенно, что всё «мировоззрение» эпигона-нигилиста (журналиста, критика и литератора средней руки) сполна присутствует в этой страховской характеристике последователей «обличительной литературы», полагающих в обличениях свой «гражданский подвиг».
В 1861 году Писареву было 21 год, критику Антоновичу, занявшегму в «Современнике» место Добролюбова - 27 лет. Это были молодые люди , с азартом открывавшие для себя горизонты критического и материалистического отношения к жизни и творчеству. Конечно, возникли они не на пустом месте. Уже сам Чаадаев написал свое «Философическое письмо» (1836), и даже сам князь Вяземский сочинил стих-эпиграмму « Вот мчится тройка удалая, // Бакунин, Герцен, Огарев... » (1866 г.), уверенный, что либерализм его времени был более возвышен, а его личная свободомысленная пылкость («либерализмом в значении Карамзина») [13] никак не позволяли стареющему князю видеть себя в учителях у «нового чекана» - «неумытых» нигилистах-шестидесятниках.
Страхов в ту пору (ему было 34 года) ничуть не лукавил, когда говорил о крайней «выразительности» того же Писарева. Конечно же, Страхов не мог принять «новые идеи» названных выше молодых критиков и писателей, полагая методы их критического мышления опасно упрощенными.
Писарев как мантру повторяет своим читателям, что именно его идеи современны. Писарев говорит: ««Мы идём вперед» - Страхов тут же задает вопрос: почему именно то направление, куда идет Писарев, есть движение вперед, а не в какую-либо иную сторону? «Мы отвергаем все старое», – пишет Писарев. Страхов же требует от него указать какие-либо признаки того, что «старое действительно старо, а новое действительно ново» (10). «Мы бьем направо и налево», – возглашает Писарев, но Страхов требует некоего «удостоверения» того, что такое геройское поведение следствием своим имеет действительное разрушение того, что «бьёт г. Писарев». «Мы жизнь, мы факт», – восклицает Писарев и тут же против этого восклицания Страхов ставит свои вопросы: «Но какая жизнь и какой факт»? Решить это, исходя из писаревских пышных фраз, никак невозможно. «А что если это дурной факт? Если эта жизнь – нездоровая?» – вновь ставит свои вопросы Страхов [11]. Положительный признак у Писарева был обнаружен критиком только один – «этот признак состоит в некотором жаре, в особенной пламенности, которую г. Писарев считает прямым проявлением жизни и которую потому прямо приписывает своему лагерю. У нас, говорит он, господствует “пылкая, кипучая диалектика”, “вообще страстность”, “искреннее воодушевление”, даже “страстный юношеский бред”» [Там же]. Выделив курсивом слова, характеризующие состояние эмоционального возбуждения и, одновременно, интеллектуальной бедности, Страхов тем самым как бы подчеркивает, что все они, безусловно, свидетели живого, но все они предлагают эмоциональные подходы, с которых стоит смотреть на «произведения этого лагеря», но не допускают иных принципов – таких как «последовательность, точность фактов, строгость выводов» [Там же].
Писаревские слоганы , говоря современным языком, конечно, усваивались молодой аудиторией легко, массово и весело. Мы идем вперед, мы отвергаем всё старое, мы бьём направо и налево, мы жизнь, мы факт – все они выражали отрицательное (или протестное) настроение своего времени. Настроение «любви к чистой свободе»! А Страхов, требующий строгости и доказательности выводов, конечно, не был услышан современниками.
Именно названные Страховым «писаревские принципы» возьмут на вооружение и практические нигилисты – террористы, о которых Страхов будет говорить в своих «Письмах о нигилизме» 1881 года [14]. Либерализация сознания – первая ступень «нигилистической диалектики». Но дальше следуют более жестокие формы нигилизма (его демократизация), показанные Достоевским в лицах Степана Трофимовича (либерала) и Петра Степановича (революционера) Верховенских. То есть либерализм рождает революцию. Достоевский убедительно показал эту нигилистическую логику.
Другое зло, которое питало нигилиста и террориста – это западничество. «Фанатическое поклонение западной духовной жизни» [11] видит Страхов в молодой критике. И западничество их – результат прямого неверия в свою почву, то есть в свою культуру и жизнь. Таким образом, болезнь западничества начинается с непонимания своего, с презрения к своему, и это настолько, в свою очередь, искажает сознание, что вся русская жизнь оказывается бесчестной, и к ней остается питать только «святую ненависть» (слова П.Вяземского). Можно «быть зверем, а считать себя святым» [16] – резюмирует Страхов в «Письмах о нигилизме». Ложным может быть всё в условиях нашей земной жизни: «святая свобода», ради которой травили «реакционного поэта» Майкова; «святое негодование» в адрес какого-нибудь (неважно кого именно, лишь бы мундир носил) тайного советника или генерала, которые «едят всё “Вальтассаровы пиры»”, когда народ пухнет от голода» [15], и, наконец, выплывает, так сказать, «святость революционера», позволяющая Страхову сделать фундаментальный, на века, вывод, что «нигилизм есть движение, которое в сущности ничем не удовлетворяется, кроме полного разрушения» [16].
***
К сожалению, глубочайшие и умные «уроки Страхова» сегодня никак не усвоены, скорее, напротив, вполне процветает взгляд на террористов как «мучеников идеи». История, например, женщин-террористок Российской империи, в трактовке наших современников служит доказательством зыбкости критериев и непонимания сути террористического нигилизма до сих пор. И здесь типична история отношения к женщинам-террористкам.
Так, большинство женщин-террористок происходили из хороших семей. Они не нуждались материально. Они получили лучшее для своего времени образование. Но при этом в достаточно юном возрасте увлеклись революционными идеями. Собственно, всё начиналось с соблазна сознания – жажды «новой культуры», культуры не аристократической, а демократической, в недрах которой в 60-х годах XIX столетия был поставлен вопрос о женской эмансипации. Их призывали учиться, но не ради чистого наслаждения знанием, а с целью практической: с помощью образования добиться равноправия с мужчиной. Из равноправия же вытекала уверенность, что “Kinder, Küche und Kirch”» (дети, кухня и церковь) превращают женщину только в самку. Зато в деле убийства террористки «работали» наравне с мужчинами, то есть вполне добились «равноправия». Нет сомнения, что женщины-террористки были соблазнены той культурой, о которой говорилось нами выше и с чем так упрямо боролся Страхов; культурой, в которой Пушкина «сбрасывали с корабля современности», а «сапоги» объявлялись выше и нужнее Шекспира. Изменение несправедливого мира, благородное сочувствие «униженным и оскорбленным», роль «народных заступников и заступниц», то есть «стремление к общественной деятельности» и сама по себе роль «страдальцев за правду» часто опирались как на кипучую ненависть к государству и его чиновникам, так и на личную экзальтацию. «Не случайно, – пишет исследователь, – процент самоубийств в этой среде был так высок. Читая тексты, написанные ими – воспоминания, речи в суде или перед казнью, нередко сталкиваешься с преувеличенными, инфантильными суждениями о действительности, о власти, о месте человека в государственной машине» [17]. Пострадавшие же от власти террористки немедленно в общественном мнении становились «революционными богородицами», как Вера Фигнер, Софья Перовская, Екатерина Брешковская или «эсеровскими богородицами» как Мария Спиридонова – ведь они совершали «революционные самопожертвования» [18, с. 309].
Интеллектуальная традиция видеть в террористках одновременно «святых и грешных» до сих пор заметна. Так, статья А.В Воронихина «Богородица с револьвером» и своей верой (жизненные вершины Веры Фигнер)» [19] носит вполне позитивно-гуманный характер. Автор не останавливается на анализе террористической деятельности В. Фигнер – он только сообщает, что она, входя в исполком «Народной воли», активно участвовала в подготовке трех покушений на императора Александра II. Не дает он никакой оценки и следующим, описываемым им фактов: «На заседании ИК 3 марта 1881 г. В.Н. Фигнер единственная кто настаивал на сохранении подкопа на Малой Садовой улице с тем, чтобы взорвать карету нового царя Александра III. Именно Вера Фигнер руководила подготовкой покушения, в результате которого был убит 18 марта 1882 г. военный прокурор генерал-майор В.С. Стрельников в Одессе» [Там же]. Автор статьи останавливается на «святых» «вершинах» жизни террористки, среди которых полагает её двадцатилетнее сидении в одиночной камере Шлиссельбургской каторжной тюрьмы, где она продолжала свою «деятельность», о чем свидетельствует рапорт полковника Ф.Н. Каирова: «Арестантка № 11 составляет как бы культ для всей тюрьмы, арестанты относятся к ней с величайшим почтением и уважением, она, несомненно, руководит общественным мнением всей тюрьмы, и ее приказаниям все подчиняются почти беспрекословно; с большой уверенностью можно сказать, что проявляющиеся в тюрьме протесты арестантов в виде общих голодовок, отказывания от гуляний, работ и т.п. делаются по ее камертону» (выделено мной. – К.К.) [20, с. 407]. Кажется, все же авторитет среди заключенных не должен был бы являться доказательством «святых вершин» жизни В. Фигнер.
Останавливается А.В. Воронихин и на другой особой ситуации в жизни террористки Фигнер – лечении и обучении крестьян. После получения образования в Цюрихе В. Фигнер вернулась в Россию и устроилась фельдшером в общинное поселение, созданное представителями «Земли и воли» (Петровское земство Саратовской губернии, село Вязьмино), где она проработала только год (1878-1879). Собственно, вопрос о том, чему она учила детей, автор даже и не ставит, а только, ссылаясь на разные мнения, продолжает свою тему «святой и грешной», не отдавая, повторю, отчета в том, что быть одновременно «святой» и «грешной» (особенно грехом убийства) невозможно по определению. Собственно, сам факт такого восприятия террористки свидетельствовал о том, что общество уже было глубоко больно, так как лишилось ясного разделения – границ святости и греха.
И только, на наш взгляд, Страхов, после теракта 1881 года смог дойти до самого глубинного уровня понимания этой проблемы. Тут его христианская закваска стала, несомненно, верным фундаментом осмысления. Он пишет: «Нигилизм – это не простой грех, не простое злодейство; это и не политическое преступление, не так называемое революционное пламя. Поднимитесь, если можете, еще на одну ступень выше, на самую крайнюю ступень противления законам души и совести; нигилизм, это – грех трансцендентальный, это – грех нечеловеческой гордости, обуявшей в наши дни умы людей, это – чудовищное извращение души, при котором злодеянье является добродетелью, кровопролитие - благодеянием, разрушение - лучшим залогом жизни. Человек вообразил, что он полный владыка своей судьбы, что ему нужно поправить всемирную историю, что следует преобразовать душу человеческую. Он, по гордости, пренебрегает и отвергает всякие другие цели, кроме этой высшей и самой существенной, и потому дошел до неслыханного цинизма в своих действиях, до кощунственного посягательства на все, перед чем благоговеют люди. Это - безумие соблазнительное и глубокое, потому что под видом доблести дает простор всем страстям человека...» (выделено мной. - К.К.) [16]. Путем гибели полагал философ и критик намерение насильственного преобразования истории и души человеческой нигилистами, попирающими законы исторические и духовные.
***
Изменение сознание - это изменение ценностей. И искусство (литература) способствовали прежде всего изменению ценностей за пределами профессиональной среды, то есть в обществе. «Освобождение сознания» через рождение в нём «святого гнева», антиправительственных настроений, бедно и нагло понятой свободы, «жажды борьбы» и вечного некрасовского плача о тяжкой крестьянской доле (будто любой труд не «тяжкий», будто никто из крестьян никогда не знал вдохновения и счастливых минут, что отразила русская народная культура). « Идеализация в сторону безобразия » - родовая черта нигилизма-терроризма. При этом парадокс состоял в том, что «бесстрашные Щедрин и Минаев за свою жëсткую антиправительственную позицию имели одну только всероссийскую славу и недурные, сопутствующие высшей славе, литературные гонорары» [10, с. 731]; Некрасов с его тезисом «где народ - там и стон», но при этом ставший миллионщиком на промышленном воспевании «стона» [21], - все они своим сытым положением в обществе доказывали, что экономически выгодно в России быть либералом– западником–нигилистом–прогрессистом–литературным террористом. «Стоит сравнить тусклую, загнанную, "где-то в уголку” жизнь Страхова, - с горечью пишет В.В. Розанов, - у которого не было иногда щепотки чая, чтобы заварить его пришедшему приятелю, - с шумной, широкой, могущественной жизнью Чернышевского и Добролюбова, которые почти “не удостаивали разговором” самого Тургенева; стоит сравнить убогую жизнь Достоевского в позорном Кузнечном переулке, где стоят только извощичьи дворы и обитают по комнатушкам проститутки, - с жизнью женатого на еврейке-миллионерке Стасюлевича, в собственном каменном доме на Галерной улице, где помещалась и "оппозиционная редакция" "Вестника Европы"; стоит сравнить жалкую полужизнь, - жизнь как несчастье и горе, - Кон. Леонтьева и Гилярова-Платонова - с жизнью литературного магната Благосветлова (“Дело”) <…> чтобы понять, что нигилисты и отрицатели России давно догадались, где “раки зимуют”, и побежали к золоту, побежали к чужому сытному столу, побежали к дорогим винам, побежали везде с торопливостью неимущего - к имущему. Нигилизм давно лижет пятки у богатого (и властного , как дальше пишет Розанов. - К.К.) - вот в чем дело; нигилизм есть прихлебатель у знатного - вот в чем тоже дело» [15]. И «знатные», в ответ, выражались «весьма и весьма сочувственно о взрывчатых коробочках». И это не могло не потрясать наивных провинциальных молодых нигилистов, вдруг открывающих для себя: «Ах, так вот где оппозиция: с орденом Александра Невского и Белого Орла, с тысячами в кармане, с семгой целыми рыбами за столом» [Там же], то есть с наградами от самого Государя!
***
Страхову не довелось увидеть результаты того прискорбного революционно-демократического и террористического пути, о которых он предупреждал – Октябрьскую революцию 1917 года. Революцию, усугубленную порывом тотальной демократизации культуры, – очередной попыткой «сбросить Пушкина с корабля современности», то есть сбросить всю русскую историческую жизнь. И никто глубже его не показал определяющую связь между террором и культурой сознания.
Список литературы Террор и культура: Н.Н. Страхов объясняет современность
- Юбэнкс И.С. Кино и эстетика террора // Террор и культура: сб. статей / [под ред. Т.С. Юрьевой]. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 2016. - С. 41.
- Тульчинский Г. Л. Хоррор как компонент современной культуры // Террор и культура: сб. статей / [под ред. Т.С. Юрьевой]. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 2016. - С. 47.
- Юрьева Т. От составителя // Террор и культура: сб. статей / [под ред. Т.С. Юрьевой]. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 2016. - C. 2.
- Коцюбинский Д.А. Страх и память. Державный террор как основа русской политической культуры // Террор и культура: сб. статей / [под ред. Т.С. Юрьевой]. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 2016. - С. 20.
- Ломоносов А.В. О литературном терроре (По материалам черновиков и неизданных статей В.В. Розанова) // Обсерватория культуры. - 2019. - Т. 16, № 1. - С. 62.
- Страхов Н.Н. Литературная критика / Вступ. статья, сост. H.Н. Скатова. - М., 1984. - С. 127.
- Калягин Н.И. Чтение о русской поэзии. - СПб., 2021. - С. 542.
- Шоломова Т.В. Эстетизация нигилизма в русской литературе XIX века: к вопросу о пространственных и временных границах явления // Общество. Среда. Развитие. - 2015. - № 3. - С. 130.
- Розанов В. Между Азефом и "Вехами" // Вехи: pro еt contra: Антология. - СПб., 1998. - С. 309.
- Новорусский М. Записки шлиссельбуржца 1887-1905: 2-е изд. - М., 1933. - С. 407.