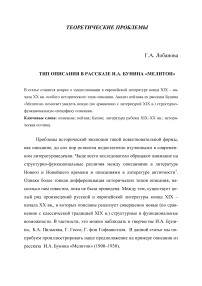Тип описания в рассказе И. А. Бунина «Мелитон»
Автор: Лобанова Галина Андреевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Статьи и сообщения. Теоретические проблемы
Статья в выпуске: 4 (11), 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье ставится вопрос о существовании в европейской литературе конца XIX - начала XX вв. особого исторического типа описания. Анализ пейзажа из рассказа Бунина «Мелитон» помогает увидеть новую (по сравнению с литературой XIX в.) структурно-функциональную специфику описания.
Описание, пейзаж, бунин, литература рубежа xix-xx вв., историческая поэтика
Короткий адрес: https://sciup.org/14914195
IDR: 14914195
Текст научной статьи Тип описания в рассказе И. А. Бунина «Мелитон»
Проблемы исторической эволюции такой повествовательной формы, как описание, до сих пор остаются недостаточно изученными в современном литературоведении. Чаще всего исследователи обращают внимание на структурно-функциональные различия между описаниями в литературе Нового и Новейшего времени и описаниями в литературе античности1. Однако более тонкая дифференциация исторических типов описания, насколько нам известно, пока не была проведена. Между тем, существует целый ряд произведений русской и европейской литературы конца XIX – начала XX вв., в которых описание реализует совершенно новые (по сравнению с классической традицией XIX в.) структурные и функциональные возможности. В частности, это можно наблюдать в творчестве И.А. Бунина, Б.А. Пильняка, Г. Гессе, Г. фон Гофмансталя. В данной статье мы попробуем проиллюстрировать наше предположение на примере описания из рассказа И.А. Бунина «Мелитон» (1900–1930).
Композиция рассказа, на первый взгляд, проста. Повествование ведется от лица рассказчика, и его точка зрения преобладает. Мелитона же мы видим только извне. Мы узнаем о нем сравнительно много, в то время как о рассказчике очень мало. Сюжет сводится к тому, что рассказчик дважды встречается с Мелитоном и пытается понять его судьбу и характер. Однако желаемого результата он не достигает.
Некоторые исследователи определяют конфликт рассказа как столкновение различных систем ценностей. Так, по мнению Т.А. Никоновой, «Мелитон не закрыт для общения, но не дает ожидаемого ответа не от недостатка развития или нежелания»2: миры героев почти не пересекаются, и поэтому им трудно понять друг друга.
Такое определение конфликта представляется обоснованным, но, возможно, в рассказе есть некоторые аспекты, которые при подобной интерпретации ускользают от внимания. И здесь имеет смысл рассмотреть описание ночной природы, которое находится в композиционном центре произведения (почти посередине между двумя встречами).
«Слышно было, что рассказывал он в песне про какие-то зеленые сады, с добрым укором напоминая кому-то те места, где “скончалась-распрощалась, ах, да прежняя любовь…”. Ночь сияла. Месяц выбрался на самую середину неба, стал над самым прудом. Изредка по воде что-то струисто поблескивало, точно там вился серебристый уж. У противоположного берега воды как будто не было. Там была светлая бездна в другое, подземное небо. Вековые дубы и березы на том берегу казались теперь выше, стройнее, чем днем. Но еще лучше был тот лес, который, вверх корнями, темнел под берегом, уходя в эту бездну вершинами. А вдали, за лесом, небо уж стало стеклянно-зеленое, там, в полях, начали свежо и отчетливо бить перепела… Я закрыл глаза. Когда же очнулся, был уже день»3.
Для того чтобы определить роль данного пейзажа в рассказе, необходимо рассмотреть его структуру. Наличие таких образов, как «подземное небо», указывает на то, что данное описание не реалистическое и не натуралистическое. Возможно, мы имеем дело с романтической традицией? Вспомним некоторые ее особенности, выявленные В.М. Жирмунским в статье «Задачи поэтики»4.
В романтическом описании великолепной ночи обязательно присутствует месяц, серебристый свет, ночное небо, часто описываются деревья, вода. Особое внимание уделяется игре света и тени, другим особенностям освещения (блеск, сияние, мерцание и т.д.), звукам, характерным для ночного пейзажа и т.п. Подчеркивается необычность, чудесность этой ночи.
Пейзаж служит раскрытию душевного состояния персонажа. Часто эмоции героя прямо обозначены в тексте, как, например, у И.С. Тургенева в рассказе «Три встречи»: «Сердце во мне томилось неизъяснимым чувством, похожим не то на ожидание, не то на воспоминание счастья; я не смел шевельнуться, я стоял неподвижно перед этим неподвижным садом, облитым и лунным светом и росой, и, не знаю сам, почему, неотступно глядел на те два окна, тускло красневшие в мягкой полутени…»5. Между внешним миром и внутренним устанавливается своего рода параллелизм.
Для создания эмоциональной атмосферы в романтическом пейзаже используются такие приемы, как «синонимические вариации» (при раскрытии некоторой темы употребляются слова, близкие по значению), «сказочные эпитеты»6 (слова вроде «странный», «чудный» и др., подчеркивающие необычайность данного явления), синтаксические параллелизмы словесных групп или фраз, повторы. Логически-вещественное значение слов ослабляется, и доминирующим становится эмоциональный признак («мягкое мерцание звезд» Тургенева). Важную роль играет звуковое и ритмическое оформление.
Степень детализации описания может варьироваться. Но даже если описание имеет более аналитический характер, как в романе «Семейное счастье» Л.Н. Толстого, и в нем четко прописаны особенности положения предметов в пространстве, то все равно главным является изображение переживаний персонажей.
Созданию эмоциональной атмосферы служит также одушевление явлений природы. Например, в повести Н.В. Гоголя «Майская ночь, или Утопленница» мы читаем: «Девственные чащи черемух и черешен пугливо протянули свои корни в ключевой холод и изредка лепечут листьями, будто сердясь и негодуя, когда прекрасный ветреник – ночной ветер, подкравшись мгновенно, целует их»7. Создается очень чувственный образ природы. Подобные пейзажи, как правило, служат фоном для развития любовной интриги.
Для понимания роли описания необходимо учитывать и то, каким образом оно связывается с соседними фрагментами текста. В частности, важно, есть ли какие-либо связующие элементы между ними. Например, у Тургенева описание служит подготовке события и кончается тем, что герой внимательно смотрит на окна дома, в котором и произойдет важная для него встреча.
При всем разнообразии приемов структура романтического описания относительно проста. В ее основе лежит параллелизм внешнего и внутреннего, причем эмоциональное доминирует над рациональным.
Теперь посмотрим, как соотносится с романтической традицией ночной пейзаж Бунина. Здесь мы также находим и месяц, и сияющую ночь, и деревья, и пруд. Есть сравнения. Есть определенная ритмическая линия. Но несмотря на то, что в описании используются некоторые элементы романтической традиции, в целом оно принадлежит уже другой художественной системе.
В соответствии с традицией можно было бы ожидать, что данное описание будет связано с любовной темой. Ведь Мелитон поет об ушедшей любви. Но пейзаж показан глазами другого персонажа, и какие-либо отсылки к этой теме отсутствуют.
Тогда, вероятно, перед нами отражение внутреннего состояния рассказчика? Действительно, можно говорить о некоторой эмоциональной атмосфере. В описываемой картине есть нечто особенное, и она завораживает рассказчика. Однако более или менее точных обозначений его эмоций нет.
Мы находим повторы, синтаксические параллелизмы, но нет ни «синонимических вариаций», ни таких конструкций, где бы эмоциональное значение доминировало над вещественным. Внешний мир сохраняет свою самоценность.
В таком случае о параллелизме внешнего и внутреннего говорить трудно. Очевидно, что субъективное и объективное вступают здесь в какое-то другое соотношение. Для понимания его следует внимательнее присмотреться к сравнениям, играющим главную роль в структуре данного описания.
Первое сравнение не содержит ничего необычайного, это просто предположительное объяснение некоторого явления («Изредка по воде что-то струисто поблескивало, точно там вился серебристый уж»). Пока что мы находимся в сфере действительного. Но уже в следующей фразе начинаются колебания между реальным и иллюзорным: «У противоположного берега воды как будто не было». Затем иллюзия получает статус действительности: «Там была светлая бездна в другое, подземное небо». Необычно сочетание «светлого» с «подземным»: последнее скорее ассоциируется с тьмой, чем со светом. Но сам рассказчик, по-видимому, этой странности не замечает.
Далее сфера иллюзорного расширяется и включает в себя не только пруд, но и деревья вокруг него. Следует сравнение мира ночного и дневного: «Вековые дубы и березы на том берегу казались теперь выше, стройнее, чем днем». И наконец, последнее сравнение окончательно утверждает превосходство иллюзорного над реальным: «Но еще лучше был тот лес, который, вверх корнями, темнел под берегом, уходя в эту бездну вершинами». По крайней мере, такова точка зрения персонажа.
Возникает вопрос о причинах того, что рассказчик предпочитает иллюзорное реальному. В самом деле, если ночью деревья и так красивее, чем днем, то чем же подводный лес «лучше» настоящего? Ответа мы не находим: никаких комментариев или отсылок к этому эпизоду нет.
В конце описания рассказчик снова возвращается в сферу реального («А вдали, за лесом, небо уж стало стеклянно-зеленое, там, в полях, начали свежо и отчетливо бить перепела…»), – но лишь для того, чтобы уснуть и очнуться уже днем. Сон же – это еще одна сфера, отличная от мира действительности.
Итак, границы реального и иллюзорного в данном описании оказываются размытыми. Переход из одного в другое совершается без усилий, почти незаметно. Мы находимся как бы на границе сознательного и бессознательного.
Значимость оценок в данном описании позволяет предположить, что пейзаж служит символическому изображению некоторой системы ценностей, свойственной рассказчику. Можно было бы сказать, что описание нужно для характеристики героя. Однако здесь необходимы поправки.
Несомненно, пейзаж помогает понять внутренний мир рассказчика. Но, как уже было замечено, внешнее не становится подчиненным внутреннему. И то, что мы узнаем о рассказчике, вряд ли можно считать характеристикой отдельной личности. Ведь сама по себе тяга к другой, «обратной» стороне мира – слишком универсальное свойство. Это не черта характера, а скорее особенность мышления, не зависящая от конкретного индивидуума. И основанная на этом система ценностей – также явление надличностное.
Таким образом, перед нами не столько сообщение новой информации о персонаже, сколько постановка некоторой философской и психоло- гической проблемы, которая имеет общечеловеческий масштаб. В этом заключается главная функция данного пейзажа.
При этом важно подчеркнуть, что увидеть эту проблему во всей ее значимости доступно только читателю. Он может соотнести данное описание с содержанием других фрагментов текста и увидеть в интересе рассказчика к Мелитону не праздное любопытство, а все то же скрытое желание узнать другую, неизвестную сторону мира.
Стоит отметить, что, в то время как рассказчик считает Мелитона праведником, сам он, наоборот, полагает, что много грешил («Грехов мно-го-с»8). Встречаются и другие случаи, когда одно и то же явление обладает двумя вроде бы исключающими друг друга качествами (например, собака Мелитона Крутик – «веселый, но отчаянно злой»9).
Двойственность оказывается свойством мироздания. Возможно, именно поэтому все иное, необычное, непознанное становится столь притягательным для человека. Но то, что иллюзия и реальность меняются местами, ставит саму возможность познания под сомнение. В этом заключается коллизия рассказа. И ночной пейзаж – это возможность для читателя подойти к ней. Поэтому для понимания глубинного смысла произведения данное описание имеет едва ли не решающее значение.
Итак, описание в данном рассказе Бунина принципиально отличается по своей структуре и функциям от описаний в классической литературе XIX в. Вероятно, перед нами особый исторический тип описания. Чтобы можно было говорить об этом с полной уверенностью, необходимо проверить нашу гипотезу на более обширном материале, но такая проверка уже выходит за рамки данной статьи.
1См., например: Белецкий А.И. В мастерской художника слова. М., 1989; Лихачев Д.С. Историческая поэтика русской литературы: смех как мировоззрение и другие работы. СПб., 1997; Рубинс М. Пластическая радость красоты: экфрасис в творчестве акмеистов и европейская традиция. СПб., 2003 и др.
-
2 Никонова Т.А. О смысле человеческого существования в творчестве И. А. Бунина // И.А. Бунин: pro et contra. СПб., 2001. С. 791.
-
3 Бунин И.А. Мелитон // Бунин И. А. Собр. соч.: В 9 т. М., 1965. Т. 2. С. 207.
-
4 Жирмунский В.М. Задачи поэтики // Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977. С. 15–56.
-
5 Тургенев И.С. Три встречи // Тургенев И.С. Собр. соч.: в 12 т. М., 1954. Т. 5. С. 234.
-
6 Жирмунский В.М. Указ. соч. С. 49–51.
-
7 Гоголь Н.В. Майская ночь, или Утопленница // Гоголь Н.В. Собр. соч.: в 8 т. М., 1984.
Т. 1. С. 114.
-
8 Бунин И. А. Указ. соч. С. 210.
-
9Там же. С. 205.
Список литературы Тип описания в рассказе И. А. Бунина «Мелитон»
- Белецкий А.И. В мастерской художника слова. М., 1989.
- Лихачев Д.С. Историческая поэтика русской литературы: смех как мировоззрение и другие работы. СПб., 1997.
- Рубинс М. Пластическая радость красоты: экфрасис в творчестве акмеистов и европейская традиция. СПб., 2003.
- Никонова Т.А. О смысле человеческого существования в творчестве И. А. Бунина//И.А. Бунин: pro et contra. СПб., 2001. С. 791.
- Бунин И.А. Мелитон//Бунин И. А. Собр. соч.: В 9 т. М., 1965. Т. 2. С. 207.
- Жирмунский В.М. Задачи поэтики//Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977. С. 15-56.
- Тургенев И.С. Три встречи//Тургенев И.С. Собр. соч.: в 12 т. М., 1954. Т. 5. С. 234.
- Жирмунский В.М. Указ. соч. С. 49-51.
- Гоголь Н.В. Майская ночь, или Утопленница//Гоголь Н.В. Собр. соч.: в 8 т. М., 1984. Т. 1. С. 114.
- Бунин И. А. Указ. соч. С. 210.
- Там же. С. 205.