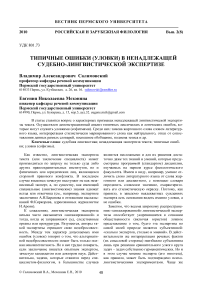Типичные ошибки (уловки) в ненадлежащей судебно-лингвистической экспертизе
Автор: Салимовский Владимир Александрович, Мехонина Евгения Николаевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Статья в выпуске: 2 (8), 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье ставится вопрос о характерных признаках ненадлежащей лингвистической экспертизы текста. Осуществлен демонстрационный анализ типичных лексических и логических ошибок, которые могут служить уловками (софизмами). Среди них: замена жаргонного слова словом литературного языка, интерпретация стилистически маркированного слова как нейтрального, отказ от сопоставления данных разных словарей, поспешное обобщение, подмена тезиса и др.
Судебная лингвистика, ненадлежащая экспертиза текста, типичные ошибки, уловки (софизмы)
Короткий адрес: https://sciup.org/14728845
IDR: 14728845 | УДК: 801.73
Текст научной статьи Типичные ошибки (уловки) в ненадлежащей судебно-лингвистической экспертизе
Как известно, лингвистическая экспертиза текста (или заключение специалиста) может производиться по запросу не только суда либо других правоохранительных институтов, но и физических или юридических лиц, являющихся стороной правового конфликта. В последнем случае языковед зачастую выступает не как независимый эксперт, а, по существу, как имеющий специальные (лингвистические) знания адвокат истца или ответчика (см., например, экспертное заключение А.Н.Баранова в отношении высказываний Ф.Киркорова, адресованных журналистке И.Ароян).
К сожалению, лингвистическая экспертиза весьма часто оказывается «ангажированной» и тогда, когда ее запрашивают суд, следственные органы или прокуратура. Разумеется, авторы такой экспертизы отрицают свою недобросовестность. Между тем характер допускаемых ими ошибок (уловок) говорит о том, что альтернативой недобросовестности может быть только полная некомпетентность. Но в нее трудно поверить, если заключение пишется опытным экспертом, зачастую кандидатом или доктором наук. Действительно, задачи, которые ставятся перед специалистом-филологом, в большинстве случаев являются несложными и для их решения достаточно даже тех знаний и умений, которые предусмотрены программой (стандартом) дисциплин, изучаемых на первом курсе филологического факультета. Имеем в виду, например, умение отличить слово литературного языка от слова жаргонного или диалектного, с помощью словаря определить словесное значение, охарактеризовать его стилистическую окраску. Поэтому, как правило, в заведомо неадекватных суждениях эксперта есть основания видеть именно уловки, а не ошибки.
Заметим, что весьма широкому распространению «ангажированной» лингвистической экспертизы способствует укоренившееся в сознании общественности (включая юристов) ложное представление о том, будто эта экспертиза по самой своей природе является субъективной: «сколько экспертов, столько и мнений». В действительности же интерпретация речевых фактов (их смысловой стороны) неизбежно субъективна лишь при решении сравнительного узкого круга задач – задач собственно герменевтических. Но и в этом случае мнение эксперта (его гипотеза), как правило, может быть подтверждено психолингвистическими экспериментами. Чаще же
всего, как было сказано, лингвист решает сравнительно простые задачи, используя сложившиеся в науке строгие методы анализа. При этом он не имеет возможности, грубо не нарушая норм исследования, проявлять субъективизм (предвзятость).
Именно поэтому актуальной становится задача систематизации присущих ненадлежащей экспертизе типичных явных отклонений от исследовательских норм. Остановимся на лексических и лексикографических ошибках (уловках).
Иллюстративным материалом послужил текст заключения «Центра судебных экспертиз северозападного округа Санкт-Петербурга» по делу о преступлении против девятиклассника Тагира Керимова.
Вот что сообщали СМИ об этом правонарушении:
«ИТАР-ТАСС
28.08.2009.
Следственный комитет при прокуратуре отказался расследовать дело о нападении на киргизского девятиклассника Тагира Керимова.
Решение об этом было принято на основании выводов лингвистической экспертизы, которая установила, что лозунги «Россия для русских» и «Убивай хача» не являются националистическими. Именно эти слова выкрикивали молодые люди, которые напали на подростка».
В ходе расследования перед экспертом ставился вопрос: «Направлены ли фразы: «Убивай хача, мочи хача!», «Бей хача!», «Крысам – кры-сячья смерть!», «Бей чурбанов!», «Бей черных!», «Бей черных, бей хачей!», «Россия для русских!» в контексте данной ситуации на разжигание межнациональной розни, вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц по признаку национальности, происхождения?»
Оговорим, что этот вопрос, с нашей точки зрения, сформулирован не вполне корректно. Понятия «межнациональная рознь», «унижение достоинства человека» являются правовыми. Они определяются в текстах законов, в специальных комментариях, в юридических пособиях. Именно юрист должен решить, нарушают ли определенную правовую норму речевые действия, характеризующиеся теми или иными признаками. Задача же языковеда – предоставить юристу информацию о наличии или отсутствии у исследуемых высказываний языковых показателей тех правонарушений, в совершении которых подозревается то или иное лицо.
Поэтому целесообразно задавать лингвисту конкретные вопросы о языковых фактах, например: каково значение слов «хач», «чурбан», «черный» в составе высказываний «Убивай хача, мочи хача!», «Бей хача!», «Бей чурбанов!», «Бей черных!», «Бей черных, бей хачей!»? Являются ли эти слова стилистически нейтральными или экспрессивно окрашенными? Если они имеют экспрессивную окраску, то какую? Каково смысловое содержание высказывания «Россия для русских»?
Отвечая на эти вопросы, лингвист должен был бы отметить, что существительные «хач», «чурбан», субстантивированное прилагательное «черный» являются номинациями людей, представляющих народы Кавказа и Средней Азии (также некоторых других регионов) и что данные слова имеют пренебрежительную и уничижительную стилистическую окраску. Эти сведения, очевидно, позволили бы юристу решить вопрос о направленности рассматриваемых высказываний на унижение достоинства человека или группы лиц по признаку национальности. Информация же о смысловом содержании высказывания «Россия для русских!»: для русских, а не для «хачей», т.е. не для представителей национальных меньшинств, – позволяет интерпретировать данный лозунг на основе правовых понятий «дискриминация людей по национальному признаку», «разжигание межнациональной розни».
Обратимся к лексическим и лексикографическим ошибкам (уловкам) в указанном экспертном заключении. Их легко выявить при сравнении текста экспертизы со следующими показаниями словаря:
«Хач, -а, м., пренебр. 2. Представитель одной из кавказских народностей.
Чурбан, -а, м. 1. пренебр. Житель Кавказа, Средней Азии.
Чёрный, -ого, м. 3. пренебр. Житель Кавказа или Средней Азии»
[Никитина 2003: 771, 810, 799].
Рассмотрим теперь ошибки (уловки) эксперта.
♦ При истолковании семантики жаргонного слова оно подменяется словом литературного языка. В тексте экспертизы читаем:
«Чурбан – 2. Бранно. О бестолковом, глупом или черством человеке. Этому чурбану ничего не втолкуешь. Неотесанный чурбан. О грубом, невоспитанном человеке».
Указанным значением подменено интересующее юриста значение: «пренебр. Житель Кавказа, Средней Азии».
♦ Эксперт предоставляет избыточную информацию о лексико-семантических вариантах слова или о семантике омонимов и в результате отказывается от идентификации значения слова в предъявленном контексте:
«Черные – жаргонное – кавказцы.
Черный – в значении существительного, просторечное. Эвфемизм к черт. Кого это черный принес в такую пору?».
Тем самым создается ложное представление о том, будто эвфемистическое употребление слова «черный» может иметь отношение к описываемой в уголовном деле ситуации.
♦ Слово с отрицательным стилистическим значением характеризуется как нейтральное:
«Черные – жаргонное – кавказцы». «Хач – лицо кавказской национальности».
Заметим, что стилистическое значение слов «хач», «чурбан», «черный» в контексте: «Убивай хача, мочи хача!», «Бей хача!», «Бей чурбанов!», «Бей черных!», «Бей черных, бей хачей!» – выражает не только пренебрежительное, но и уничижительное отношение к человеку, именуемому «хачем», «чурбаном», «черным».
♦ Эксперт не сопоставляет показаний всех (или по крайней мере основных) словарей, позволяющих описать изучаемые языковые факты, но выбирает «удобные» непрофессиональные лексикографические источники, в которых нет данных, релевантных для решения судебнолингвистической задачи. Так, мы уже указали на отсутствие в материалах экспертизы необходимых стилистических помет у слов «хач», «чурбан», «черный». Обращает на себя внимание и некорректность дефиниций («лицо кавказской национальности»).
Рассмотренные лексические и лексикографические ошибки дополняются логическими уловками. К их числу относятся:
-
1) . «Поспешное обобщение», т.е. неправильное индуктивное обобщение, «когда некоторое свойство, обнаруженное только у небольшой части предметов данного класса переносят на все предметы класса...» [Кондаков 1971: 237]. Действительно, тот факт, что иногда высказывания произносятся не всерьез, естественно, не свидетельствует о том, что всякое высказывание в любой ситуации может быть шуткой, в частности, что выкрики «Убивай хача, мочи хача!», «Бей хача!», «Крысам – крысячья смерть!», «Бей чурбанов!», «Бей черных!», «Бей черных, бей ха-чей!», «Россия для русских!» в ситуации жестокого избиения группой подростков школьника-киргиза могли произноситься в шутку.
-
2) . «Подмена тезиса». Верный тезис о зависимости иллокутивной силы высказывания от интенции говорящего подменен внешне схожим с ним ошибочным положением о детерминированности семантики лексических единиц и смыслового содержания высказываний мотивами поведения. Так, независимо от того, определялось ли поведение правонарушителей их садистскими наклонностями, или стремлением повысить свой статус в группе, или чувством мести, или каким-либо иным мотивом, употребляемые ими слова и высказывания имеют вполне определенное со-
- держание, которое эксперт в соответствии с поставленной перед ним задачей должен был выявить.
-
3) . «Абракадабра» – акцент на рассуждениях, которые имеют видимость научных, но в действительности таковыми не являются. В.Д.Зайцев в учебнике по теории и практике аргументации приводит остроумный пример этой уловки: «О поездке Дидро в Россию по приглашению Екатерины II рассказывают следующий анекдот. Дидро был атеистом и не скрывал своих убеждений... Против энциклопедиста был составлен небольшой заговор, к участию в котором был приглашен знаменитый математик Эйлер, человек глубоко религиозный. Эйлер объявил, что ему удалось найти доказательство бытия Бога, которое он охотно изложит Дидро в присутствии всего императорского двора. Дидро согласился на диспут. Эйлер, пользуясь тем, что Дидро совершенно не знал математики, встал и, глядя на своего оппонента, замогильным голосом произнес: « a в квадрате минус b в квадрате равно а минус b , умноженному на а плюс b . Следовательно, Бог существует. Вы согласны?» Раздался общий смех, и Дидро совершенно растерялся...» [Зайцев 2007: 155].
Пример наукообразных фрагментов экспертного заключения, в действительности лишенных научного смысла:
«II. Методы исследования высказываний
Исследование носит комплексный характер. При анализе высказываний использовались лексический, лингвостилистический, психолингвистический, социально-психологический, контекстуальный анализы. Лингвистическое исследование проводилось с использованием справочной литературы и словарей».
Между тем в тексте экспертизы нет проявлений лингвостилистического, психолингвистического и социально-психологического анализа. К тому же эксперт, вопреки заглавию раздела, ничего не говорит о методах исследования, т.е. о способах получения достоверного знания (возможно, он действительно не знаком со специальными методами, используемыми в лексикологии, лингвостилистике и других называемых им науках). Но при этом вполне успешно имитируется научный стиль изложения.
Рассмотренные выше разноплановые, но имеющие единую направленность ошибки (уловки) привели эксперта к выводам, противоречащим очевидности, что и стало причиной повышенного внимания средств массовой информации к указанной экспертизе.
Представляется, что изучение типичных ошибок (уловок) ненадлежащей экспертизы будет способствовать выработке критериев ее идентификации.
TYPICAL MISTAKES (TRICKS)
IN IMPROPER FORENSIC LINGUISTIC EXPERTISE
Vladimir A. Salimovsky
Professor of Speech Communication Department
Perm State University
Evgeniya N. Mekhonina
Lecturer Assistant of Speech Communication Department
Perm State University
Список литературы Типичные ошибки (уловки) в ненадлежащей судебно-лингвистической экспертизе
- Зайцев В.Д. Теория и практика аргументации. М.: ИД «Форум», 2007. 224 с.
- Заключение «Центра судебных экспертиз северо-западного округа Санкт-Петербурга». URL: http://www.openinform.ru/fs/j_photos/openinform_191.pdf> (дата обращения: 13.09.09).
- Кондаков Н.И. Логический словарь. М.: Наука, 1971. 656 с.
- Никитина Т.Г. Молодежный сленг: Толковый словарь. М.: Астрель, 2003. 912 с.