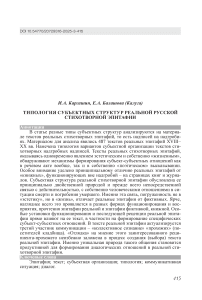Типология субъектных структур реальной русской стихотворной эпитафии
Автор: И.А. Каргашин, Е.А. Балашова
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Речевые практики
Статья в выпуске: 3 (74), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье разные типы субъектных структур анализируются на материале текстов реальных стихотворных эпитафий, то есть надписей на надгробиях. Материалом для анализа явились 487 текстов реальных эпитафий ХVIII– ХХ вв. Намечена типология вариантов субъектной организации текстов стихотворных надгробных надписей. Тексты реальных стихотворных эпитафий, оказываясь одновременно явлением эстетическим и собственно «жизненным», обнаруживают механизмы формирования субъект-субъектных отношений как в речевом акте вообще, так и в собственно «поэтическом» высказывании. Особое внимание уделено принципиальному отличию реальных эпитафий от «книжных», функционирующих вне надгробий – на страницах книг и журналов. Субъектная структура реальной стихотворной эпитафии обусловлена ее принципиально двойственной природой и прежде всего непосредственной связью с действительностью, с собственно человеческими отношениями в ситуации смерти и погребения умершего. Именно эта связь, погруженность не в «эстетику», но в «жизнь», отличает реальные эпитафии от фиктивных. Ярче, нагляднее всего это проявляется в разных формах функционирования и восприятия, прочтения эпитафии реальной и эпитафии фиктивной, книжной. Особые установки функционирования и последующей рецепции реальной эпитафии прямо влияют на ее текст, в частности на формирование специфических субъект-субъектных отношений. В тексте реальной эпитафии актуализируется третий участник коммуникации – «коллективное сознание» «прохожих» (посетителей кладбища). «Оглядка» на мнение этого заинтересованного реципиента-прохожего неизбежно заложена в процесс создания (выбора) текста реальной эпитафии. Именно уникальная природа такого общения становится продуктивной для формирования диалогических отношений в реальной стихотворной эпитафии.
Эпитафия, текст, субъектная организация, типология, коммуникативная ситуация, диалог
Короткий адрес: https://sciup.org/149149410
IDR: 149149410 | DOI: 10.54770/20729316-2025-3-415
Текст научной статьи Типология субъектных структур реальной русской стихотворной эпитафии
Epitaph; text; subject organization; typology; communicative situation; dialogue.
В данной статье разные типы субъектных структур анализируются на материале текстов реальных стихотворных эпитафий, то есть надписей на надгробиях. Не вдаваясь в терминологические дискуссии (кладбищенские, фольклорные, фольклорно-письменные, нелитературные и т.п.), остановимся на обозначении таких текстов как реальные эпитафии (в отличие от фиктивных эпитафий, то есть «книжных», функционирующих вне надгробий – на страницах рукописей, книг и журналов). Заметим, что именно этой оппозиции – эпитафия реальная / фиктивная придерживаются авторы работ: [Гаспаров 1975; Николаев, Царькова 1998b].
Реальная стихотворная эпитафия – стихотворное высказывание, функционирующее в форме надписи на надгробном памятнике. При этом источники такого высказывания могут быть самыми различными – от образцов индивидуального творчества до воспроизводимого классического стихотворения (отрывка), фрагментов библейского, фольклорного текста и т.д.
Такого рода высказывание, оказываясь одновременно явлением эстетическим и собственно «жизненным», обнаруживает механизмы формирования субъект-субъектных отношений как в речевом акте вообще, так и в собственно «поэтическом» высказывании. Разумеется, говоря об «эстетической»
(точнее – «художественной») природе реальной эпитафии, мы не имеем в виду ее качество и тем более оценку этого качества. Речь идет о том, что реализация надписи на надгробном памятнике в стихотворной форме отграничивает текст реальной эпитафии от высказывания бытового и заведомо внехудожественного.
Представленная в статье типология является результатом анализа 487 примеров реальных эпитафий (см.: [Русская стихотворная эпитафия 1998; Эпитафии 1991]). Протяженность рассмотренных надписей – от одно-стишия до 70-строчного текста.
Как показал анализ, тексты реальной стихотворной эпитафии реализуются в следующих субъектных структурах:
-
- сообщение об умершем в 3 лице ( он , она, иногда они ) от имени скорбящих (от я или мы членов семьи, близких, друзей). Такое сообщение обычно включает рассказ о жизненном пути и качествах погребенного;
-
- обращение к умершему во 2 лице от имени родных и близких. Помимо обращения такой текст нередко содержит и фабульные вкрапления (сообщение о вехах биографии, подробностях кончины и проч.). Например (отрывок):
Из края в край судьбой носимый, Родной ты берег покидал И океан необозримый Не раз, шутя, переплывал, Фрегаты строил на Сангуре, На них ты плавал по Амуре И край Амурский открывал [Русская стихотворная эпитафия 1998, 421];
-
- монолог от Я - от лица умершего, обращенный к кому-либо из оставшихся на земле (к любимой, родителям, друзьям и т.п.);
-
- монолог (от лица скорбящих либо от имени умершего), обращенный к «путнику» («страннику»), то есть лицу, проходящему мимо памятника -читателю (читателям) эпитафии, см.:
Постой, прохожий, здесь постой и отдохни!
Умным оком зри, как меркнут наши дни… Коль восплачешь ты о мне, восплачут о тебе, Все смертные подвержены одной судьбе! [Эпитафии 1991, 27]
Обратим внимание: обращение к путнику (страннику) следует считать древнейшей формой эпитафии, см., например, текст эпитафии павшим воинам из древнегреческого Коринфа (первые два стиха):
Странник, мы жили когда-то в обильном водою Коринфе, Ныне же нас Саламин, остров Аянта, хранит [Греческая эпиграмма 1993, 13].
Стоит заметить, что субъект реальных эпитафий нередко обращается к предметам или абстрактным явлениям (к листьям, птицам, весне, жизни, смерти, молодости и т.п.), см.:
Тише, листья, не шумите,
Моего Борю не будите.
Мой Боря крепко спит.
Вам его не разбудить
[Русская стихотворная эпитафия 1998, 451].
Наряду с апелляцией к страннику обращение к природным явлениям можно рассматривать как свидетельство глубокой укорененности реальной эпитафии в архаическом сознании. Напомним суждение О.М. Фрейденберг:
Обычно в фольклоре не только люди говорят, но говорит небо, свет, солнце, звезды; говорит растительность, говорит вода и земля. Но что значит «говорит»? «Живет», «светит». Акт «реченья» есть акт осиленной смерти, побежденного мрака. И потому такое значение «говора» сохранилось в античной религии, в фольклоре, в поэзии, в мета-фористике. Так древнейший Зевс <.. .> вещает в шелесте листьев дуба, в плеске воды. [Фрейденберг 1997, 121-122].
Показательно, что данная эпитафия получила распространение в ХХ в. уже в советское время, ср. «универсальный вариант», встретившийся на Военном кладбище в Минске (1947 г.): Тихо, листья, не шумите, // Моих любимых не будите [Николаев, Царькова 1998a, 604];
– популярной стихотворной эпитафией является «безличное» высказывание, приобретающее форму поэтической сентенции, обыгрывающей мотивы жизни и смерти . Например:
Жизнь! Ты море и волненье,
Смерть! Ты пристань и покой;
Будет там соединенье
Разлученных здесь волной
[Русская стихотворная эпитафия 1998, 410].
Или даже так:
Для любви - нет смерти! [Эпитафии 1991, 111];
-
- высказывание с неопределенным субъектным статусом. Субъектная структура такой эпитафии устанавливается благодаря конситуации, то есть контексту и различным внелингвистическим факторам (уточнение истории погребения, биографии умершего или его близких и прочее) или же не устанавливается вовсе. В качестве примера приведем текст стихотворной эпитафии 1836 г.:
Мой друг, как ужасно, как сладко любить!
Весь мир так прекрасен, как лик совершенства [Русская стихотворная эпитафия 1998, 411].
В издании «Петербургский некрополь» (СПб., 1912-1913. Т. 1-4) указывается, что эпитафия посвящена Е.Л. Владимировой, погребенной на Волковском православном кладбище [Николаев, Царькова 1998a, 594]. Однако текст эпитафии составлен таким образом, что его не проясняет даже прозаическая справка на памятнике: «В замужестве была 9 месяцев, 11 дней». Становится понятно, что памятник поставлен женщине, но кто выступает субъектом изречения? Это может быть вдовец умершей, но с равным правом субъектом такого высказывания можно назвать его жену (то есть текст написан от лица усопшей). Субъектную природу таких надписей уместно обозначить как своего рода «субъектный палиндром»: текст читается и как адресованный умершему, и как монолог самого умершего.
Кроме того, неопределенный субъектный статус надгробной надписи отмечается в тех (многочисленных!) случаях, когда эпитафией становится текст (фрагмент) стихотворения, популярной песни, библейского стиха или молитвы. Например, полный текст стихотворения Н. Крандиевской-Толстой «Эпитафия» (1954) стал реальной эпитафией на ее могиле (см.: [Николаев, Царькова 1998a, 605]. Подобный случай – два стиха стихотворения Б.Ф. Озёрного, ставшие автоэпитафией, см.:
Только поэт, умирая, Как лебедь, роняет перо [Русская стихотворная эпитафия 1998, 453];
– текст, демонстрирующий прямо выраженный характер межсубъектных отношений. Формы реализации такого «диалогизма» различны и многообразны. Например, обмен репликами или полилог внутри единого текста, обращения к разным субъектам – участникам коммуникации, включение в текст «чужой речи», явления «субъектного синкретизма» и т.п.
Один из распространенных приемов проявления диалогических отношений – появление в последнем стихе эпитафии ответной реплики адресата монолога. Например, текст завершается «репликой» погребенного юноши (стих оформлен как его «прямая речь»):
Проснись, о юноша, и облекися славой!
Твой шлем осиротел, и меч покрылся ржавой!
Приди хоть раз еще обнять родных своих.
«Я в доме у отца и там увижу их»
[Русская стихотворная эпитафия 1998, 402].
Подобная форма «реплицирования», несомненно, является древнейшей, стоит у истоков эпитафий и в целом эпиграмматических текстов, ср. из эпиграмм, приписываемых Симониду:
ПОБЕДИТЕЛЬ КАСМИЛ
Молви, кто ты? Чей сын? Где родился? И в чем победитель? Касмил; Эвагров; Родос; в Дельфах, в кулачном бою [Греческая эпиграмма 1993, 18].
Обратим внимание на комментарий Н.А. Чистяковой: «Надпись составлена в обычной манере диалога прохожего со статуей: первая строка – четыре вопроса, вторая – столько же ответов» [Чистякова 1993, 376].
Такая «реплика» может быть оформлена как точка зрения другого. Например:
Поборник истины, блюститель правоты,
Служил, как верный сын, Отечеству, престолу,
Как столп, недвижим, непреклонен долу, Высокий, тонкий ум и сердца доброты Всегда он озарял чистейшею душою, Был славен на земли, но верою святою В прекрасных днях своих стремился к небесам; Здесь в памяти живет, а дух бессмертный – там;
Дочь благодарная печалью сраженна
Лежит, едва дыша, у праха ей священна.
Лежит и молится и про себя и вслух:
Да в лоне Божием его почиет дух
[Русская стихотворная эпитафия 1998, 407].
Текст, посвященный добродетелям покойного и повествующий о нем в прошедшем времени (выстраивающий характерную «эпическую дистанцию»), сменяется «сиюминутным» изображением скорбящей дочери. Сцена, осваивающая настоящее время, завершается включением ее пожелания родителю: Да в лоне Божием его почиет дух .
В больших по объему текстах точка зрения субъекта, его прямая речь нередко не ограничиваются одним или двумя стихами, перерастая в самостоятельный монолог отвечающего. Так, пространная эпитафия «Во мраке веры ты Спасителя любила…» (всего 22 стиха, 1803 г.) монолог от лица вдовца к ты умершей сменяется шестистрочной строфой – монологом от ее лица. При этом монолог от я покойной обращен к самому Спасителю. См. чередование монологов (сознаний) мужа и жены:
О друг бесценный мой! друг в сердце незабвенный!
Прах милыя жены! Прах сердцу драгоценный!
Прими сей памятник – залог моей любви, – Покойся до трубы, – в зарях небес живи.
Грех душу тяготил! Плоть дух мой угнетала, Но ты меня, мой Бог! От века возлюбил
Под бременем креста к тебе, мой Бог, взывала,
Любовь твоя с креста надежду мне вдыхала,
Не я в твой гроб бальзам, ты в мой, Спаситель, влил, Спасенная тобой, пред суд я твой предстала [Русская стихотворная эпитафия 1998, 393].
Далее еще две строфы занимает ответный монолог скорбящего мужа. Заметим, что посредством реминисценции монолог вдовца содержит отсылку еще к одному высказыванию. См. комментарий авторов примечаний:
Покойся до трубы – частый образ в эпитафиях, перекликается со ст. Священного писания: «Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменится вдруг, во мгновение ока при последней трубе: ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся» (К коринфянам, гл. 15, ст. 51–52) [Николаев, Царькова 1998a, 587];
- наконец, пространные, протяженные эпитафии зачастую представляют собой контаминацию различных форм субъектной организации. В качестве образца обратим внимание на эпитафию И.Т. Лисенкову. Этот уникальный 70-строчный текст неоднократно привлекал внимание литературоведов и историков культуры. Неоднородный текст оказывается собранием разрозненных стихотворных фрагментов, перемежающихся прозаическими вставками. Размышления о жизни и смерти от лица умершего соседствуют здесь с сентенциями философского характера, нравоучениями («правилами жизни»), пословицами и поговорками и реминисценциями из стихотворений Державина и Баратынского. Заметим, что монтаж стиха и прозы в текстах реальных эпитафий – распространенное и пока не изученное явление.
Необходимо подчеркнуть, что субъектная структура реальной стихотворной эпитафии обусловлена ее принципиально двойственной природой и прежде всего непосредственной связью с действительностью, с собственно человеческими отношениями в ситуации смерти и погребения умершего. Именно эта связь, погруженность в «человеческое, слишком человеческое» (не в «эстетику», но в «жизнь»), на наш взгляд, отличает реальные эпитафии от фиктивных. Ярче, нагляднее всего это проявляется в разных формах функционирования и восприятия, прочтения эпитафии реальной и эпитафии фиктивной, книжной. Разумеется, особые установки функционирования и последующей рецепции реальной эпитафии прямо влияют на ее текст. В частности, – на формирование специфических субъект-субъектных отношений.
М.Ф. Муранов в книге «Пушкинские эпитафии» отмечает, что русские эпитафии
…не избежали участи, которую имел этот жанр на западноевропейской почве, где сочинения такого рода давно размежевались на два неслиянных направления. Были эпитафии, создававшиеся для того, чтобы стать настоящими надписями на кладбищах, но возникали и литературные фикции, их никто бы и не подумал предлагать для исполнения в камне [Муранов 1995, 19].
Книжные эпитафии, не рассчитанные на исполнение «в камне», но вышедшие из-под пера большого поэта, обычно оказываются на периферии его творчества и в первую очередь удостаиваются внимания литературоведов (изучающих жанровый репертуар автора, подробности его биографии, близкое окружение и т.п.). Разумеется, возможны случаи, когда текст эпитафии остается в ряду собственно книжных, но при этом близок к реальным эпитафиям и по тону, по преобладающему эмоционально-эстетическому настрою, и по содержанию. Происходит это тогда, когда текст посвящен памяти умершего, хотя и не становится надписью на памятнике. Например, таково стихотворение Лермонтова «Эпитафия» («Простосердечный сын свободы…»), предположительно посвященное Д.В. Веневитинову. Дмитрий Владимирович Веневитинов скончался в 1827 г., стихотворение Лермонтова датировано 1830 г. Отметим, что на памятнике поэту на Новодевичьем кладбище начертано только: «Поэт Дмитрий Владимирович Веневитинов. 1805–1827».
Текст «Эпитафии» Лермонтова, как видим, остался в ряду книжных посвящений умершему. Чаще же всего «книжная» эпитафия (адресованная живущему человеку!) становится разновидностью эпитафии эпиграмматической, оказывается в ряду сатирической, шутливой и пародийной литературы. Тем самым и бытование, и читательское восприятие книжной эпитафии неизбежно ограничиваются сферой развлечения, досуга.
В случае же с реальной эпитафией меняется все: цель создания, место бытования, ситуация освоения-прочтения. Ответным предвосхищением этих особенностей становится и самый текст кладбищенской надписи. Повторимся: мы говорим не о ее художественных особенностях, «литературный уровень» реальной эпитафии может быть разным. Однако несомненно, что реальная эпитафия (как таковая, независимо от ее «литературных» достоинств) самим фактом своего существования не допускает принадлежности к смеховой культуре, принципиально отстоит от текстов сатирической, пародийной направленности.
Самый процесс восприятия надгробного текста неизбежно амбивалентен. Он таит в себе нечто лично-интимное, поистине «уединенное» (по слову В.В. Розанова). Но он же есть публичный акт: «эпитафия в камне» предназначена для всеобщего обозрения, что называется, выставлена «напоказ». Реальная эпитафия рассчитана на заинтересованное прочтение всякого прохожего, делается с учетом его «живой» реакции. Тем самым воспринимающий кладбищенскую надпись становится участником уникальной коммуникативной ситуации.
Текст книжной эпитафии выстраивается как взаимодействие двух субъектов: субъекта высказывания (обращения) и субъекта восприятия этого высказывания (адресата сообщения). В тексте реальной эпитафии актуализируется третий участник коммуникации – «коллективное сознание» прохожих (нередко выраженное эксплицитно, ср. с древности известная формула: «Остановись, прохожий…», имплицитно же всегда актуальное). «Оглядка» на мнение этого заинтересованного реципиента-прохожего неизбежно заложена в процесс создания (выбора) текста реальной эпитафии.
Именно уникальная природа такого общения становится продуктивной для формирования диалогических отношений в реальной стихотворной эпитафии.
Кладбище одновременно оказывается и сакральной территорией, и «местом встречи своих» – особенно это касается не столичных и не «парадных» кладбищ. Прохожий-читатель таких кладбищ сознательно или поневоле втягивается в «мир своих», связанных общей «апперцепционной базой» (по давней формуле Л.П. Якубинского).
Любопытно наблюдать, как установка на «мир своих» проникает в тексты подобных «домашних» эпитафий, вызывающих в памяти простодушное сознание гоголевских жителей Диканьки:
Под сим памятником и крестом Прах младой отроковицы. Оставила сей свет постом, Уж не узрит более денницы. Отроду имела 10 лет.
Воспитателям была для потехи, Цвела как маков цвет, Но смерть сокрыла все утехи.
Если знаете мельника Лаврентьевых, ими сей памятник сооружен над Аграфеною, воспитанницею их, которой прах в 1860 г. 4 июня положен [Русская стихотворная эпитафия 1998, 417];
***
Вот здесь лежит в сырой земле Старушка моя мать, Которую Дарьюшкой было звать... Всем в городе она была знакома, У многих господ и купцов служила, Так вот не забудьте старых друзей – Когда будете проходить мимо меня, Старушку Дарьюшку помяните И вечную память ей скажите...
И затем жди меня,
Сына твоего Михаила Кузьмича [Русская стихотворная эпитафия 1998, 440];
***
Тут Иван Семашко лежит,
У ногах черная собака тужит,
У головах фляжка горилки стоит,
У руках острый меч держит.
Го! го! го!
Що ж кому до того
[Русская стихотворная эпитафия 1998, 459–460].
Не менее показательны «фабульные включения», порой встречающиеся в стихотворных надписях на надгробиях. Подобные сообщения рассчитаны, в первую очередь, на сочувственное внимание близких людей – соседей, земляков и т.п. Например:
Случилась ея кончина Без супруга и без сына. Там в Крапивне гремел бал, Никто этого не знал, Телеграмму о смерти получили И со свадьбы укатили.
Здесь лежит супруга-мать, Ольга. Чтобы ей сказать Для души полезное: Царство ей небесное [Русская стихотворная эпитафия 1998, 437].
См. также (отрывок):
Весть печальная постигла нас, Что дочь Софья как бы унеслась из глаз.
Увы! Куды ты милая девалась?
Ты была у тетки, но там тебя не оказалось…
И скоро сердце вещее узнало о тебе, Что ты уж бедная находишься в реке. И труп твой найден был в 9-й день на дне, Тогда как твой родитель находился вдалеке.
А теперь твой прах покоится средь милых мне детей До радостных для всех нас светлых дней...
[Русская стихотворная эпитафия 1998, 460].
Стихотворная надпись на кладбищенском памятнике ориентирована на мнение окружающих и зачастую прямо на него рассчитывает, налаживая «фамильярный контакт» (М.М. Бахтин) с читателями. Для адекватной интерпретации текстов реальных эпитафий необходимо учитывать возможную «оглядку» автора надписи на точку зрения ее пристрастных читателей.
В самом деле, что, например, можно сказать о такой эпитафии:
Говорила тебе я:
«Ты не ешь грибов, Илья!»
Не послушал и покушал.
Ну, и Бог тебе судья
[Русская стихотворная эпитафия 1998, 462].
На первый взгляд, пафос такого высказывания более соответствовал бы эпитафии эпиграмматической, шутливой. Однако следует учитывать, что это текст подлинной кладбищенской надписи, притом встретившейся на кладбище купеческом (см. характеристику купеческих кладбищ в книге М.Ф. Муранова [Муранов 1995, 20–21]). В этом случае как будто бы «комическая» эпитафия оказывается с «двойным дном», обнаруживает иную авторскую интенцию! По сетители провинциального купеческого кладбища – знакомые и родственники, друзья и недоброжелатели. С оглядкой на вполне возможные пересуды и сплетни «прохожих» («отравили Илью-то, жена отравила…»!) и выстраивается бесхитростный (или лукавый?) рассказ о гибели мужа.
Обратим внимание и на другой текст, также предполагающий неоднозначную интерпретацию:
Мечты, мечты!.. Где моя радость?
Оставив друга своего,
В сырой могиле помещаясь,
Забыла про него! [Эпитафии 1991, 82]
Эпитафия записана с могильной плиты ярославского Леонтьевского кладбища в 1895 или 1896 г. священником Сильвестром Соколовым. К сожалению, никаких комментариев или примечаний к этому тексту автор публикации не дает. Первая возможная интерпретация очевидна. К умершей супруге обращается вдовец, говорящий о себе в 3 лице («Оставив друга своего…»). В то же время не исключается принципиально иное толкование: монолог написан от имени покойной супруги, и в этом случае надгробная надпись содержит скрытую обиду мужа на «легкомысленную» и безответственную супругу. Истинный смысл высказывания пояснил бы контекст, в данном случае отсутствующий.
Таким образом, реальную стихотворную эпитафию следует рассматривать как речевой жанр, способствующий развитию субъект-субъектных отношений, развивающихся далее в собственно литературных поэтических жанрах.
В заключение отметим ряд вопросов, которые выходили за рамки поставленной в статье задачи, но их изучение в дальнейшем может оказаться продуктивным. Прежде всего, на наш взгляд, это динамика субъект-субъектных отношений в текстах реальной русской эпитафии на протяжении XVIII–XX вв. и этапы развития эпитафии. Несомненный интерес представляет и исследование соотношений разных традиций в реальной стихотворной эпитафии на протяжении трех столетий. Наконец, это взаимовлияние книжной и реальной эпитафии на разных этапах развития жанра.