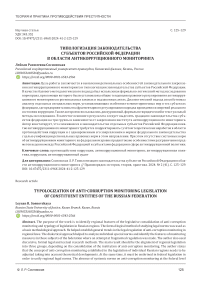Типологизация законодательства субъектов Российской Федерации в области антикоррупционного мониторинга
Автор: Сосновская Л.Р.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Теория и практика противодействия преступности
Статья в выпуске: 2 (41), 2024 года.
Бесплатный доступ
Цель работы заключается в выявлении региональных особенностей законодательного закрепления антикоррупционного мониторинга и типологизации законодательства субъектов Российской Федерации. В качестве базового методологического подхода был использован формально-логический метод исследования норм права, при помощи которого были установлены общие тенденции правового регулирования антикоррупционного мониторинга в региональных законах и подзаконных актах. Диалектический подход способствовал анализу отдельных специальных норм, устанавливающих особенности мониторинговых мер в тех субъектах федерации, где предпринята попытка фрагментарного регулирования порядка проведения измерений реального состояния коррупции. Также автором использовались дискурсивный, формально-юридический и текстуальный методы исследования. В качестве основного результата следует выделить градацию законодательства субъектов федерации на три группы в зависимости от закрепления института антикоррупционного мониторинга. Автор констатирует, что сложившееся в законодательстве отдельных субъектов Российской Федерации понятие антикоррупционного мониторинга требуется скорректировать с учётом теоретических наработок в области противодействия коррупции и с одновременным его закреплением в нормах федерального законодательства с целью унификации региональных правовых норм в этом направлении. При этом отсутствие системных норм об антикоррупционном мониторинге на федеральном уровне продиктовано особенностями разграничения предметов ведения между Российской Федерацией и субъектами федерации в сфере антикоррупционной политики.
Противодействие коррупции, антикоррупционный мониторинг, антикоррупционная политика, коррупция, антикоррупционный аудит
Короткий адрес: https://sciup.org/14130584
IDR: 14130584 | УДК: 343.352 | DOI: 10.47475/2311-696X-2024-41-2-125-129
Текст научной статьи Типологизация законодательства субъектов Российской Федерации в области антикоррупционного мониторинга
©
Содержание антикоррупционного мониторинга образует единый комплекс механизмов, позволяющих учитывать различные коррупционные проявления для оценки реального состояния коррупции в пределах определённой территории или сферы общественных отношений с одновременным анализом факторов, способствующих повышению или снижению эффективности проводимой антикоррупционной политики.
Указанное теоретическое осмысление построено на специфике форм коррупции в отдельно взятых сегментах национальной экономики и публичного управления, что вынуждает акторов антикоррупционной политики вырабатывать специальные средства противодействия [1; 2]. Вместе с тем такой подход приводит к избирательности мер по борьбе с коррупцией, что, в свою очередь, предопределяет объём коррупционной поражённости общества [3, с. 166; 4, с. 70; 5, с. 6]. Поэтому антикоррупционный мониторинг в разных сферах общественной жизни учитывает особенности факторов, способствующих росту или снижению коррупции, а также коррупционных форм, различающихся своей территориальной спецификой [6; 7; 8].
Материали методы исследования
Действующее в Российской Федерации законодательство, содержащее нормы об антикоррупционном мониторинге, демонстрирует доминирование указанного правового подхода. Так, в положениях Федерального закона «О противодействии коррупции»1 не получила закрепление обязанность акторов антикоррупционной политики проводить оценку результативности мер, предпринимаемых в процессе противодействия коррупции. Это объясняется отсутствием нормативно-правового определения антикоррупционного мониторинга, традиционно выступающего деятельностью по измерению не только реального состояния коррупции, но и оценки эффективности публичных стратегий по борьбе с нею.
Впрочем, фрагментарно федеральные нормативноправовые акты упоминают мониторинговые действия в плоскости противодействия коррупции. Например, в нормах подзаконных актов прослеживается понятие «коррупционный риск», которое подлежит установлению мониторинговым способом:
-
1) при оценке деятельности государственных служащих2;
-
2) при прогнозировании управленческих рисков для отдельных видов государственных должностей3;
-
3) при анализе основной деятельности, осуществляемой государственными корпорациями4;
-
4) при проведении контрольно-надзорных мероприятий в отношении иных организаций с государственным участием5.
При этом отсутствие системных норм об антикоррупционном мониторинге на федеральном уровне продиктовано особенностями разграничения предметов ведения между Российской Федерацией и субъектами федерации в сфере антикоррупционной политики. Собственно, именно посредством регионального законодательства происходит правовая конкретизация большинства мониторинговых мер с одновременной необходимостью придерживаться принципов регулирования, выработанных федеральным законодательством.
Так, согласно п. 1 ст. 11 Закона № 34-ЗРТ «О противодействии коррупции в Республике Татарстан»6
антикоррупционный мониторинг является деятельностью, в которой уполномоченные лица призваны:
-
— анализировать состояние коррупции;
-
— осуществлять наблюдение за её реальным состоянием;
-
— проводить прогноз развития коррупции.
Указанные действия образуют институциональные рамки антикоррупционного мониторинга в плоскости проектирования эффективности политики по противодействию коррупции в Республике Татарстан. Такой же институциональный вариант закреплён в нормах Закона № 20-З «О противодействии коррупции в Нижегородской области»1. Антикоррупционный мониторинг включает и прогноз коррупции, и анализ её реального состояния в данном субъекте федерации, и наблюдение за коррупционными проявлениями, и оценку мер, при помощи которых реализуется региональная антикоррупционная политика с одновременным анализом существующих коррупциоген-ных факторов.
Вместе с тем такое нормативно-правовое раскрытие антикоррупционного мониторинга наблюдается в законодательстве далеко не всех субъектов Российской Федерации. В частности, Закон N 192 «О противодействии коррупции в Камчатском крае»2 установил только общие принципы, согласно которым выстраивается организационная структура по противодействию коррупции с одновременным порядком распределения полномочий.
При этом отсутствие понятия антикоррупционного мониторинга в законодательстве Камчатского края вовсе не означает, что анализ, наблюдение и оценка реального состояния коррупции, а равно меры по противодействию с ней не проводятся в данном субъекте федерации. Как отмечают специалисты, данный институт является не регионально-правовым, а федерально-правовым комплексом измерительных средств, что лишает субъекты Российской Федерации свободного усмотрения в законодательном регулировании рассматриваемых правоотношений [9, с. 158; 10, с. 108].
Применение метода типологизации к сложившемуся в субъектах федерации законодательству об антикоррупционном мониторинге позволяет ранжировать его на три группы:
-
1) региональное законодательство, не отграничивающее антикоррупционный мониторинг от общих мер по противодействию коррупции (например, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Красноярский край и др.);
-
2) региональное законодательство с фрагментарной регламентацией антикоррупционного мониторинга
(Республика Дагестан, Астраханская область, Тюменская область и др.);
-
3) региональное законодательство со спецификой регулирования антикоррупционного мониторинга (Республика Татарстан, Псковская область, Нижегородская область и др.).
Результаты и обсуждение
Если обратиться к третьей группе законодательства субъектов Российской Федерации из представленной типологизации, то можно выявить попытки выработки самостоятельного подхода к правовой конкретизации мониторинговых мер в области противодействия коррупции.
Так, законодательство Республики Татарстан придаёт антикоррупционному мониторингу широкое значение. Помимо наблюдения, анализа и прогноза состояния коррупции, он должен способствовать выявлению условий, влияющих на масштаб коррупционных правонарушений (т. н. «коррупционная поражённость»). Схожим образом осуществление мониторинга призвано установить эффективность проводимой в Татарстане политики по противодействию коррупции (п. 2 ст. 11)3.
При этом законодательство Республики Татарстан содержит такие организационные особенности антикоррупционного мониторинга, которые прямо влияют на обеспечение его независимости. В частности, координацией мониторинговых мероприятий занимается специальный орган исполнительный власти. Он устанавливается главной данного субъекта федерации — Раисом Республики Татарстан (п. 2 ст. 11)4. Ему же принадлежит полномочие по выработке порядка осуществления антикоррупционного мониторинга, однако какого-либо специального подзаконного нормативно-правового акта об этом в Татарстане до сих пор нет. Пробелом также следует признать отсутствие обязательного привлечения экспертного сообщества не только при реализации отдельных измерительных механизмов, но и при формировании стратегий и тактики оценки реального состояния коррупции в Республике Татарстан.
Систему подзаконного уровня регулирования антикоррупционного мониторинга в Татарстане составляют два дублирующих друг другу нормативно-правовых акта:
— Указ Президента Республики Татарстан от 23 марта 2011 года № УП-148 «О мерах по организации и проведению мониторинга эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Татарстан, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Татарстан, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан по реализации антикоррупционных мер на территории Республики Татарстан, а также по обеспечению информационного взаимодействия по вопросам противодействия коррупции органа, уполномоченного на проведение мониторинга, с иными государственными органами»;
— постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.06.2011 № 463 «О мерах по организации и проведению мониторинга эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Татарстан, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Татарстан, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан по реализации антикоррупционных мер на территории Республики Татарстан, а также по обеспечению информационного взаимодействия по вопросам противодействия коррупции органа, уполномоченного на проведение мониторинга, с иными государственными органами».
В своей совокупности они устанавливают общий мониторинг эффективности деятельности органов исполнительной власти регионального и федерального уровней на территории Республики Татарстан, а также органов, занимающихся местным самоуправлением. В рамках этого мониторинга предусмотрено проведение антикоррупционной оценки, но не конкретизировано, какие именно измерения должны производиться. Поэтому основную функцию по правовой детализации мониторинговых мер в Республике Татарстан выполняют муниципально-правовые акты1, в которых упоминаются и коррупциогенные факторы, и необходимость приобщения экспертов к их выявлению и анализу, а также обязательность проведения экспертных оценок над реализацией законодательства о противодействии коррупции.
Стоит признать, что смещение нормотворческой функции в области антикоррупционного мониторинга на муниципальный уровень позитивно воспринимается исследователями, специализирующимися на анализе коррупционныхрисков [11, с. 217; 12, с. 85]. При этом в формально-юридической плоскости действующее федеральное и региональное законодательство не запрещают такой порядок перераспределения полномочий.
Если обратиться к законодательству другого субъекта Российской Федерации, предпринявшего попытку выработать специальные нормы об антикоррупционном мониторинге, то можно обнаружить, что в Псковской области мониторинговые меры сведены преимущественно к анализу уполномоченными органами информации, поступающей из определённых источников (п. 5 ч. 1 ст. 1)2. Ограничение состава субъектов, наделённых правомочиями в области антикоррупционного мониторинга, соответствует теоретическим представлениям о содержании данного правового института, а также о возможностях административных инстанций по работе с большим массивом сведений, поступающих из средств массовой информации, из профильных правоохранительных и иных органов, а также от граждан и организаций.
В целом, указанный подход свойственен законодательству большинства субъектов Российской Федерации, что частично нарушает принципы, обозначенные федеральным законодательством об антикоррупционном мониторинге. Согласно последним участие в противодействии коррупции вправе принимать любые граждане и организации. Вместе с тем мониторинговые измерения предполагают наличие специальных знаний и навыков, что в терминологическом смысле предполагает определённое ограничение состава участников и выделение специальных полномочий на осуществление предусмотренных законодательством мер.
Собственная институциональная структура антикоррупционного мониторинга заложена в законодательстве Нижегородской области. В данном субъекте федерации, в отличие от многих других российских регионов, выработан специальный Порядок проведения мониторинговых измерений реального состояния коррупции3.
Несмотря на то обстоятельство, что большинство учёных рассматривают антикоррупционный мониторинг как постоянный непрерывный процесс [13, с. 68; 14, с. 33], в законодательстве Нижегородской области сформулирован лишь временный механизм осуществления мониторинговых мероприятий: не реже 1 раза за 1 календарный год.
Выводы
Сложившееся в законодательстве отдельных субъектов Российской Федерации понятие антикоррупционного мониторинга требует корректировки с учётом теоретических наработок в области противодействия коррупции. Данное определение нуждается в закреплении в нормах федерального законодательства с целью унификации региональных правовых норм в этом направлении. В частности, антикорруционный мониторинг должен пониматься как система общих и специальных мер, призванных не только сформировать сведения о реальном состоянии коррупции, но и по итогам их профессионального анализа выработать комплекс инструментов, адаптирующих проводимую субъектами федерации антикоррупционную политику, в том числе при принятии, изменении и отмене законодательных норм, подзаконных норм, а также правоприменительных управленческих решений.
Заключение
Таким образом, выделенные в статье содержательные особенности антикоррупционного мониторинга позволили типологизировать законодательство субъектов Российской Федерации по трём группам:
-
1) законодательство субъектов федерации, в которых антикоррупционный мониторинг не выделен в качестве самостоятельного механизма противодействия коррупции, поскольку его меры адаптированы под отдельные сферы (например, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Красноярский край и др.);
-
2) законодательство субъектов Российской Федерации, в котором антикоррупционный мониторинг регламентирован фрагментарно (Республика Дагестан, Астраханская область, Тюменская область и др.);
-
3) законодательство субъектов Российской Федерации, в котором предприняты попытки по выработке собственной правовой трактовки антикоррупционного мониторинга (Республика Татарстан, Псковская область, Нижегородская область и др.).
Список литературы Типологизация законодательства субъектов Российской Федерации в области антикоррупционного мониторинга
- Черкасов К. В. Некоторые вопросы мониторинга правоприменения в современной России в контексте противодействия коррупции в сфере государственного управления // Вестник Костромского государственного университета. 2019. Т. 25, № 1. С. 203-207.
- Дмитриева М. С. Коррупция и её предупреждение в сфере размещения и исполнения государственных заказов // Проблемы права. 2021. № 1 (80). С. 116-120.
- Лахтина Т.А., Рамаева К. В. Правовые средства противодействия коррупции в финансовой сфере // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2019. № 19-1. С. 166-167.
- КочетоваЕ.М. Коррупция в сфере образования как социальная проблема // Ростовский научный журнал. 2019. № 1.С. 63-75.
- Волженская Н. А. Коррупция в сфере здравоохранения // Вестник современных исследований. 2019. № 2.14 (29). С. 4-7.
- Федоровская М.А. Уголовно-правовые, криминологические и организационные проблемы противодействия коррупции и должностным преступлениям: дис.... канд. юрид. наук. Москва, 2003. 243 с.
- Дамм И.А. Коррупция в российском избирательном процессе: понятие и противодействие: дис.... канд. юрид. наук. Красноярск, 2006. 249 с.
- Хамазина О. И. Правовые средства противодействия коррупции: проблемы теории и практики: дис.... канд. юрид. наук. Саратов, 2008. 200 с.
- Сидоренко Э. Л. Мониторинг коррупции в России: первые итоги и перспективы // Библиотека уголовного права и криминологии. 2015. № 2 (10). С. 155-162.
- Андрюхина О. В. Антикоррупционный мониторинг как один из элементов противодействия коррупции в России // Евразийский юридический журнал. 2013. № 11 (66). С. 108-110.
- ГафароваВ.А. Опыт применения программно-целевого метода борьбы с коррупцией в Республике Татарстан // Экономика и социум. 2016. № 1 (20). С. 215-218.
- Ахунов Д. Р. Пробелы противодействия коррупции, обусловленные современными условиями урбанизации (на примере Республики Татарстан) // Совершенствование деятельности правоохранительных органов и институтов гражданского общества по противодействию коррупции: сборник материалов Всероссийского круглого стола. 2019. С. 85-88.
- ФещенкоП.Н. Функционирование системы антикоррупционного мониторинга: вопросы повышения качества // Актуальные проблемы экономики и права. 2014. № 1 (29). С. 66-71.
- Малышева Т. В. Антикоррупционный мониторинг в Республике Татарстан // Экономический вестник Республики Татарстан. 2012. № 2. С. 30-36.