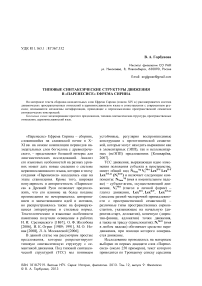Типовые синтаксические структуры движения в "Паренесисе" Ефрема Сирина
Автор: Горбунова Виктория Александровна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 9 т.12, 2013 года.
Бесплатный доступ
На материале текста сборника назидательных слов Ефрема Сирина (список XIV в.) рассматривается система динамических пространственных отношений в церковнославянском языке в сопоставлении с современным русским; описываются механизмы метафоризации, приводящие к переосмыслению пространственной семантики синтаксических конструкций.
Моделирование простого предложения, типовая синтаксическая структура, пространственные отношения, церковнославянский язык
Короткий адрес: https://sciup.org/147218968
IDR: 147218968 | УДК: 811.163.1
Текст научной статьи Типовые синтаксические структуры движения в "Паренесисе" Ефрема Сирина
«Паренесис» Ефрема Сирина – сборник, сложившийся на славянской почве в X– XI вв. на основе компиляции переводов назидательных слов богослова с древнегреческого, – представляет большой интерес для лингвистических исследований. Анализ его языковых особенностей на разных уровнях может дать новые сведения о системе церковнославянского языка, которая в эпоху создания «Паренесиса» находилась еще на этапе становления. Кроме того, широкая популярность и авторитетность «Паренеси-са» в Древней Руси позволяет предположить, что его влияние на более поздние произведения не исчерпывалось цитированием и заимствованием идей и мотивов, но распространялось также на формирующиеся литературные и стилевые нормы. Текстологические и языковые особенности памятника получили освещение в работах И. И. Срезневского [1867], О. Ф. Жолобова [2006], И. К. Огрен [1989; 1991], М. О. Новак [2008], Л. А. Москалевой [2006].
В данной статье мы рассмотрим простые предложения, которые репрезентируют типовую синтаксическую структуру с семантикой движения. Под типовой синтаксической структурой (ТСС) мы понимаем устойчивые, регулярно воспроизводимые конструкции с прототипической семантикой, которые могут находить выражение как в элементарных (ЭПП), так и неэлементарных (неЭПП) предложениях [Кошкарёва, 2007].
ТСС движения, выражающая идею изменения положения субъекта в пространстве, имеет общий вид N Nom Ag V f Mot LexD-S LexD-F LexTrLoc (N i Instr) и включает следующие компоненты: NNomAg (имя в именительном падеже) – субъект-агенс, осуществляющий движение, V f Mot (глагол в личной форме) – глагол движения, LexD-S , LexD-F , LexTrLoc (лексемы разной частеречной принадлежности с пространственной семантикой) – различные типы пространственных сирконстантов, указывающие на начальную (ди-ректив-старт, делокатив), конечную (дирек-тив-финиш, адлокатив) точки движения, а также на трассу (транслокатив); N i Instr (имя в любом падеже) обозначает средство передвижения, при помощи которого совершается движение.
Исследование проводилось на материале выборки из первых двадцати слов «Парене-сиса» (около 250 примеров), текст которого приводится по Троицкому списку середины
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2013. Том 12, выпуск 9: Филология © В. А. Горбунова, 2013
XIV в. (Паренесис Ефрема Сирина. РГБ. Тр. 7. 246 л.).
Изосемические реализации ТСС движения
Наиболее частотно и нейтрально пространственное значение данного типа ТСС реализуется в физической сфере, когда позиции локализаторов заполняются пространственными и предметными именами, в роли субъекта выступает лицо или предмет, а предикат выражен глаголом движения. В «Паренесисе» позиции предиката и актантов в этом круге примеров замещаются, как правило, изосемически. Субъекты представлены наименованиями лиц и одушевленных существ ( серна , конь ), а в качестве предикатов употребляются глаголы следующих семантических классов:
-
• глаголы собственно движения: ити ,
тещи , грzсти , стати и др.;
-
• глаголы однонаправленного движения: изоити/исходити , отоити , прити , воити , соити , обиходити , възвратитисz , tступити , tъzтисz , избегнути , съпа1сти , припа1сти , насту-пати , въврэщисz 1 , собратисz и др.
Позиции локализаторов заполняются именами собственными – обозначениями географических пространств (Дамаскъ) и именами с конкретно-вещественной семантикой (тина, змий, дверь). Именно предложно-падежные формы существительных в сочетании с приставочными глаголами движения наиболее регулярно используются в памятнике для обозначения пространственных отношений; напротив, конструкции с первичными наречиями (сэмо, tсюдy, tтуда), которые являются другим распро- страненным средством выражения локуса в церковнославянском языке, практически не представлены.
В сфере динамических локативных ЭПП основной оппозицией является оппозиция ЭПП с семантикой направленного движения (т. е. движения, которое характеризуется относительно его начальной и конечной
-
1 Въврещися – кинуться, броситься [СРЯ, 1975. Вып. 2. С. 248].
точек и трассы) и с семантикой ориентированного движения (т. е. движения, которое описывается относительно некоторой точки, не являющейся точкой его начала или завершения, так называемого ориентира). В памятнике представлены в основном модели направленного движения, в которых помимо отдельных случаев (они будут оговорены особо) замещенной оказывается только одна из сирконстантных позиций – адлокатива или делокатива.
При описании семантики конкретных примеров мы будем опираться на предложенный И. А. Мельчуком список основных возможных способов реализации локализации: ‘в’ – ИН-; ‘на’ – СУПЕР-; ‘под’ – СУБ-; ‘перед’ – АНТЕ-; ‘сзади’ – ПОСТ-; ‘на боку’ – АД-; ‘у / около’ – АПУД-; ‘вокруг’ – ЦИРКУМ-; ‘между / среди’ – ИНТЕР- [1998. С. 54]. Соответственно, принимая во внимание различия делокативной и адлокативной семантики, мы можем выделить следующие модели направленного движения (см. таблицу).
Оппозиции, которые лежат в основе данной классификации, достаточны для характеризации большей части реализаций ТСС движения в «Паренесисе», однако отдельные примеры будут требовать более детального описания семантики.
В памятнике конструкции с собственно пространственным значением представлены достаточно широко, однако не являются преобладающим типом реализаций ТСС движения. Ниже мы рассмотрим различные структурные варианты модели и круг выражаемых ими значений.
-
1. Адлокативные предложения, в которых заполнена позиция директива-финиша, указывающая на конечную точку движения. Это наиболее многочисленная в тексте памятника группа примеров, представленная предложениями иллативной, суперлативной, апудлативной и адлативной семантики. Основными средствами выражения пространственных отношений в данной группе являются:
-
а) имена в винительном падеже с предлогами въ и на :
N NomAg V fMot въ N AccD-F (иллативное значение): Да не снiдеши въ глубину яко и камень ‘Да не сойдешь в глубину, как камень’; теци въ сборъ ‘Беги в собор’; иду нынэ в домъ
Модели направленного движения
|
Локализация |
Движение |
||
|
к конечной точке - латив |
из исходной точки - аблатив |
||
|
‘внутри’ |
ин- |
иллативная ‘движение внутрь локуса’ |
инаблативная ‘движение изнутри локуса’ |
|
‘на’ |
супер- |
суперлативная ‘движение на верхнюю поверхность локуса’ |
супераблативная ‘движение с верхней поверхности локуса’ |
|
‘под’ |
суб- |
сублативная ‘движение под нижнюю часть локуса’ |
субаблативная ‘движение из-под нижней части локуса’ |
|
‘сбоку’ |
ад- |
адлативная ‘движение к боковой поверхности локуса’ |
адаблативная ‘движение от боковой поверхности локуса’ |
|
‘сзади’ |
пост- |
постлативная ‘движение с задней стороны локуса’ |
постаблативная ‘движение от задней стороны локуса’ |
|
‘перед’ |
анте- |
антелативная ‘движение по направлению к передней стороне локуса’ |
антеаблативная ‘движение от передней стороны локуса’ |
|
‘около’ |
апуд- |
апудлативная ‘движение по направлению к пространству, находящемуся около локуса’ |
апудаблативная ‘движение от пространства, находящегося около локуса’ |
MOi тощь ‘Иду теперь в дом мой с пустыми руками’;
NNomAg VfMot на NAccD-F (суперлативное значение): възврдтитz тщд мд постелю свою ‘Спеша вернуться на свою постель’; [Се ддхъ вдмъ влдсть] мдстУпдти мд зьмия и скдрпио-мия ‘Если [он] дал вам силу наступать на змея и скорпиона’;
-
б) имена в дательном падеже с предлогами къ , въслЭдъ и в срЭтемье :
-
2. Делокативные предложения, в которых заполнена позиция директива-старта - начальной точки движения, также достаточно регулярны в тексте памятника. Основным средством выражения делокации являются беспредложные и предложные формы родительного падежа (последние более многочисленны):
NNomAg VfMot kz NDatD-F(адлативное значе ние): И припдддю къ дверемь влдкы MOiero ‘И припадаю к дверям моего владыки’.
В следующих двух примерах значение ЭПП близко к апудлативному, однако осложняется за счет дополнительных оттенков смысла, которые вносят производные предлоги въслЭдъ и в сретенье, характеризуя локализатор как динамическую точку:
N NomAg VfMot NDatD-F (значение ‘движение по направлению к локусу, движущемуся в том же направлении’): И въслЭдъ меме дд идеть ‘И пусть идет вслед мне’;
N NomAg VfMot N DatD-F (значение ‘движение по направлению к локусу, движущемуся в обратном направлении’): изидитэ в срЭтемше емУ с рддостью ‘Выйдите навстречу ему с радостью’.
-
а) примеры с предлогами изъ , t и съ , управляющими формой родительного падежа:
N NomAg VfMot изъ NGen D -S (инаблативное значение): дзъ ищревд мтри рoдихъсz ‘Я из чрева матери родился’ 2;
N NomAg V fMot t N GenD-S :
-
• инаблативное значение: Яко серна t тенета избЭгъши ‘Как серна, убежавшая от сети’; t колика кала и тины вЭка сего из-влече я гсь ‘От какой грязи и тины этого века извлечет его Господь’;
-
• супераблативное значение - движение вверх с поверхности: Възносzщю t землz ибога и t гноища ‘Возносящую от убогой земли и нечистот’;
-
• апудаблативное значение: Не ФстУпи t мЭста ‘Не отступи от места’; Исшеть трава и цвЭть iея Фпадеть ‘Высохнет трава, и цветок ее отпадет’;
N NomAg VfMot сг NGen D -S (иллативное значение): видЭхъ сотонУ яко молнью с нбес съпадъшю ‘[Я] видел сатану, упавшего с небес, как молния’;
-
б) беспредложные формы родительного падежа встречаются в позиции локализатора в ограниченном круге примеров, где в роли директива-старта выступают обозначения лиц или группы лиц:
N NomAg VfMot NGen D -S (апудаблативное значение): Изиди миръскыхъ ‘Уйди от мирских [людей]’; рабУ ФстУпити влдкы ‘Рабу отступить от владыки’.
Конструкции со значением ориентированного движения представлены единичными примерами:
[ житьiе се ] яко конь скоръ мимо течеть ‘[Эта жизнь] бежит мимо, как быстрый конь’ (позиция локализатора замещена наречием мимо ); Обиходzще келья мнихомъ ‘Обходя кельи монахов’ (ориентир выражен существительным келья в форме винительного падежа без предлога).
Таким образом, в средствах выражения динамических пространственных отношений церковнославянская языковая система обнаруживает существенное сходство с системой современного русского языка: для выражения значения направления и пространственного предела используются, прежде всего, предложные формы винительного падежа, а также дательный падеж с предлогом къ; основным средством выражения значений направленного движения из исходной точки являются предложные формы родительного падежа [Золотова, 2001]. Однако среди адлокативных конструкций встречаются также структуры, уникальные для церковнославянского языка, как то: конструкции с беспредложными формами родительного падежа, маркирующими особый тип исходной точки - лицо или группу лиц, т. е. одушевленный «локализатор». В современном русском языке такое управление сохранилось при ограниченной группе глаголов с семантикой избегания (избегать, сторониться людей).
Из перечисленного выше набора частных динамических пространственных значений в тексте памятника получают выражение следующие: иллативное (‘внутрь локуса’) в форме вг N Acc ; суперлативное (‘на поверхность локуса’) в форме нд N Acc ; адлативное (‘к боковой поверхности локуса’) в форме кг N Dat ; апудлативное, осложненное введением дополнительного параметра ‘движение’ для локуса, (‘по направлению к движущемуся локусу’) в формах вслЭдг N Dat , в срЭтенье N Dat ; инаблативное (‘изнутри локуса’) в формах сг N Gen , h^z N Gen ; супераблативное (‘с поверхности локуса’) в форме отг N Gen ; апудаблативное в формах N Gen и отг N Gen . Можно заключить, что делока-тивные значения в большинстве своем имеют регулярные, устойчивые средства выражения, в то время как для адлокативных моделей характерны синонимия и многозначность конструкций, что, как правило, объясняется сочетаемостными особенностями лексем, заполняющих позиции актантов (закрепленное в узусе церковнославянского языка употребление форм на небеса и съ небесъ для передачи значений ‘движение внутрь / изнутри’), или выражением некоторых семантических оттенков (оппозиция апудаблативных моделей по признаку одушевленности / неодушевленности локализатора).
Неизосемические реализацииТСС движения
Так как пространственное значение является одним из базовых в языковой картине мира, оно часто становится основой для ме- тафорических переносов семантики направленности и динамичности в другие сферы. Трансформации такого рода происходят вследствие замещения позиций субъекта и локализатора неизосемическими компонентами либо за счет заполнения позиции предиката глаголами разных ЛСГ, что обусловливает перенос семантики конструкции в целом из физической сферы в психическую, социальную, интеллектуальную, эмоциональную или духовную. Далее мы подробнее рассмотрим процессы трансформации для каждой из сфер.
В реализациях ТСС движения в социальной сфере в качестве предиката выступают глаголы со значением направленного дви- жения – производные от ити; позицию директива-финиша занимают существительные со значением ‘христианское сооб- щество, институт’ (монашьство, чернечьство, общежитиiе) в форме винительного падежа с предлогом въ. На сохранение пространст- венной семантики в подобных конструкциях указывает тот факт, что в примерах этой группы, в отличие от всех прочих, движение субъекта, как правило, описывается относительно двух точек: помимо директива-финиша, заполненной оказывается и позиция директива-старта. Последнюю замещают непредикативные конструкции в форме родительного падежа с предлогом t с про- позиционным значением, описывающие социальное положение, от которого субъект отказывается в пользу монашества:
и внижеши въ wбщежитьiе ‘И войдешь в общежительство’ 3 ; аще же кто t великаго останка придеть въ чернечьство ‘Если же кто-то от большого имущества придет в монашество’; iегда бо придеть кто w суiетнаго житья ‘Когда кто-то придет [в монашество]
от суетной жизни’; тэмь же и t меншаго житья грzдущимъ ‘Тем же, идущим от бо- лее бедной жизни’; Аще ключитьс7 которому брату
прити
въ мнишьскоiе житье t какоя
-
3 Общежительство – устройство монастырской жизни, при котором монахи не имеют личной собственности, принимают участие в общих богослужениях, монастырских работах, трапезах и т. п.; монастырь с таким устройством [СРЯ, 1987. Вып. 12. С. 193].
токмо вины ‘Если приключится кому-то прийти в монашескую жизнь только от некого преступления’.
Реализации ТСС в психической сфере представлены единичными примерами предложений с семантикой фиктивного движения, описывающих ситуацию, в которой взгляд субъекта направлен на объект [Падучева, 2004. С. 231]. Предикат в таких случаях является глаголом зрительного восприятия; объект же, как правило, идеальный, находит выражение в имени абстрактной семантики в форме винительного падежа с предлогом на : Воззри же на первыя роды ‘Посмотри же на первые роды’.
При переносе в эмоциональную сферу исходная пространственная семантика трансформируется в идею смены внутреннего состояния человека. В ряде случаев лексическое значение глагола в позиции предиката эксплицирует внезапность ( напасти , впасти ) или интенсивность ( обоити ) этого процесса, однако употребительны и глаголы, не выражающие дополнительных экспрессивных значений и припропозитив-ных смыслов ( удалzтисz , преiсходити ).
Одна из непредикатных позиций замещается именем с пропозициональной семантикой эмоционального состояния, другую занимает наименование лица, предложения становятся неэлементарными. В большинстве случаев лицо является директивом-финишем движения субъекта, выраженного абстрактным существительным со значением эмоционального состояния. Метафоричность такой трансформации заключается в представлении носителя некоторого душевного состояния менее активным участником ситуации, чем само состояние. Тем самым подчеркивается неконтролируемость возникновения последнего и его относительная автономность от носителя. Основным средством выражения отношений такого типа являются предложные и беспредложные формы винительного падежа в позиции локализатора: нападе на мz стр7хъ ‘Напал на меня страх’; Како стрс7ть обишла есть ‘Как обошла [кого-то] страсть’.
Другой блок примеров составляют немногочисленные неЭПП, в которых субъектом движения является лицо, позицию же локализатора занимает имя в форме вини- тельного падежа с предлогом въ, обозначающее эмоциональное состояние. Механизм метафоризации в этом случае заключается в проецировании внутреннего состояния человека на внешнюю среду его существования: Bczkou дши преiсходzщиi в покаянше ‘Всякой души, вступающей в покаяние’; Да не впадеть въ дхъ гордый и не— покоривыи ‘Да не впадет в гордый и непокорный дух’.
Данный механизм является универсальным способом трансформации ТСС с пространственной семантикой: заполнение позиции локализатора именем, репрезентирующим в свернутом виде пропозицию, может вызывать перенос ситуации в различные сферы, в зависимости от особенностей семантики последнего. Напротив, замещение позиции субъекта именем с про-позиционной семантикой характерно только для неЭПП, реализующих ТСС движения в эмоциональной сфере.
Наиболее частотны в тексте памятника реализации ТСС движения и перемещения в духовной сфере; они могут быть представлены как элементарными, так и неэлементарными предложениями.
В ЭПП перенос ТСС в духовную сферу может достигаться путем замещения позиции локализатора наименованием одной из ряда реалий христианской культуры, обладающих конкретно-предметной семантикой, но не имеющих физического воплощения, как, например, богъ, господь, дяволъ, лУкавыи, бЭси, ангЭлы. Пространственная семантика при этом сохраняется. В позиции локализатора могут выступать существительные в формах винительного и дательного падежей с предлогами, а также беспредложных дательного и местного, употребление которых в ТСС движения нетипично: Да вселитьсz в tz д^ъ бии ‘И вселится в тебя дух Божий’;
Ты самъ прiходиши къ гсУ ‘Ты дишь к Богу’; Яко истиньнУ бУ сам прихо- пришелъ iеси
‘Как [ты] пришел к истинному Богу’; И жи— вотъ мои адЭ приближисz ‘И жизнь моя приближалась к аду’.
Для неЭПП, реализующих ТСС движения в духовной сфере, трансформация связана с появлением в позиции директива- финиша имен с пропозиционной семантикой, которые в большинстве случаев выражают предельно общую идею состояния человеческой души через фундаментальные оппозиции «жизнь - смерть», «спасение -гибель», «благо - зло», в форме винительного падежа с предлогом на или, в более ред- ких случаях, въ. Пространственная семантика в подобных конструкциях сохраняется только в виде идеи направленности действий субъекта на результат - достижение определенного душевного состояния, которое может быть как желательным, так и нежелательным (ср: покои, благоiе и зло), как произ вольным, так и непроизвольным (ср: испЭхъ и гыбЭль). В отличие от рассмотренных выше неЭПП со значением изменения эмо- ционального состояния, для данного типа характерны предикаты со значением поступательного однонаправленного движения без каких-либо экспрессивных оттенков (ити, доити, прЭходити, притекати, грzсти, погрУзитисz): И шедъ на спсениiе ‘И пошел на спасенье’; Преходz степени iже на испЭхъ ‘Переходя ступени на успех’; Притекъ на блгоiе ‘Пришел на благое’; Да сподобимсz
[...] доити въ вЭчныи покои ‘Да удостоимся дойти в
вечный покой’; ПогрУзитiсz сами
Xотzще въ мнозЭ злЭ ‘Сами желая погрузиться во многое зло’.
Таким образом, в тексте памятника ТСС движения используются для передачи ши- рокого круга смыслов, как пространственных, так и связанных с идеей изменения состояния. Случаи метафорического переноса настолько частотны, что количественно превосходят примеры, где исходная семантика сохраняется в полной мере. Соотношение реализаций ТСС движения в различных сферах (%):
-
• физическая - 34;
-
• психическая - > 1;
-
• социальная - 14;
-
• эмоциональная - 10;
-
• духовная - 41.
Таким образом, в тексте исследуемого памятника наблюдается регулярный перенос семантики движения в духовную и эмоциональную сферы. Конкретные механизмы метафоризации, как правило, основываются на замещении позиций субъекта или локализатора существительным с абстрактным значением. Приведенные материалы подтверждают гипотезу о том, что для неэлементарных предложений с семантикой движения характерна «замкнутость» в субъекте, т. е. описание ситуаций, в которых субъект является единственным действующим лицом и в фокусе находится его внутренний мир [Кошкарёва, 2005. С. 93]. Исключение представляет социальная сфера, которая, являясь одной из внешних, регулярно получает выражение в ТСС движения – данная особенность характерна и для современного русского языка. Кроме того, требует подробного описания комплексная и неоднородная духовная сфера, события которой могут репрезентироваться ТСС движения как с характерным для метафорических переносов осложнением семантики, так и без него.
Список литературы Типовые синтаксические структуры движения в "Паренесисе" Ефрема Сирина
- Жолобов О. Ф. Корпус древнерусских списков Паренесиса Ефрема Сирина. I: РГАДА, СИН. 38 // Russian Linguistics. 2006. Vol. 31. No. 1. Р. 31-59.
- Золотова Г. А. Синтаксический словарь: Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса. М., 2001.
- Кошкарёва Н. Б. Синтаксические средства выражения пространственных отношений (на материале уральских и тунгусо-маньчжурских языков Сибири) // Пути формирования лингвистического ландшафта Сибири / Под ред. Н. Н. Широбоковой. Новосибирск, 2005.
- Кошкарёва Н. Б. Типовые синтаксические структуры и их семантика в уральских языках Сибири: Автореф. дис.. дра филол. наук. Новосибирск, 2007.
- Москалева Л. А. Графико-орфографические и фонетические особенности Паренесиса Ефрема Сирина по рукописи РНБ, погод. 71а ок. 1289 г. Казань, 2006.
- Мельчук И. А. Курс общей морфологии. М.; Вена, Т. 2. 1998.
- Новак М. О. О лексических решениях в славянском переводе Паренесиса прп. Ефрема Сирина // Православный собеседник. Альманах Казанской духовной семинарии. Казань, 2008. Вып. 2 (17).
- Огрен И. Паренесис Ефрема Сирина. К истории славянского перевода. Uppsala, 1989.
- Огрен И. К проблеме использования печатных изданий греческих текстов при исследовании древних славянских переводов. На примере славянского перевода Паренесиса Ефрема Сирина. Uppsala, 1991.
- Падучева Е. В. Динамические модели в семантике лексики. М.: Языки славянской культуры, 2004.
- Срезневский И. И. Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках. СПб., 1867. Вып. 1.