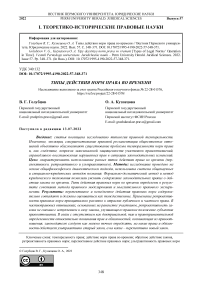Типы действия норм права во времени
Автор: Голубцов В.Г., Кузнецова О.А.
Журнал: Вестник Пермского университета. Юридические науки @jurvestnik-psu
Рубрика: Теоретико-исторические правовые науки
Статья в выпуске: 3 (57), 2022 года.
Бесплатный доступ
Введение: статья посвящена исследованию типологии правовой темпоральности. Изменение, эволюция, совершенствование правовой регламентации общественных отношений объективно обусловливают существование проблемы темпоральности норм права и, как следствие, вопросов максимальной защищенности участников правоотношений, справедливого восстановления нарушенных прав в ситуации законодательных изменений. Цель: охарактеризовать использование разных типов действия права во времени (перспективного, ретроактивного и ультраактивного). Методы: исследование проведено на основе общефилософского диалектического подхода, использована система общенаучных и специально-юридических методов познания. Формально-догматический метод и метод юридического толкования позволили уяснить содержание законодательных правил о действии закона во времени. Типы действия правовых норм во времени определены в результате сочетания метода правового моделирования и мыслительного правового эксперимента. Результаты: перспективное и немедленное действия правовых норм содержательно совпадают и должны оцениваться как тождественные. Применение ретроактивности правовых норм принципиально различно в отраслях публичного и частного права. В частноправовых отношениях, основанных на равенстве участников, ретроактивность закона не связана с вступлением в силу закона, улучшающего правовое положение субъектов правоотношения. В связи с отсутствием как доктринальной, так и правоприменительной определенности относительно понимания прав и обязанностей, возникающих из правоотношения, законодателю следует как можно точнее определять, на какие права и обязанности действует ультраактивно старый закон, а на какие - перспективно новый закон.
Темпоральность права, действие норм права во времени, обратное действие закона, перспективное действие правовых норм, ультраактивность правовых норм, ретроактивность правовых норм
Короткий адрес: https://sciup.org/147239641
IDR: 147239641 | УДК: 340:132 | DOI: 10.17072/1995-4190-2022-57-348-371
Текст научной статьи Типы действия норм права во времени
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-28-01576,
Право и правоотношения, как и большинство социальных феноменов, немыслимы без физического времени, которое всегда сопровождает и общественные отношения и его субъектов. Для каждого участника правоотношений важно понимать, какие правовые нормы, с какого времени и почему действуют на него, на его права и обязанности. Как справедливо замечено в научной литературе, «чтобы знать, что такое закон, нужно знать, что им не является» [26, p. 2435].Такое понимание обеспечивает не только стабильность оборота и определенность в действующих правовых режимах, но и доверие граждан к государству, законодателю, закону.
При этом существуют три типа действия норм права во времени (темпорального действия норм права): перспективное (немедленное), ретроактивное (обратное) и ультраактивное. И хотя общим принципом действия закона во времени считается немедленное действие, законодательство допускает множественные исключения, связанные с ретроактивным и ульт-раактивным действием норм права. Принцип правовой определенности требует обеспечения правоприменительной прозрачности и теоретической ясности в основаниях и порядке использования того или иного типа действия права во времени.
Проблематика типологии темпорального действия права усиливается в периоды интенсивного реформирование законодательства, в том числе в условиях социальных и эпидемиологических кризисов: нормативно-правовые акты принимаются быстро, одни нормы права сменяются другими, субъекты правоотношений оказываются в ситуации действия разных правовых норм и затрудняются с их правильным выбором. Однако сложившаяся правоприменительная практика не способствует осуществлению такого выбора, обращаясь к разным типам действия права во времени по сходным спорам и аналогичным делам.
В таких условиях представляется важным: анализ проблем темпорального действия правовых норм; формирование типологии действия права во времени; теоретическое уяснение оснований, условий, принципов и механизмов действия разных типов правовой темпораль-ности.
Перспективное (немедленное) действие норм права
Перспективное действие правовых норм совпадает с периодом нахождения их в юридической силе: они распространяются на новые отношения и на вытекающие из «старых» отношений права и обязанности, возникшие после их вступления в силу. Термин «перспективное действие» был предложен в научной доктрине и обусловлен тем, что нормативноправовой акт действует на будущее время, на «перспективу». Такое действие является общим типом действия права во времени, поскольку «законы должны быть общими, открытыми, перспективными, ясными, непротиворечивыми и относительно стабильными и не должны требовать невозможного» [28, p. 41].
При этом общей правовой нормы, закрепляющей перспективное действие закона, нет. Из правила части 1 статьи 54 Основного закона о том, что «закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет», мы можем сделать вывод о наличии перспективного действия закона: «закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обладает перспективным действием», т. е. распространяется только на будущих правонарушителей и правонарушения.
Конституционная формула действия закона во времени воспроизведена и в отраслевых законодательных актах. Так, согласно буквальному толкованию пунктов 1, 2 статьи 4 ГК РФ, перспективное действие норм гражданского права имеет место в двух случаях: а) когда правоотношение возникло после вступления акта в силу (абз. 1 п. 1 ст. 4 ГК РФ); б) когда права и обязанности возникли после вступления акта в силу, хотя само породившее их правоотношение возникло до вступления акта в силу (п. 2 ст. 4 ГК РФ). Аналогичная формулировка повторена в ТК РФ, НК РФ, ЖК РФ.
В научной доктрине и практике, помимо перспективного действия нового закона, выделяют также его немедленное действие, т.е. его распространение на все отношения, имеющие место на дату вступления акта в силу [1, c. 242– 243]1, т.е. с даты вступления акта в силу он действует на права и обязанности, возникшие до вступления акта в силу и продолжающие действовать после, и на права и обязанности, возникшие после вступления акта в силу.
Считается, что немедленное действие закона применимо исключительно для длящихся правоотношений (продолжающихся в момент вступления акта в силу). На наш взгляд, в таких случаях следует говорить о перспективном действии закона, когда норма права действует на все отношения, права и обязанности, которые возникли после даты вступления акта в силу.
При таком подходе отпадет и необходимость включать перспективное действие в немедленное и обратное действие нормы [2]. Немедленное действие норм права не предусмотрено действующим законодательством. Применительно к новым отношениям (возникшим после вступления в силу) и новым правам и обязанностям (возникшим из «старых» отношений после вступления нормы права в силу) норма права будет действовать перспективно. Если вступившая в силу норма права действует на права и обязанности, возникшие до ее вступления в силу, то она действует ретроактивно.
Ранее мы уже отмечали, что «принцип немедленного действия нормы, вступившей в юридическую силу, означает, что норма регулирует то, что есть и что будет. Этот принцип касается отношений длящихся…, возникших в период действия старой нормы, которые должны подчиниться новой норме, но прежде со- вершенные действия и решения сохраняют свою силу» [8, c. 140; 16].
Исходя из правовых позиций КС РФ, немедленное действие тождественно перспективному действию: «основным принципом существования закона во времени является немедленное действие; придание обратной силы закону – исключительный тип его действия во времени, использование которого относится к прерогативе законодателя; при этом либо в тексте закона содержится специальное указание о таком действии, либо в правовом акте о порядке вступления закона в силу имеется подобная норма»1.
Таким образом, вступившая в юридическую силу норма права применительно к конкретным отношениям, правам и обязанностям может обладать либо перспективным (немедленным), либо ретроактивным (обратным) действием.
Ретроактивное (обратное) действие норм права
Безусловно, ретроактивное действие правовых норм – это наиболее сложный тип тем-поральности как в юридической доктрине, так и в правоприменении, поскольку по общему правилу, имеющему статус правовой аксиомы и принципа, «закон обратной силы не имеет», что соответствует и общефилософской идее о незыблемости возникших субъективных прав [24, pр. 37–40].
Еще А. А. Тилле писал, что «под обратным действием (ретроактивностью, обратной силой) закона надо понимать такое его действие на правоотношение, при котором новый закон предполагается существовавшим в момент возникновения правоотношений» [21, с. 97].
-
1 Определения Конституционного Суда РФ: от 23.04.2015 г. № 821-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Масалимова Наиля Ахатовича на нарушение его конституционных прав частью второй статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации»; от 26.03.2019 г. № 789-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Горлова Дмитрия Владимировича на нарушение его конституционных прав частью второй статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации»; от 28.09.2017 г. № 1836-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Павловского Тимура Владимировича на нарушение его конституционных прав частью 1 статьи 350 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации» и др.
КС РФ определил ретроактивность закона как распространение новых норм на факты и порожденные ими правовые последствия, возникшие до введения соответствующих норм в действие2.
Прежде всего представляется важным ответ на вопрос: что в этом правиле следует понимать под термином «закон»: акт, принятый лишь высшим законотворческим органом – федеральным и региональным (закон в узком смысле), либо любой нормативно-правовой акт (закон в широком смысле)?
В некоторых нормативно-правовых актах законодатель прямо пишет о невозможности, по общему правилу, придания обратной силы как законам, так и иным нормативно-правовым актам, обладающим меньшей юридической силой (ч. 4 ст. 5 НК РФ, ч. 2 ст. 6 ЖК РФ, ст. 12 ТК РФ, п. 4 ст. 4 Федерального закона от 10 дек. 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»).
В других же случаях законодатель запрещает придавать обратную силу терминологически именно законам (п. 2 ст. 4 ГК РФ, п. 1 ст. 10 УК РФ). Безусловно, это не означает, что в отличие от законов подзаконные акты могут обладать обратной силой. Здесь вопрос, напротив, в другом: законодатель в отдельных случаях допускает придание обратной силы законам, а может ли быть придана обратная сила иным нормативно-правовым актам? В отношении уголовного права этот вопрос не представляет особой актуальности, поскольку преступность и наказуемость деяния предусматривается только федеральным законом, а именно – УК РФ. А вот внутренне сложно структурированное и объемное гражданское законодательство не дает однозначного ответа на этот вопрос. В литературе было высказано мнение о том, что подзаконные акты «в принципе не должны содержать указаний о придании им обратной силы, если только такая возможность не основана на прямом указании закона» [20, с. 113].
Судебная практика в этой части также не единообразна. С одной стороны, суды не допускают придания обратной силы подзаконным
-
2 По делу о проверке конституционности пунктов 2–6 статьи 13 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в связи с жалобой граждан
актам, обладающим по сравнению с законом меньшей юридической силой, именно со ссылкой на абзац 2 пункта 1 статьи 4 ГК РФ, допускающего обратную силу только законов.
С другой стороны, суды прямо пишут, что «ссылка заявителя на то, что в пункте 1 статьи 4 Гражданского кодекса Российской Федерации речь идет о придании обратной силы закону, а не подзаконному акту, судом … отклоняется как основанная на неправильном толковании норм материального права»1.
Интересно заметить, что оба этих противоположных подхода используются при оспаривании актов, которые вообще не являются актами, содержащими нормы гражданского права, например: указ губернатора «О Межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников в Пермском крае»2, решение Земского собрания «О порядке расчета арендной платы за земельные участки, право собственности на которые не разграничено и находящиеся в муниципальной собственности Богородского района, в 2011 году на территории г. Богородска и Богородского района»3, постановление правительства области «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 16 октября 2009 года № 537-п»4.
Статья 4 ГК РФ определяет действие во времени актов гражданского законодательства, которые даже в широком смысле, т. е. включая и законы и подзаконные акты, ограничиваются исключительно федеральным уровнем нормотворчества (ст. 3 ГК РФ).
На наш взгляд, статья 4 ГК РФ посвящена действию во времени всех нормативноправовых актов, содержащих нормы гражданского права, а не только законов. Такое расширительное толкование указанной нормы позволяет, во-первых, сделать однозначный вывод о том, что не только акты гражданского законодательства, но и иные акты, содержащие нормы гражданского права, по общему правилу, не имеют обратного действии и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие, а во-вторых, допустить ретроактивное действие любого акта, содержащего нормы гражданского права, на отношения, возникшие до вступления его в силу, только когда это прямо предусмотрено в соответствующем акте. Как верно замечено в комментаторской литературе, «нет никаких логических причин связывать ст. 4 исключительно с подсистемой гражданского законодательства, иначе действие во времени подсистемы иных актов, содержащих нормы гражданского права, должно было бы подчиняться другим правилам, но таковых ГК не содержит» [12, с. 16].
В соответствии с пунктом 6 статьи 3 ГК РФ, действие и применение норм гражданского права, содержащихся в указах Президента Российской Федерации и постановлениях Правительства Российской Федерации, определяются правилами настоящей главы, которая содержит и правила статьи 4, следовательно, на них полностью распространяются все предусмотренные в этой статье темпоральные правила.
Следует также заметить, что и в ряде проектов закона «О нормативных правовых актах» правила об обратном действии касаются всех нормативно-правовых актов, а не только законов в узком смысле, например: «Нормативный правовой акт не распространяется на отношения, возникшие до его вступления в силу, то есть не имеет обратной силы, за исключением случаев, когда в самом акте или в утверждающем его нормативном правовом акте предусматривается, что он распространяется на отношения, возникшие до его вступления в силу»5.
Кроме того, запрещение обратного действия подзаконных актов, содержащих нормы именно гражданского права, не вполне бы вписывалось в логику законодателя, так как нет рационального объяснения того, что он допускает обратное действие подзаконных актов, например, в сфере жилищных, трудовых или валютных правоотношений, исключая обратное действие таких актов для гражданских правоотношений.
Имеются и конкретные нормотворческие примеры придания обратного действия подзаконным актам, содержащим нормы гражданского права. Так, согласно пункту 5 постановления Правительства РФ от 20 июля 2020 г. № 1073, в случае расторжения заключенного по 31 марта 2020 г. договора о реализации туристского продукта по требованию заказчика, в том числе при отказе заказчика от равнозначного туристского продукта, туроператор, по общему правилу, осуществляет возврат заказчику уплаченных им за туристский продукт денежных сумм не позднее 31 декабря 2021 г.1
Другим важным вопросом ретроактивности норм права является обоснование принципов и критериев ее допущения. Заметим, что в отдельных случаях законодатель вообще не допускает возможности обратного действия нормативно-правовых актов. Так, согласно части 3 статьи 7 ФЗ от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», нормативные акты Банка России не имеют обратной силы2. Но в других сферах правового регулирования законодатель не так категоричен.
Согласно части 1, 2 статьи 54 Конституции РФ, закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет; никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением, но, если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон.
В отраслевом законодательстве эта конституционная норма была воплощена с более широким содержанием: обратного действия не имеет не только закон, устанавливающий ответственность, но и закон, иным образом ухудшающий положение участников правоотношений. Так, в силу части 2 статьи 5 НК РФ, акты законодательства о налогах и сборах, устанавливающие новые налоги, сборы и (или) страховые взносы, повышающие налоговые ставки, размеры сборов и (или) тарифы страховых взносов, устанавливающие или отягчающие ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах, устанавливающие новые обязанности или иным образом ухудшающие положение налогоплательщиков, плательщиков сборов и (или) плательщиков страховых взносов, а также иных участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, обратной силы не имеют3.
Согласно части 2 статьи 1.7 КоАП РФ, закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом улучшающий положение лица, совершившего административное правонарушение, имеет обратную силу, т. е. распространяется и на лицо, которое совершило административное правонарушение до вступления такого закона в силу и в отношении которого постановление о назначении административного наказания не исполнено. Закон, устанавливающий или отягчающий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом ухудшающий положение лица, обрат- ной силы не имеет1. Аналогичная норма установлена в части 1 статьи10 УК РФ2.
Однако в отраслях частного права ответ на вопрос о возможном обратном действии норм права не столь очевиден.
Ряд исследователей полагают, что статья 54 Конституции РФ касается любой юридической ответственности, а не только публичноправовой. Например, Д. Н. Бахрах, комментируя эту конституционную норму, пишет, что в ней «речь идет об ответственности за правонарушения, а значит, она распространяется на любые виды юридической ответственности за любые правонарушения … Конституция РФ не только подтвердила колоссальную значимость правила о том, что закон, который устанавливает или усиливает ответственность, не распространяется на деяния, совершенные до его вступления в силу. Впервые в России это правило стало общим для всех видов юридической ответственности, с 1994 г. оно распространяется также на дисциплинарную, гражданско-правовую, материальную ответственность. Поскольку к гражданско-правовой и административной ответственности привлекаются физические и юридические лица, правило об обратном действии закона распространяется и на последних» [3, с. 17]. КС РФ постановил, что «общим для всех отраслей права правилом является принцип, согласно которому закон, ухудшающий положение граждан, а соответственно и объединений, созданных для реализации конституционных прав и свобод граждан, обратной силы не имеет»3. Этот вывод поддерживается в научной [5; 17] и комментаторской литературе [13]. В науке трудового права было высказано мнение о недопустимости обратного действия закона, ухудшающего положение работника [10].
В частноправовых (координационных, а не субординационных) отношениях ухудшение правового положения одного субъекта, как правило, влечет улучшение правового положения другого субъекта, поэтому в конституционной и правоприменительной практике сложился иной, более гибкий, подход к обратному действию закона в сфере частного права.
Так, еще в 1993 году КС РФ сформулировал следующую правовую позицию: «Придание обратной силы закону – исключительный тип его действия во времени, использование которого относится лишь к прерогативе законодателя. При этом либо в тексте закона содержится специальное указание о таком действии во времени, либо в правовом акте о порядке вступления закона в силу имеется подобная норма. Законодатель, реализуя свое исключительное право на придание закону обратной силы, учитывает специфику регулируемых правом общественных отношений. Обратная сила закона применяется преимущественно в отношениях, которые возникают между индивидом и государством в целом, и делается это в интересах индивида (уголовное законодательство, пенсионное законодательство). В отношениях, субъектами которых выступают физические и юридические лица …, обратная сила не применяется, ибо интересы одной стороны правоотношения не могут быть принесены в жертву интересам другой, не нарушившей закон»4.
Таким образом, по общему правилу, в частноправовых отношениях, основанных на равенстве участников, не действуют ни правило о том, что закон, устанавливающий или усиливающий ответственность или иным образом ухудшающий положение личности, не имеет обратного действия, ни правило о том, что закон, отменяющий или смягчающий ответственность или иным образом улучшающий положение личности, всегда имеет обратное действие. Этот вывод подтверждается и материалами судебной практики.
Например, в 2010 г. на момент заключения бюджетным учреждением и ООО государственного контракта на выполнение работ по строительству объекта пункт 2 статьи 120 ГК РФ устанавливал субсидиарную ответственность собственника имущества бюджетного учреждения при недостаточности денежных средств учреждения, однако впоследствии, с 1 января 2011 г., такая ответственность собственника имущества учреждения была исключе-на1. В 2018 г. ООО обратилось в арбитражный суд с иском к собственнику имущества учреждения об уплате задолженности по исполнительному листу в порядке субсидиарной ответственности. ВС РФ пояснил, что, несмотря на то что нормативно этот вид ответственности устранен, для исключения гражданско-правовой ответственности в таких случаях требуется «прямое указание законодателя на … применение закона с обратной силой к уже существующим отношениям»2.
И обратный пример. С 1 сентября 2014 г. была введена с обратным действием субсидиарная ответственность собственника имущества бюджетных и автономных учреждений по их обязательствам, связанным с причинением вреда гражданам: законодатель распространил такую ответственность на правоотношения, возникшие также после 1 января 2011 г.3 С 1 января 2016 г. с обратным действием в ФЗ «Об электроэнергетике» была введена норма, усиливающая ответственность за неисполнение договора энергоснабжения: «Потребитель или покупатель электрической энергии, несвоевременно и (или) не полностью оплатившие электрическую энергию гарантирующему поставщику, обязаны уплатить ему пени в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты»4. КС РФ не усмотрел в этом никаких конституционных на-рушений5.
В частноправовых отношениях возможность обратного действия правил, как улучшающих, так и ухудшающих положение физических и юридических лиц, должна быть прямо предусмотрена законом. Однако такое законотворческое решение, безусловно, не может и не должно быть произвольным.
КС РФ разъяснил, что «вопрос придания обратной силы закону, изменяющему обязательства юридически равных участников гражданского правоотношения, требует дифференцированного подхода, обеспечивающего сбалансированность и справедливость соответствующего правового регулирования, не допускающего ущемления уже гарантированных прав и законных интересов одной стороны и умаления возможностей их защиты в пользу другой»6.
Так, в КС РФ обратился Суд по интеллектуальным правам по вопросу конституционности части 7 статьи 7 ФЗ от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и пункта 1 статьи 4 ГК РФ, устанавливающих правила действия актов гражданского законодательства во времени в следующем споре. Российское авторское общество в интересах авторов предъявило иск к бюджетному образовательному учреждению о взыскании денежной компенсации за нарушение авторских прав, выразившееся в публичном исполнении учащимися в 2010 г. мюзикла при отсутствии согласия авторов. В 2014 г. иск был удовлетворен и с ответчика в пользу истца взыскана компенсация за нарушение авторских прав в минимальном размере. При этом, в период рассмотрения спора в суде апелляционной инстанции, с 1 октября 2014 г. вступил в силу ФЗ от 1 марта 2014 г. № 35-ФЗ1, допустивший публичное исполнение правомерно обнародованных произведений путем их представления в живом исполнении, осуществляемое без цели извлечения прибыли в образовательных организациях без согласия автора (подп. 2 п. 1 ст. 1274 ГК РФ), т. е. фактически устранив гражданско-правовую ответственность в виде компенсации в указанном случае. Ответчик полагал, что непридание указанному правопо-ложению обратного действия является неконституционным. КС РФ посчитал, что законодатель совершенно обоснованно использовал в данном случае общий порядок действия закона во времени и не придал ему обратного действия, «поскольку автор (или иной правообладатель) вправе рассчитывать на то, что его правомерные ожидания, основанные на действовавшем на момент возникновения соответствующих правоотношений правовом регулировании, обусловленные результатом его интеллектуальной деятельности, его творческого труда и приобретенным исключительным правом на данный результат, будут учтены в про- цессе преобразования соответствующего правового регулирования, тем более что до вступления в силу Федерального закона от 12 марта 2014 года № 35-ФЗ в случаях публичного исполнения правомерно обнародованных произведений путем их представления в живом исполнении, осуществленного без согласия автора, в том числе в образовательных организациях, ему предоставлялась возможность защиты своих прав всеми предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации способами, включая предъявление требования о выплате соответствующей денежной ком-пенсации»2.
Как правило, гражданское законодательство допускает обратное действие в тех отношениях, где имеются элементы субординационных отношений, в которых одной стороной выступает либо государство, либо экономически более сильный субъект.
Например, часть вторая ГК РФ в целом вступила в силу с 1 марта 1996 г., но действие статей 1069 и 1070 ГК РФ, предусматривающих гражданско-правовую ответственность соответственно за вред, причиненный государственными органами, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами, и за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, было распространено также на случаи, когда причинение вреда потерпевшему имело место до 1 марта 1996 г., но не ранее 1 марта 1993 г., и причиненный вред остался невозмещенным. Пункты 2 и 3 статьи 835 ГК РФ, предусматривающие основания реализации права вкладчика на немедленный возврат суммы вклада, процентов и убытков, также вступили в силу с обратным действием – и на случаи, когда отношения, связанные с привлечением денежных средств во вклады, возникли до введения в действие части второй ГК РФ и сохранялись на момент введения в действие части второй Кодекса1.
Обратное действие акта гражданского законодательства допускается и в тех случаях, когда это соответствует выполнению гражданским правом социальной функции. Так, согласно части 2 статьи 6 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 363-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», действие положений части второй ГК РФ (в ред. названного закона) распространяется на правоотношения, возникшие из ранее заключенных договора постоянной ренты, договора пожизненной ренты, договора пожизненного содержания с иждивением, в случае если размер выплат по указанным договорам меньше, чем размер, определенный с учетом требований данного Кодекса (в той же редакции); если указанные договоры не будут приведены сторонами в соответствие с требованиями части второй ГК РФ (в ред. названного Закона), к отношениям сторон указанных договоров с момента их заключения применяются правила определения размера соответствующих выплат, установленные данным Кодексом (в той же редакции)2. КС РФ, подтверждая конституционность этих правил, указал, что нормы о договоре ренты, имеют не только чисто гражданско-правовое, но и «определенное социально значимое содержание: зачастую граждане распоряжаются своим имуществом подобным образом не столько ради получения дохода как такового, сколько с целью сохранения уровня жизнеобеспечения»3.
Но придание законодателем обратного действия акту гражданского законодательства не всегда оценивается однозначно. Так, обратное действие сокращенного срока исковой давности по ничтожным сделкам (с 10 до 3 лет)4
вызвало многочисленные как доктринальные [7; 18; 22], так и конституционно-судебные споры5.
Безусловно, вопросы баланса, соразмерности и справедливости в праве являются одними из наиболее сложных [25; 27].
Если законодатель решит придать обратное действие частноправовому акту, то это должно быть обусловлено исключительно необходимостью: достижения соразмерности при соблюдении интересов общества и условий защиты основных прав личности; обеспечения баланса конституционно защищаемых ценностей; соблюдения сбалансированности и справедливости соответствующего правового регулирования, не допускающего ущемления уже гарантированных прав и законных интересов одной стороны и умаления возможностей их защиты в пользу другой. При несоблюдении этих критериев ретроактивного действия нормативно-правовой акт может быть признан неконституционным или недействующим.
Ультраактивное действие норм права
Ультраактивное действие нормативноправового акта возможно только у актов, утративших юридическую силу, и означает, что утратившие силу правовые нормы продолжают действовать на правоотношения. В таких случаях можно сказать, что закон «пережил» сам себя. В общем виде, ультраактивность закона вызвана длящимися правоотношениями и обусловлена формулой «закон, устанавливающий
21 июля 2005 г. № 109-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 25.07.2005. № 30, ч. 2, ст. 3120.
-
5 См., например, определения Конституц. Суда РФ: от 3 нояб. 2006 г. № 541-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Деревягина Михаила Николаевича на нарушение его конституционных прав пунктом 2 статьи 2 Федерального закона "О внесении изменения в статью 181 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"»; от 15 нояб. 2007 г. № 796-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Вос-ковского Дмитрия Владимировича и Ереминой Марины Сергеевны на нарушение их конституционных прав пунктом 2 статьи 2 Федерального закона “О внесении изменения в статью 181 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации”» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; от 7 дек. 2006 г. № 543-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы закрытого акционерного общества “Фирма Цен-тробизнес” на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 2 статьи 2 Федерального закона «О внесении изменения в статью 181 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2007. № 3.
или усиливающий ответственность, либо иным образом ухудшающий положение граждан, обратного действия не имеет». Если правоотношение возникло до вступления в силу такого закона, а вопрос с привлечением к ответственности решается после, то на правонарушителя будет действовать уже утративший силу «старый» закон, который предусматривал более «мягкую» ответственность или лучшее правовое положение.
Возможность такого типа действия закона во времени предусмотрена в ряде кодифицированных нормативно-правовых актов. Так, пункт 2 статьи 4 ГК РФ определяет, что «по отношениям, возникшим до введения в действие акта гражданского законодательства, он применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие». Аналогичное правило содержится в абзаце 7 статьи 12 ТК РФ, пункте 3 статьи 6 ЖК РФ.
В частноправовой сфере ультраактивность утратившего силу закона не связывается со «строгостью» нового закона, а действует применительно ко всем длящимся правоотношениям. Если права и обязанности в длящемся правоотношении возникли до вступления в силу нового нормативно-правового акта, то на них продолжают распространять действие правовые нормы «старого» акта, уже утратившего силу. Исходя из позиции КС РФ, утративший силу акт гражданского законодательства всегда ультраактивен (применительно к правам и обязанностям, возникшим до утраты актом силы), когда отсутствует акт, придавший новому акту ретроактивное (обратное) действие, или когда он признан неконституционным1.
Следует подчеркнуть, что в нормативноправовых актах ультраактивность действия допускается только применительно к правам и обязанностям, вытекающим из уже возникшего правоотношения, и нигде не упоминается случай ультраактивного действия утративших силу правовых норм на новые отношения , возникшие после утраты актом силы. Поэтому об ультраактивном действии актов можно гово-
-
1 По делу о проверке конституционности положений части
рить только при их распространении на правоотношения, возникшие до, но продолжающие существовать после утраты актом силы.
Теоретическую сложность представляет понимание категории «права и обязанности, вытекающие из правоотношения, возникшего до утраты актом юридической силы, но возникшие после этой даты», здесь мы сталкиваемся с «неопределенностью коммуникативного содержания языка закона» [29, p. 788]. Как определить момент возникновения прав и обязанностей внутри одного правоотношения? В комментаторской литературе для иллюстрации правила пункта 2 статьи 4 ГК РФ в качестве примера приводятся «наследственные правоотношения, которые возникают в момент смерти наследодателя, а конкретные права и обязанности наследника возникают спустя определенный период времени (обычно через 6 месяцев). Таким образом, если в течение шестимесячного срока будет принят и введен в действие новый правовой акт, то именно он будет применяться к правам и обязанностям наследника после вступления в наследство» [9]. Можем ли мы сказать, что права и обязанности наследника возникли внутри, но позже наследственного правоотношения, либо перед нами самостоятельное правоотношение, возникшее после наступления всех юридических фактов, необходимых для принятия наследства (истечение срока, подача заявления и т. п.)? В последнем случае закон будет действовать перспективно, распространяясь на новое правоотношение.
Есть и другая позиция, согласно которой, например, право на принятие наследства возникает в момент открытия наследства (т.е. в момент возникновения наследственного правоотношения), однако реализуется позже [15, с. 113]. О. А. Беляева обращает внимание на то, что следует «различать права и обязанности, возникшие до вступления закона в силу, но по каким-либо причинам до этого момента не осуществленные (например, ввиду того, что срок их осуществления еще не наступил)» [4, с. 59]. В судебной практике также утверждается, что «к правам и обязанностям, возникшим до введения в действие нового закона, в том числе тем из них, которые по каким-либо причинам оказались неосуществленными (неисполненными) на момент введения в действие нового закона, применяется ранее действовавшее законодательство»1.
С учетом такого подхода можно сделать вывод о том, что любые права и обязанности, являющиеся содержанием правоотношения, возникают в момент возникновения правоотношения, но реализуются, осуществляются и исполняются позже. И это утверждение справедливо для большинства правоотношений, за исключением исполняемых и, как следствие, прекращаемых в момент их возникновения (се-кундарных и проч.). В таком случае, на какие права и обязанности внутри длящегося правоотношения будет действовать новый закон? Что это за права и обязанности, которые возникают из правоотношения, но позже правоотношения?
Как верно заметила Н. Ю. Рассказова, «для правильного применения этого правила необходимо обращаться к сугубо доктринальным понятиям “правоотношение”, “субъективное право” и “субъективная обязанность”. Любые гражданские отношения (а права и обязанности составляют их содержание) возникают из юридических фактов: совершения сделки, причинения вреда, издания административного акта и т. д. (ст. 8 ГК РФ). Закон не является юридическим фактом гражданского права, поэтому он оказывает воздействие на правовое положение сторон только в связи с наступлением указанных фактов» [19, с. 40].
Исходя из такого подхода, субъективное право или юридическая обязанность не может возникнуть позже уже существующего правоотношения, если ранее закон такого права или обязанности не предусматривал. При установлении законодателем нового права или обязанности субъектов права может возникнуть только новое правоотношение, содержащее такие права и обязанности. На это правоотношение, бесспорно, будет перспективно действовать новый закон по общему правилу пункта 1 статьи 4 ГК РФ.
Так, с 1 февраля 2014 г. вступил в силу ФЗ от 21 декабря 2013 г. № 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым статья 26
Основ законодательства Российской Федерации о нотариате изложена в новой редакции, устанавливающей, что одно и то же лицо не может занимать должность президента нотариальной палаты более двух сроков подряд. Фактически с 1 февраля 2014 г. у участников соответствующих правоотношений появилась новая пассивная обязанность – не занимать указанную должность более двух сроков подряд. Рассматривая спор, связанный с применением данных темпоральных правил, ВС РФ указал, что закону не было придано обратное действие, следовательно, он действует только перспективно – только на отношения, возникшие после вступления его в силу 1 февраля 2014 г.2 Обратим внимание, что суды в подобных случаях квалифицируют возникновение именно нового правоотношения , а не возникновение прав и обязанностей внутри уже имеющегося длящегося правоотношения.
В другом деле – о сносе дома, расположенного в зоне минимально допустимых расстояний до газопровода, ВС РФ отменил акты нижестоящих судебных инстанций, удовлетворяющие требования газоснабжающей организации о сносе дома, возведенного ответчицей в 1991 г., поскольку обязанность не возводить строения на определенном расстоянии от газопроводов во время постройки дома не существовала, а обратное действие ей не было прида-но3. На первый взгляд кажется, что позиция суда заключается в следующем: в длящемся бессрочно правоотношении собственности права и обязанности собственника возникают в момент возникновения правоотношения, и если каких-либо прав и обязанностей на этот момент закон не устанавливал, то после их установления у «действующих» собственников они не возникают.
Однако, анализируя действие во времени закона на длящиеся правоотношения, связанные с правом интеллектуальной собственности, Э. Гаврилов в качестве примера новых прав и обязанностей, которые возникли в рамках длящегося правоотношения после вступления в силу нового закона, приводит следующую ситуацию: «если художественное литературное произведение было опубликовано в 1995 году, то оно охранялось по Закону РФ от 9 июля 1993 г. № 5351-1 “Об авторском праве и смежных правах”. После введения в действие части четвертой ГК РФ (1 января 2008 г.) у автора этого произведения (владельца исключительного права) дополнительно появилось право на персонаж этого произведения (п. 7 ст. 1259 ГК РФ); вместе с тем в настоящее время автор не может препятствовать тому, чтобы на основе этого произведения была создана и использовалась литературная пародия (п. 3 ст. 1274 ГК РФ)» [6, с. 81]. Итак, у авторов в уже существующем длящемся правоотношении появляются новые право и обязанность в связи с их установлением в новом Законе.
И если мы вновь обратимся к определению Конституционного Суда РФ от 2 февраля 2015 г. № 1539-О1, в котором он разъяснил невозможность придания обратной силы новой обязанности авторов допускать публичное исполнение правомерно обнародованных произведений путем их представления в живом исполнении, осуществляемое без цели извлечения прибыли в образовательных организациях без согласия автора (подп. 2 п. 1 ст. 1274 ГК РФ), то увидим, что, по логике суда, после вступления в силу закона, установившего такую обязанность, авторы уже существующих и охраняемых произведений безусловно должны эту обязанность соблюдать.
Таким образом, мы видим противоречивый подход к тому, какие права и обязанности и когда считать возникшими внутри длящегося правоотношения: с одной стороны, у собственника не возникает обязанность обеспечения нахождения строения на определенном расстоянии от газопровода, поскольку такой обязанности не было в момент возведения строения, а у автора произведения возникают обя- занности допускать публичное исполнение произведений в образовательных организациях и не препятствовать созданию пародии без согласия автора, несмотря на то что таких обязанностей в момент создания и обнародования произведения не было.
Имеются и правоприменительные примеры, когда суды распространяют во внедоговор-ных отношениях действие нового закона на обязанности, возникшие при «старом» законе. Так, ОАО «ОАК» 20 февраля 2007 г. приобрело 38 % общего количества акций ОАО «ИФК»; в соответствии с действовавшей на момент сделки редакцией ФЗ «Об акционерных обществах» (п. 1 ст. 84.2, п. 2 ст. 84.9), у покупателя возникла обязанность в части обязательного предложения в течение 35 дней, т. е. до 28 марта 2007 г. Однако эта обязанность не была исполнена. 18 ноября 2010 г. вступил в силу новый абзац 12 пункта 8 статьи 84.2 Закона об акционерных обществах2, согласно которому указанная обязанность (с учетом условий, на которых совершалась сделка) была из законодательства исключена. Федеральная служба по финансовым рынкам 26 марта 2012 г. выдала обществу предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации. Суды трех инстанций, признавая предписание недействительным, постановили, что недопустимо возлагать обязанность, которая уже не существовала на момент вынесения предписания, несмотря на тот факт, что ранее такая обязанность существовала, а предписание ФСФР квалифицировали как «принуждение к исполнению недействующего закона»3. Хотя очевидно, что ФСФР принуждала к исполнению закона, действовавшего на момент возникновения обязанности общества [14, с. 67].
В целом из анализа правоприменительной практики невозможно привести пример того, что точно следует понимать под правами и обязанностями, возникшими из внедоговорного правоотношения, но позже возникновения самого правоотношения.
Такой пример есть в договорных правоотношениях. Согласно статье 130 УЖДТ РФ, вступившего в силу 20 мая 2003 г., к правоотношениям, возникшим до вступления в силу настоящего Федерального закона, он применяется в отношении прав и обязанностей, которые возникнут после вступления его в силу1. При этом законодатель не указал, что это правило применимо только к внедоговорным отношениям, поэтому правоприменители это правило распространили и на договорные правоотношения. ВАС РФ рассмотрел следующий спор, связанный с применением указанной нормы. 9 марта 1999 г. между железной дорогой и организацией был заключен договор на подачу и уборку вагонов. Железная дорога обратилась в суд с иском о взыскании штрафа за задержку возврата вагонов в период с сентября по октябрь 2003 г. ВАС РФ, признавая требования обоснованными, указал следующее: «Согласно статье 130 Устава железнодорожного транспорта, он применяется к правоотношениям, возникшим до вступления Устава в силу в отношении прав и обязанностей, которые возникнут после вступления его в силу. События, послужившие основаниями для обращения железной дороги с настоящим иском, имели место в сентябре и октябре 2003 года, то есть после вступления Устава железнодорожного транспорта в законную силу, в связи с чем вывод судов о нераспространении на отношения сторон его норм неправомерен»2. Как видим, в данном случае момент возникновения права требования штрафа связан с моментом совершения правонарушения. Однако, по общему темпоральному правилу, содержащемуся в ГК РФ применительно к договорам, момент возникновения договорных прав и обязанностей значения не имеет.
В договорных отношениях, когда договор заключен до вступления в силу нового акта, в части вытекающих из него прав и обязанностей всегда действует «старый», утративший юридическую силу акт, независимо от того, когда возникли договорные права и обязанности. Как неоднократно подчеркивал ВС РФ, «при рассмотрении споров из названных договоров следует руководствоваться ранее действовавшей редакцией Гражданского кодекса Российской Федерации с учетом сложившейся практики ее применения (п. 2 ст. 4, абз. 2 п. 4 ст. 421, п. 2 ст. 422 ГК РФ)»3.
Видимо, правоприменители полагают, что при заключении договора возникает одно единственное правоотношение и оно всегда будет подвергнуто действию закона, который находился в силе в момент заключения договора. Так, страховая компания пыталась обосновать возможность применения новой редакции пункта 2 статьи 13 ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»4, содержащего новое положение о неустойке, к правоотношениям сторон, которые продолжались после вступления в силу указанной редакции. ВАС РФ постановил, что такая позиция истца неос-новательна5. По другому делу энергоснабжающая организация полагала подлежащей применению статью 317.1 ГК РФ, вступившую в силу с 1 июня 2015 г., к договору, заключенному
26 ноября 2014 г., но к периодам просрочки оплаты со стороны потребителя энергии с июня по октябрь 2015 г. Истец считал, что в этот период возникло новое, отличное от первоначального договорного, правоотношение, связанное с неисполнением договора именно в указанный период. ВС РФ пояснил, что такой довод истца основан на неверном толковании норм материального права1.
Отсюда вроде бы следует вывод, что реализация договорного правоотношения, режим договорных прав и обязанностей как до, так и после утраты юридической силы актом, действовавшим в момент заключения договора, регламентируется этим актом. Такой подход обусловлен основополагающим конституционным принципом свободы договора и требованиями устойчивости гражданского оборота2. Позиция недопустимости применения статьи 317.1 ГК РФ к уже заключенным договорам в научной литературе обстоятельно аргументировалась политико-правовыми соображениями, связанными «с недопустимостью подрыва разумных ожиданий участников оборота» [11, с. 176].
Однако ВС РФ в другом деле о темпоральном действии той же статьи – 317.1 ГК РФ занял противоположную указанной выше позицию, и в какой-то мере подорвал «разумные ожидания» контрагентов. С 1 июня 2015 г. вступила в силу статья 317.1 ГК РФ в первоначальной редакции, предусматривающей, что, если иное не предусмотрено законом или договором, кредитор имеет право на получение процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами. Стороны заключили договор 25 января 2016 г., не предусмотрев в нем право на получение процентов. С 1 августа 2016 г. вступила в силу новая редакция пункта 1 статьи 317.1 ГК РФ, устанавливающая, что кредитор имеет право на получение процентов на сумму долга, только если это прямо предусмотрено законом или договором. Кредитор по договору предъявил требования о взыскании процентов, в том числе за период с 1 августа 2016 г. В этой части иска истцу было отказано, и такое решение было поддержано и ВС РФ3. При этом уже действовали правила пункта 83 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. № 7 о том, что положения Гражданского кодекса Российской Федерации в измененной Законом № 42-ФЗ редакции, например, статья 317.1 ГК РФ, не применяются к правам и обязанностям, возникшим из договоров, заключенных до дня вступления его в силу, и пункта 6 постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах», указывающего, что судам надлежит иметь в виду, что, согласно пункту 2 статьи 422 ГК РФ, закон, принятый после заключения договора и устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, распространяет свое действие на отношения сторон по такому договору лишь в случае, когда в законе прямо установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров. В силу пункта 2 статьи 4 ГК РФ это правило применяется как к императивным, так и к диспозитивным нормам.
Тогда почему редакция статьи 317.1 ГК РФ, вступившая в силу с 1 июня 2015 г., не применяется к договорам, заключенным до 1 июня 2015 г., а новая редакция статьи 317.1 ГК РФ, вступившая в силу с 1 августа 2016 г., применяется к договорам, заключенным до этой даты?
Кроме того, применительно к исковой давности по требованиям, вытекающим из договора, ВС РФ занял аналогичную позицию: на часть срока исковой давности по договорным требованиям, который продолжается после вступления нового нормативно-правового акта в силу, действует уже новый акт. 13 сентября 2011 г. заказчик и исполнитель заключили договор на выполнение проектных и изыскательных работ. У заказчика перед исполнителем образовалась задолженность. С учетом подписанных актов сдачи-приемки выполненных ра- бот срок исковой давности по требованиям из этих актов истек 18 марта 2017 г. 31 марта 2017 г. стороны подписали акт сверки взаимных расчетов, подтверждающий долг. Иск исполнителя работ был предъявлен в суд 6 июня 2017 г. Таким образом, взаимный акт сверки был подписан по истечении срока исковой давности. 1 июня 2015 г. вступил в силу пункт 2 статьи 200 ГК РФ, допустивший течение срока исковой давности заново после признания должником в письменной форме суммы долга. Суд первой инстанции признал срок исковой давности неистекшим, но суды апелляционной и кассационной инстанций посчитали, что «к спорным отношениям не подлежат применению положения пункта 2 статьи 206 ГК РФ, поскольку право требования уплаты долга возникло у истца до вступления в силу Закона № 42-ФЗ, согласно пункту 2 статьи 2 которого положения ГК РФ (в редакции Закона № 42-ФЗ) применяются к правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу названного Федерального закона».
ВС РФ, рассматривая данное дело, также подтвердил, что «положения новой редакции пункта 2 статьи 206 ГК РФ о возможном течении срока исковой давности заново после признания должником в письменной форме суммы долга, введены Законом № 42-ФЗ, вступившим в действие с 1июня 2015 г., и с учетом пункта 2 статьи 2 указанного закона применяются к тем правам и обязанностям, которые возникнут после дня вступления в силу данного Федерального закона, если иное не предусмотрено данной статьей; по правоотношениям, возникшим до дня его вступления в силу, положения ГК РФ (в редакции названного закона) применяются к тем правам и обязанностям, которые возникнут после дня вступления в силу Закона № 42-ФЗ, если иное не предусмотрено названной статьей», традиционно, как по всем «темпоральным» спорам, сослался на пункт 83 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», согласно которому «положения ГК РФ в измененной Законом № 42-ФЗ редакции не применяются к правам и обязанностям, возникшим из договоров, заключенных до дня вступления его в силу (до 1 июня 2015 года)». При рассмотрении споров из названных договоров следует руководствоваться ранее действовавшей редакцией ГК РФ с учетом сложившейся практики ее применения (п. 2 ст. 4, абз. 2 п. 4 ст. 421, п. 2 ст. 422 ГК РФ); было указано также, что «названное разъяснение, основанное, прежде всего, на пункте 2 статьи 422 ГК РФ, направлено на обеспечение стабильности договоров, заключенных до соответствующего изменения гражданского законодательства: в отсутствие дополнительных волеизъявлений сторон о применении к их отношениям нового регулирования они подчиняются ранее действовавшей редакции ГК РФ», но при этом сделан следующий вывод: «Вместе с тем применительно к регулированию исковой давности это не исключает ни возможности заключения сторонами новых соглашений, подчиненных уже новому регулированию, ни права стороны в соответствии с законом и договором в одностороннем порядке своим волеизъявлением изменить режим своей обязанности в пользу другой стороны. Поэтому если сторона письменно в одностороннем порядке или в соглашении с другой стороной, подтвержденном в двустороннем документе, признает свой возникший из заключенного до 1 июня 2015 г. договора долг, исковая давность по которому не истекла на момент введения в действие Закона № 42-ФЗ, однако уже истекла к моменту такого признания долга, то к отношениям сторон подлежит применению пункт 2 статьи 206 ГК РФ»1.
Здесь также не вполне понятна логика суда: почему именно «применительно к исковой давности» по договору, заключенному до вступления в силу нового закона, подлежит перспективному действию новый закон? Особенно с учетом неоднократно повторяемой правовой позиции ВС РФ о том, что «исковая давность исчисляется в соответствии с действующим на момент совершения правонарушения правовым регулированием (пункт 1 статьи 4 Гражданского кодекса Российской Феде- рации)»1. Очевидно, что правонарушение по неисполнению обязанности оплаты работ было совершено заказчиком до вступления в силу пункта 2 статьи 200 ГК РФ.
Безусловно, заказчик уже мог ознакомиться с новым нормативно-правовым актом и оценивать в свете нового закона свои действия по подписанию акта взаиморасчетов, но ведь и контрагент, допускающий просрочку исполнения договорного обязательства после вступления в силу нового закона, также мог ознакомиться с последним. Однако право требования ответственности за просрочку по договору подвергнуто ультраактивному действию старого закона, а материальное право на иск по договору – перспективному действию нового закона.
Из правовой позиции суда по поводу темпоральных правил «применительно к исковой давности» следует и другой важный вывод: после вступления в силу нового закона возможно изменение самими сторонами договора ультра-активного действия старого закона на перспективное действие нового закона в двух случаях.
Во-первых, путем заключения сторонами договора новых соглашений, подчиненных уже новому регулированию. Причем, как пояснял еще ВАС РФ, ссылка на возможное новое правовое регулирование может быть установлена и при заключении договора. Так, регулируемая арендная плата к договору, заключенному до вступления в силу федерального закона, устанавливающего такую плату, может применяться, «если стороны такого договора связали изменение размера арендной платы с изменением нормативных актов, подлежащих применению к их отношениям. Равным образом к договору аренды, заключенному до вступления в силу федерального закона, предусматривающего необходимость государственного регулирования арендной платы, подлежит применению данное регулирование, если арендодателю договором предоставлено право на изменение размера арендной платы в одностороннем порядке и соответствующее волеизъявление о применении к договору регулируемой арендной платы было сделано арендодателем и получено арендатором»2.
Во-вторых, посредством одностороннего волеизъявления одной стороны договора, сделанного в соответствии с законом и договором, по изменению режима своей обязанности в пользу другой стороны.
Для правильного применения ультраактив-ного действия закона важно различать правоотношения, возникающие из договоров, и правоотношения, хотя и связанные с ними, сопутствующие им, но не основанные на договоре. Так, в 2011 году решением суда на должника была возложена обязанность по исполнению обязательства в натуре. В 2017 году истец обратился в суд с заявлением о взыскании с должника за неисполнение названного решения суда судебной неустойки с 1 июня 2015 г. Суд первой инстанции иск удовлетворил, однако суд апелляционной инстанции посчитал, что судебная неустойки в данном деле не может быть применена, поскольку на момент вынесения решения суда такая мера ответственности за неисполнение судебного акта, предусмотренная статьей 308.3 ГК РФ, не была введена. ВС РФ с такой позицией не согласился и указал, «что предметом рассмотрения являлась возможность присуждения судебной неустойки не за неисполнение договора, а на случай неисполнения публичноправового акта – вступившего в законную силу решения суда», поэтому «по заявлению кредитора на случай неисполнения указанного судебного решения может быть присуждена в его пользу денежная сумма в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 308.3 ГК РФ, и после названной даты независимо от того, когда был постановлен судебный акт»3. Из этой логики суда следует также вывод о том, что любые права и обязанности, вытекающие из договора, в том числе связанные с его неисполнением, независимо от того, когда имел место факт нарушения договора, должны подчиняться ультраак-тивному действию «старого» закона.
Фактически, как в недоговорных, так и в договорных правоотношениях, утративший силу закон, по общему правилу, продолжает свое действие на реализацию отношения , возникшего до вступления в силу нового закона, а не на некие вновь возникающие права и обязанности внутри длящегося правоотношения. На наш взгляд, именно это имеет в виду и законодатель. К примеру, в пункте 14 статьи 34 ФЗ от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» прямо указано, что « отношения, связанные с реализацией положений заключенных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона договоров … регулируются Земельным кодексом Российской Федерации (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона)»1.
Ультраактивность действия закона охватывает период с его возникновения до окончания реализации. Так, по уже упоминавшемуся нами делу, гражданка Ч. Г. В. в 1991 г. возвела садовый дом и хозяйственные постройки на земельном участке, является их собственницей. В 2016 году газоснабжающая организация предъявила иск о их сносе, поскольку эти объекты расположены в зоне минимально допустимых расстояний газопровода – отвода к газораспределительной станции. Отменяя принятые по делу акты, ВС РФ отметил, что, «принимая решение о сносе спорных строений на основании статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 32 Федерального закона от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», суд не принял во внимание, что данные нормы не действовали на момент возведения … спорных строений в 1991 г. При этом названные правовые нормы не содержат указаний на придание им обратной силы»2. Но подчеркнем, что позиции судов при ответе на вопрос о том, какой закон следует применять при нормативном установлении новых прав и обязанностей, крайне неоднозначны.
Определенно можно утверждать лишь одно: во внедоговорных правоотношениях установленные законодателем новые права и обязанности субъектов правоотношения точно касаются субъектов уже существующих отношений, если им прямо придано обратное действие. К примеру, законодатель действие статьи 234 ГК РФ о новом праве приобретательной давности распространил и на случаи, когда владение имуществом началось до 1 января 1995 г. и продолжалось в момент введения в действие части первой ГК РФ3.
В договорных правоотношениях новые права и обязанности, установленные законодателем в новом законе, также касаются участников уже заключенных договоров, если им придано обратное действие. Так, статья 395 ГК РФ в действовавшей до 1 июня 2015 г. редакции не содержала запрета на взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами в том случае, если договором была предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства; в случае нарушения возникшего из договора денежного обязательства кредитор по своему усмотрению был вправе предъявить и требование о взыскании предусмотренной договором неустойки и (или) требование о взыскании процентов на основании статьи 395 ГК РФ. Таким образом, появившаяся в законодательстве с 1 июня 2015 г. пассивная обязанность кредитора не взыскивать проценты за пользование чужими денежными средствами, если договором предусмотрена неустойка, действует только перспективно и кредиторов по уже существующим договорам не касается.
Не сложилось единообразной практики по поводу темпорального действия закона на соглашения сторон, заключаемые в связи с договором, но после вступления в силу нового нормативно-правового акта.
Так, еще ВАС РФ пояснял, что все дополнительные соглашения к договору, заключенные после вступления в силу нового закона, должны соответствовать требованиям нового закона1.
В 2017 году ВС РФ сформулировал правовую позицию, согласно которой при заключении дополнительного соглашения у сторон договора возникают не права и обязанности, вытекающие из первоначального договорного правоотношения, а новое правоотношение, которое, в силу пункта 1 статьи 422 ГК РФ, должно соответствовать закону, действующему на момент его возникновения. Суть спора заключалась в том, что после заключения договора аренды государственного имущества (без проведения торгов) вступила в силу статьи 17.1 закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», согласно которой арендатор имеет преимущественное право на заключение договора аренды, только если предшествующий договор был заключен по результатам торгов. Арендатор настаивал на реализации своего права на преимущественное заключение договора на новый срок в соответствии со статьей 621 ГК РФ, действовавшей на момент заключения договора, и полагал, что новые положения закона «О защите конкуренции» на его отношения с арендодателем не действуют, поскольку эти отношения возникли до вступления указанных положений в силу. ВС РФ признал такую позицию арендатора неосновательной2.
При анализе этого судебного дела в научной литературе был сделан вывод о том, что «в целях применения правил о действии закона во времени следует исходить из того, что новые отношения между сторонами договора возникают только в том случае, если они своим волеизъявлением меняют ранее достигнутые договоренности» [19, с. 46]. Но можно ли в таких случаях констатировать, что стороны поменяли свои ранее возникшие договоренности? Ведь, заключая договор, они исходили из действующего на тот момент правового режима, в том числе из наличия преимущественных прав. Не следует ли считать, что стороны, заключая договор, договорились также и о приобретении арендатором преимущественного права? Как верно замечено в литературе, наличие преимущественного права на продление договора аренды во многих случаях могло являться основной причиной заключения договора аренды, а арендатор, имея в виду преимущественное право, мог совершать определенные действия по улучшению арендованного имущества и т.п. [23, с. 16]. КС РФ отмечал, что отмена права, приобретенного в соответствии с ранее действовавшим законодательством и реализуемого в конкретных правоотношениях, несовместима с требованиями, вытекающими из статей 1 (часть 1), 2, 18, 54 (часть 1), 55 (части 2 и 3) и 57 Конституции РФ3.
В целом именно преимущественное право на заключение договора, возникшее из договора, заключенного до вступления в силу нового закона, в наибольшей степени «темпо-рально пострадало» от правоприменительной практики4. Суды последовательно и многократно отказывались применять к такому договорному субъективному праву ультраактив-ное действие старого закона, указывая, например, что само по себе намерение арендатора продлить срок действия договора не свидетельствует о возникновении у арендодателя обязанности предоставить арендатору объект в аренду на новый срок5. Но в таких случаях речь идет не о неком не имеющем отношения к праву намерении лица, а о реализации дого- ворного субъективного права, которому всегда корреспондирует именно обязанность другого лица, а не свободная воля последнего исполнять ее или не исполнять.
Итак, суды считают, что ограничения, связанные с реализацией преимущественного права, распространяются на договоры, заключенные ранее вступления в силу таких ограничений.
Однако в 2020 году ВС РФ определил, что, например, ограничения, связанные с уступкой права требования по договору, не распространяются на уже заключенные договоры. 27 марта 2012 г. по результатам аукциона был заключен договор аренды земельного участка; 1 июня 2015 г. вступил в силу пункт 7 статьи 448 ГК РФ, запрещающий уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора1; 1 декабря 2015 г. был заключен договор уступки права требования (цессии) по указанному договору аренды. ВС РФ постановил, что «в данном случае договор аренды земельного участка заключен 27 марта 2012 г., то есть до вступления в силу пункта 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации (01.06.2015), следовательно, на него не распространяются ограничения, введенные данной нормой»2.
Таким образом, вступившие в силу ограничения по уступке прав требования по договору не применяются к ранее заключенному договору, а вступившие в силу ограничения по преимущественному праву аренды почему-то применяются к ранее заключенному договору. Хотя, на наш взгляд, намного больше причин считать уступку прав требования по договору новым договорным правоотношением, особенно с учетом появления в них еще одного участника, чем дополнительные соглашения между теми же лицами к уже существующему договору.
Заключение
Существует три типа действия норм права во времени.
Перспективное и немедленное действия норм права содержательно совпадают.
Ретроактивным (обратным) действием могут обладать не только законы, но и подзаконные нормативные акты, которое придается им нормотворцем либо в самом акте, либо в акте о введении их в действие. По отношению к ретроактивности права у законодателя может быть три позиции: 1) полное запрещение ретроактивности; 2) безусловное допущение ретроактивности, если новый закон устраняет или смягчает юридическую ответственность или иным образом улучшает правовое положение граждан (в отраслях публичного права); 3) допущение ретроактивности при необходимости достижения соразмерности при соблюдении интересов общества и условий защиты основных прав личности; обеспечение баланса конституционно защищаемых ценностей; соблюдение сбалансированности и справедливости соответствующего правового регулирования (в отраслях частного права).
Ультраактивным действием обладает утративший силу нормативно-правовой акт, он действует на уже возникшие права и обязанности, вытекающие из правоотношения, возникшего до момента утраты актом силы. Сформулировать точный ответ на вопрос о том, что следует понимать под «правами и обязанностями, вытекающими из правоотношения, возникшего до утраты актом юридической силы, но возникшими после этой даты», не представляется возможным. С одной стороны, права и обязанности возникают с момента наступления всех необходимых юридических фактов (например, договорная обязанность по оплате возникает при наличии таких фактов: заключение договора + совершение контрагентом встречных действий + наступление срока платежа). С другой стороны, существует концепция о том, что права и обязанности возникают в момент возникновения правоотношения, а реализуются, осуществляются, исполняются позже. В первом случае, если последний юридический факт наступил после вступления в силу нового закона, на права и обязанности должен распространяться новый закон, во втором – всегда старый закон. При этом суды применяют и тот и другой подходы, причем по аналогичным делам.
Логика в применении того или иного подхода к ультраактивности не прослеживается ни в договорных, ни во внедоговорных спорах: новые обязанности собственника не действуют, если их не было в законе в момент возникновения права собственности, при этом новые обязанности автора, если их не было в законе в момент создания и обнародования произведения, действуют; право на взыскание процентов, предусмотренное первоначальной редакцией статьи 317.1 ГК РФ, вступившей в силу с 1 июня 2015 г., не применяется к договорам, заключенным до 1 июня 2015 г., при этом это же право, предусмотренное новой редакцией статьи 317.1 ГК РФ, вступившей в силу с 1 августа 2016 г., применяется к договорам, заключенным до этой даты. Именно такая логически не прогнозируемая практика и создает правовую неопределенность и недоверие субъектов к праву.
С учетом сложившейся практики использования ультраактивности закона можно заключить: при вступлении нормативных правовых актов в силу законодателю не следует ограничиваться общей формулировкой о том, что «по отношениям, возникшим до вступления акта в силу, он действует на права и обязанности, возникшие после вступления его в силу», а как можно конкретнее указывать, о каких правах и обязанностях идет речь.
Список литературы Типы действия норм права во времени
- Алексеев С. С. Общая теория права: в 2 т. М.: Юрид. лит., 1982. Т. 2. 360 с.
- Бахрах Д. Н. Действие норм права во времени. Теория, законодательство, судебная практика. М.: Норма, 2004. 224 с.
- Бахрах Д. Н. Конституция РФ, КоАП, УК, УПК, НК, ГК РФ о действии во времени норм, регулирующих юридическую ответственность // Таможенное дело. 2008. № 3. С. 15-21.
- Беляева О. А. Ликбез по 44-ФЗ // Конкуренция и право. 2014. № 5. С. 58-60.
- Бошно С. В. Обратная сила закона: общие правила и пределы допустимости // Юрист. 2008. № 5. С. 51-55.
- Гаврилов Э. Действие во времени гражданского законодательства, касающегося интеллектуальных прав // Хозяйство и право. 2012. № 5. С. 74-84.
- Гаджиев Г. Принципы права и право из принципов // Сравнительное конституционное обозрение. 2008. № 2 (63). С. 22-45
- Голубцов В. Г. Применение гражданского процессуального закона во времени // Вестник гражданского процесса. 2021. № 3. С. 132-152.
- Гришаев С. П., Богачева Т. В., Свит Ю. П. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая. 2019 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
- Ершова Е. А. Трудовые правоотношения государственных гражданских и муниципальных служащих в России. М.: Статут, 2008. 668 с.
- Карапетов А. Г. Законные проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2015. № 10. С. 154-176.
- Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая: учеб.-практ. комментарий (постатейный) / под ред. А. П. Сергеева. М.: Проспект, 2010. 912 с.
- Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (постатейный) / Н. А. Агеш-кина, Н. А. Баринов, Е. А. Бевзюк, М. А. Беляев, А. Б. Бельянская, Т. А. Бирюкова, Ю. Н. Вах-рушева, Я. С. Гришина, Р. Ю. Закиров, О. А. Кожевников, А. В. Копьев, Т. А. Куха-ренко, А. П. Морозов, С. Ю. Морозов, М. М. Серебренников, Е. Г. Шадрина. 2016 [Электронный ресурс]. Подготовлен для справ.-правовой системы «КонсультантПлюс», 2016.
- Копылов Д. Г. Исключения из правила о направлении обязательного предложения // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2019. № 12. С. 28-67.
- Крашенинников П. В. Наследственное право. М.: Статут, 2018. 288 с.
- Кузнецова О. А. Темпоральное действие актов, содержащих нормы гражданского права // Гражданский кодекс Российской Федерации: 25 лет действия / под ред. Б. М. Гонгало. Екатеринбург, 2019. С. 167-184.
- Новоселова Л. А. О сфере действия статьи 422 Гражданского кодекса // Гражданское право современной России / сост. О. М. Козырь и А. Л. Маковский. М.: Статут, 2008. С. 142-155.
- Пресняков М. В. Конституционная концепция принципа справедливости / под ред. Г. Н. Комковой. М.: ДМК Пресс, 2009. 384 с.
- Рассказова Н. Ю. Действие актов гражданского законодательства во времени // Арбитражные споры. 2019. № 2 (86). С. 31-52.
- Российское гражданское право: учебник; в 2 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. М.: Статут, 2011. Т. 1. 958 с.
- Тилле А. А. Время, пространство, закон. М.: Юрид. лит., 1956. 203 с.
- Тузов Д. О. Теория недействительности сделок: опыт российского права в контексте европейской правовой традиции. М.: Статут, 2007. 602 с.
- Уруков В. Н. Прекращение однажды приобретенного гражданского права: отдельные вопросы теории и практики // Вестник арбитражной практики. 2019.№ 4. С. 15-27.
- Hegel's Philosophy of Right / translated with notes T. M. Knox. London: Oxford University Press, 1949. 383 p. (In Eng.).
- Klatt M. Balancing Rights and Interests: Reconstructing the Asymmetry Thesis // Oxford Journal of Legal Studies. 2021. Vol. 41, Issue 2. Pp. 321-347. URL: 10. 1093/ojls/gqaa051. (In Eng.).
- Schauer F. Law's Boundaries // Harvard Law Review. 2017. Vol. 130. Issue 9. Pp. 22342462. (In Eng.).
- Bikelis S. Modeling the Patterns of Civil Confiscation: Balancing Effectiveness, Proportionality and the Right to Be Presumed Innocent // Baltic Journal of Law & Politics. 2020. Vol. 13, Issue 2. Pp. 24-48. DOI: 10.2478/bjlp-2020-0010. (In Eng.).
- Fuller L. L. The Morality of Law. New Haven, Connecticut: Yale University Press, 1964. 202 p. (In Eng.).
- Lee T. R., Mouritsen S. C. Judging Ordinary Meaning // The Yale Law Journal. 2018. Vol. 127. Issue 4. Pp. 788-879. (In Eng.).