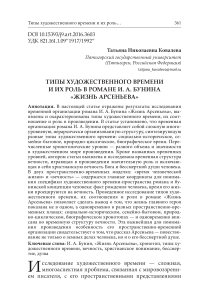Типы художественного времени и их роль в романе И. А. Бунина "Жизнь Арсеньева"
Автор: Ковалева Татьяна Николаевна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.14, 2016 года.
Бесплатный доступ
В настоящей статье отражены результаты исследования временной организации романа И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева», выявлены и охарактеризованы типы художественного времени, их соотношение и роль в произведении. В статье установлено, что временная организация романа И. А. Бунина представляет собой сложную многоуровневую, иерархически организованную структуру, синтезирующую разные типы художественного времени: социально-историческое, семейно-бытовое, природно-циклическое, биографическое время. Перечисленные хронотопические уровни - разного объема и значимости в художественном мире произведения. Кроме названных временных уровней, автором статьи выявлена и исследована временная структура вечности, играющая в произведении значительную роль и включающая в себя христианскую вечность Бога и бессмертной души человека. В двух пространственно-временных моделях: «время человеческой жизни» и «вечность» - содержатся главные координаты для понимания специфики художественного времени-пространства романа и бунинской концепции человека: факт рождения человека, время его жизни проецируются на вечность. Проведенное исследование типов художественного времени, их соотношения и роли в романе «Жизнь Арсеньева» позволяет сделать вывод о том, что жизнь главного героя показана не в одном, а одновременно в разных пространственно-временных планах: социально-историческом, семейно-бытовом, природно-циклическом, биографическом хронотопах - и одновременно вписана во временную структуру вечности. Эта важнейшая для понимания произведения особенность его пространственно-временной организации свидетельствует о том, что рассказ Арсеньева - повествование не только о земных делах человека, но и о его бессмертной душе.
И. а. бунин, "жизнь арсеньева", хронотоп, типы художественного времени, вечность, христианское понимание, бессмертие, душа
Короткий адрес: https://sciup.org/14748975
IDR: 14748975 | УДК: 821.161.1-1.09“1917/199 | DOI: 10.15393/j9.art.2016.3603
Текст научной статьи Типы художественного времени и их роль в романе И. А. Бунина "Жизнь Арсеньева"
Исследование художественного времени — сложная, многоаспектная проблема, связанная с мировоззрением писателя, с его пространственными представлениями и в целом с моделью мира и человека, с представлениями о сложной взаимосвязи макро- и микрокосма, с жанровой спецификой произведения и спецификой художественного метода. Начиная со второй половины XX века идет процесс активного изучения художественного времени и художественного пространства как универсальных философско-эстетических категорий, в силу своего знакового характера выступающих в качестве средств художественного моделирования, способов выражения нравственных представлений, духовных исканий, мироощущения автора и героев. На рубеже XX–XXI веков появляются новые исследования, развивающие и уточняющие основные положения теории хронотопа М. М. Бахтина (см. об этом: [16]; [17]; [10]; [11]; [8]; [9]; [6]; [12]; [14]; [22] и др.).
М. М. Бахтин в одной из своих фундаментальных работ «Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике» не случайно «выделил» время из хронотопа и поставил в названии статьи на первое место. Подчеркивая масштабность охвата и осмысления жизни, бытия во временных категориях, ученый называл «время в литературе» «ведущим началом в хронотопе» [4, 122]. Актуальность исследования художественного времени как составляющей хронотопа романа «Жизнь Арсеньева» во многом обусловлена дискуссионностью вопроса о его жанре, не решенного до настоящего времени. Поскольку художественное время как часть хронотопа является одним из жанроформирующих факторов, то его глубокое исследование поможет решению сложной проблемы жанра произведения Бунина 1 .
Временная организация романа И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева» представляет собой сложную многоуровневую, иерархически организованную структуру, синтезирующую разные типы и формы художественного времени, устойчивые временные структуры и оппозиции, вбирающую в себя различные принципы организации сюжетного времени, его ритма, порядок следования событий в тексте и его нарушения. В этой статье мы остановимся на исследовании типов художественного времени и связанных с ними устойчивых временных структур. К таким типам художественного времени мы относим социально-историческое, семейно-бытовое, природно-циклическое, биографическое время как части соответствующих хронотопов. Эти хронотопические уровни — разного объема и разной значимости в художественном мире романа. Анализ объема и роли каждого типа времени позволит выявить их иерархию в пространственновременной организации романа и охарактеризовать концептуальный хронотоп романа в целом.
К характеристике некоторых из названных временных уровней уже обращались исследователи. Социально-историческое время — традиционно выделяемый тип времени в романе «Жизнь Арсеньева» и трактуемый как основной временной тип в работах В. Н. Афанасьева [3], А. А. Волкова [5], Л. К. Долгополова [7], С. И. Антонова [2], Е. Р. Пономарева [21]. Однако степень конкретности социально-исторического времени в романе намеренно ограничена, хотя оно вполне узнаваемо. Несмотря на отсутствие в книге Бунина дат, портрет эпохи вырисовывается вполне определенно и конкретно за счет описаний отдельных событий, героев, упоминания фактов, многозначительных деталей, замечаний. В самом начале повествования Арсеньев сообщает, что он «родился полвека тому назад, в средней России, в деревне, в отцовской усадьбе» 2 . Из признания героя мы узнаем, что время начала его повествования — это время умирания дворянских гнезд, обеднения и обнищания дворянской семьи Арсеньевых: «Я уже знал, что мы стали бедные, что отец много “промотал” в крымскую кампанию, много проиграл, когда жил в Тамбове, что он страшно беспечен и часто, понапрасну стараясь напугать себя, говорит, что у нас вот-вот и последнее “затрещит” с молотка; знал, что задонское именье уже “затрещало”, что у нас уже нет его…» (32).
Через картины и приметы жизни семьи Арсеньевых Бунин с большой правдой воссоздал жизнь поместного дворянства конца XIX века. О том, что время повествования — это эпоха рубежа XIX–XX веков, свидетельствуют также такие события сюжета, как участие старшего брата Алеши в студенческих беспорядках, знакомство Арсеньева с революционерами и толстовцами, сообщение о смерти в эмиграции великого князя и другие факты и многозначительные детали. Вспомним енотовую шубу Алешиного отца, бывшую когда-то, в прежние времена, признаком дворянской роскоши. Облачившись в нее, разорившийся отец Алеши, появившись в городе, играет роль богача. Эту же шубу не просто как вещь, но и как некий знак рода, родители отдают сыну, покидающему родное гнездо. В главах, посвященных гимназическим годам Арсеньева и его жизни в семье Ростовцева, достаточно подробно обрисована жизнь городского мещанства.
Бунин действительно ярко и зримо воссоздал некоторые картины русской жизни и русской старины, что позволило Е. Р. Пономареву даже назвать роман Бунина «энциклопедией дореволюционной России» [21, 25]. Однако это социальноисторическое время — лишь один из временных уровней произведения, с одной стороны, действительно воссоздающий жизнь России XIX века, с другой, — помогающий передать один из этапов взросления главного героя — зарождение в нем чувства Родины, ее великого исторического прошлого, или, по признанию Арсеньева, «ощущенья России и того, что она моя родина <…>, ощущенья связи с былым, далеким, общим, всегда расширяющим нашу душу, наше личное существование, напоминающим нашу причастность к этому общему…» (75).
Чувство истории России Арсеньев-подросток впервые ощутил на старинной Чернавской дороге, ведущей из Каменки в Елец, — в «один из самых древних русских городов», лежавших «среди великих черноземных полей Подстепья на той роковой черте, за которой некогда простирались “земли дикие, незнаемые”, а во времена княжеств Суздальского и Рязанского принадлежал к тем важнейшим оплотам Руси, что, по слову летописцев, первые вдыхали бурю, пыль и хлад из-под грозных азиатских туч, то и дело заходивших над нею, первые видели зарева страшных ночных и дневных пожарищ, ими запа-ляемых, первые давали знать Москве о грядущей беде и первые ложились костьми за нее. В свое время он, конечно, не раз пережил все, что полагается: в таком-то веке его “до тла разорил” один хан, в таком-то другой, в таком-то третий, тогда-то “опустошил” его великий пожар, тогда-то голод, тогда-то мор и трус… Вещественных исторических памятников он при таких условиях, конечно, не мог сохранить. Но старина в нем все же очень чувствовалась, сказывалась в крепких нравах купеческой и мещанской жизни, в озорстве и кулачных боях его слобожан, то есть жителей Черной Слободы, Заречья, Аргамачи, стоявшей над рекой на тех желтых скалах, с которых будто бы сорвался некогда вместе со своим аргамаком какой-то татарский князь» (78–79). «Татары, Мамай, Митька… Несомненно, что именно в этот вечер впервые коснулось меня сознанье, что я русский и живу в России, а не просто в Каменке, в таком-то уезде, в такой-то волости, и я вдруг почувствовал эту Россию, почувствовал ее прошлое и настоящее, ее дикие, страшные и все-же чем-то пленяющие особенности и свое кровное родство с ней…» (76).
Однако интерес Бунина к социальной и исторической жизни России в романе избирателен. Так, Арсеньев не коснулся ни одного из значительных событий истории ХХ века. Русские революции, Первая мировая война, гражданская война остались вне повествования. Это подчеркнутое отсутствие существенных связей главного героя с социальноисторическими, политическими сторонами жизни того времени обусловлено не только резко отрицательным отношением к кровавым событиям истории. Такая «фоновая» роль социально-исторического времени выделяет и актуализирует онтологический, экзистенциальный характер проблематики повествования и пути главного героя. Поэтому представляется ошибочной в узости подхода характеристика романа Бунина, в которой «Жизнь Арсеньева» называется «книгой о беднеющем барчуке, отпрыске знатного, но захудалого рода, о неподвижном существовании в степном захолустье, о неподвижной скуке уездных городов» [2, 50]. Подобного рода социально-исторических интерпретаций своей книги Бунин решительно не принимал. Внимательно следивший за рецензиями на «Жизнь Арсеньева», Бунин особо отметил одно понравившееся ему высказывание, подтверждающее наши наблюдения и выводы о второстепенной роли социально-исторического хронотопа в романе: «Конечно, и в “Арсеньеве” картины России дворянско-деревенской, мещанско-городской, интеллигентски-революционной даны с тою же рельефностью, в которой Бунин не знает соперников. Но все это для “Арсеньева” не характерно и в нем не важно (курсив мой. — Т. К.). За это изумительное изобразитель-ство Бунина по-старому хочется благодарить, но не оно влечет к нему» (подчеркнуто И. А. Буниным) (цит. по: [1, 69]). Подчеркнув здесь слова «не оно», автор выразил согласие с мнением критика. Таким образом, закономерен вывод о том, что социально-исторический хронотоп играет в романе второстепенную роль, создавая фон для других, событийных, «энергических» (М. М. Бахтин) пространственно-временных уровней.
В то же время нельзя согласиться с точкой зрения О. Михайлова, в соответствии с которой в «Жизни Арсеньева» «полностью отсутствует ощущение истории» [20, 160]. На наш взгляд, прав Л. Долгополов, утверждавший, что Бунин в романе и «внеисторичен», и в то же время «глубоко историчен» [7, 318]. Отсутствие в романе отзвуков самых значительных событий ХХ века (революции, войны) является открытым спором Бунина с Историей, отказом принимать ее определяющее на жизнь человека влияние. Несмотря на отсутствие каких-либо описаний переломных событий русской истории начала ХХ века, отношение к ним достаточно хорошо выражено через отдельные замечания героя и характеристики. Так, вспоминая и оценивая свое знакомство с харьковскими революционерами, Арсеньев дает проницательную, порой ироничную, порой саркастическую, но в целом объективную характеристику этой среды, не принимая ее обособленности от всех социальных слоев, кроме рабочих и крестьян, презрительного отношения к иным сословиям, излишней прямолинейности, нетерпимости, узости интересов. Однако выявлением и констатацией неприятия Арсеньевым революционной среды и отрицания революционного переворота вопрос о роли и значении социально-исторического времени-пространства в романе не решается. Дело в том, что Арсеньев не вписывал себя ни в какую социальную среду. Рассказывая о том, что привлекало и что отталкивало его от революционеров, о своих временных посещениях их кружка, Арсеньев утверждал, что «никакой связи с другими кругами» у него «не было» (228), как не было и желания, и какой-либо общности, каких-либо внутренних оснований эти связи устанавливать. Таким образом, оторвавшись от родной семьи, покинув родное дворянское гнездо, Арсеньев осознанно занимает асоциальную позицию. Эта асоциальность главного героя в сочетании с характеристикой его движения по жизни, его пространственной сферы, хронотопа как нельзя лучше подчеркивает экзистенциальный характер пути Арсеньева и его духовных исканий.
Слабой оказывается связь главного героя книги Бунина не только с социально-историческим, но и с семейно-бытовым временем-пространством . Это лишь отдельные эпизоды из детства и отрочества героя, когда Бунин воссоздает некоторые картины бытовой жизни дворянской семьи в поместной усадьбе или мещанской городской семьи. В целом же главный герой и основные события его жизни — вне быта, быту не причастны и бытом не определяются. Именно поэтому в юности Арсеньеву так нестерпимы были картины течения обыденной жизни в узком кругу семьи, которые ему, шутя, нарисовал старший брат. Картина такой жизни, вбирающая в себя вечные основы человеческого существования и счастья, нарисованная старшим братом, потрясает Алешу своей, как ему тогда казалось, скудостью, ограниченностью и обыденностью: «…ну, что ж, сказал он, подшучивая, мы, конечно, уже вполне разорены, и ты куда-нибудь поступишь, когда подрастешь, будешь служить, женишься, заведешь детей, кое-что скопишь, купишь домик, — и я вдруг так живо почувствовал весь ужас и всю низость подобного будущего, что разрыдался…» (56). Уже в этом странном неприятии обычного человеческого счастья чувствуется будущая бездомность героя. Тогда, в юности, он жаждал самореализации в творчестве, в литературе. Но главная, глубинная причина неприкаянности героя заключается в том, что душа Арсеньева еще не обрела высшего смысла жизни и высшей истины и потому не могла быть счастлива, не могла обрести покой дома, семьи.
Экзистенциальные порывы Арсеньева приводят к тому, что он не может существовать в бытовом времени-пространстве и становится странником. Безбытность, оторванность главного героя от обыденной жизни пугает отца Лики и предрешает отказ Арсеньеву в женитьбе на его дочери. Спустя годы герой рассказывает о своем юношеском идеализме, беспечности и полной отрешенности от быта не без грустной улыбки: тогда, в юности, на вопрос отца Лики о будущей деятельности Арсеньев мысленно ответил ему высокопарно, словами Гете: «Я живу в веках, с чувством несносного непостоянства всего земного…» (276).
Если социально-историческое и бытовое время в «Жизни Арсеньева» имеют второстепенное значение, то природноциклическое , напротив, играет в романе важную роль. Связано это с бунинским принципом расширения художественного времени-пространства жизни человека и его вписанностью в макрокосм, в круг Бытия. Наряду с реалистическим изображением природно-циклического времени, в романе ярко проявляется его символический план, связанный по принципу психологического параллелизма с изображением внутреннего мира человека и его поисков. Изменения природно-циклического времени в «Жизни Арсеньева» приобретают характер «знаков души» человека (см. об этом подробно: [14]), что главный герой пытался доказать в споре с Ликой, не воспринимающей описаний природы в художественных произведениях: «Я негодовал: описаний! — пускался доказывать, что нет никакой отдельной от нас природы, что каждое малейшее движение воздуха есть движение нашей собственной жизни» (289). Так, например, сумрачные осенние и холодные зимние пейзажи в художественном мире романа Бунина помогают передать тоску и одиночество Алеши в первый год гимназической жизни, когда он был оторван от родной семьи, или негативную оценку «холода души», духовной смуты мятущегося Арсеньева в моменты потери истинного Пути.
Особой символической наполненностью во всем разнообразии проявлений природно-циклического времени в «Жизни Арсеньева» отличаются картины весенней природы. Весна в системе художественного времени романа не просто пора пробуждения природы, наступления тепла после зимних холодов. Как правило, описания важнейших событий жизни Арсеньева: кризисных событий, испытаний и потрясений, болезней, ошибок, падений и отступлений от Пути истинного — Бунин завершает весенними картинами, символизирующими веру в возрождение души человека. Болезненное отчуждение Арсеньева от всех и вся и его погружение в неистовое молитвенное состояние после смерти младшей сестры завершается весенним выздоровлением, возвращением-приобщением к огромному миру, к пробуждающейся весенней природе: «А к весне стало понемногу отходить — как то само собой. Пошли солнечные дни, стало пригревать двойные стекла, по которым поползли ожившие мухи, — трудно было не развлекаться ими среди “земных метаний” и коленопреклонений, уже не дававших прежних, полных и искренних молитвенных восторгов! Настал апрель, и в один особенно солнечный день стали вынимать, с треском выдирать сверкающие на солнце зимние рамы <…>, а затем распахнули летние стекла на волю, на свободу, навстречу новой, молодой жизни…» (61–62).
Таким образом, художественная хронология природноциклического времени, а именно движение от тоски и одиночества осени и зимы к весеннему пробуждению и воскресению, предстает в « Жизни Арсеньева» символически наполненной.
Биографическое время — несомненно, самый узнаваемый уровень повествования, хорошо описанный исследователями романа. Действительно, Бунин начинает повествование и строит его как автобиографическое, выделяя этапы взросления человека: время младенчества, детства, отрочества, юности, зрелости рассказчика. Однако в качестве подзаголовка к «Жизни Арсеньева» выносит название лишь одной эпохи — «Юность». Эта неожиданная, подчеркнутая автором временная деталь — свидетельство разрушения последовательного временного ряда, характерного для автобиографического повествования. Таким подзаголовком Бунин делит жизненное время-пространство Арсеньева на две части: первая оканчивается юностью, вторая, оставшаяся за рамками повествования и воссозданная лишь фрагментарно, вбирает в себя все последующие годы жизни — и ставит такое деление выше биографически-возрастных эпох: младенчества, детства, отрочества и т. п.
Специфика проявления биографического времени в «Жизни Арсеньева» и одновременно разрушение его принципов заявлены Буниным уже в самом начале текста — в первой главе I книги, которая является своеобразным вступлением ко всему роману и выполняет моделирующую функцию. В самом начале рассказа Арсеньева возникают пространственно-временные планы первого и второго уровней: биографического и конкретно-исторического: «Я родился полвека тому назад, в средней России, в деревне, в отцовской усадьбе» (7). Такое начало повествования, как и тема, заявленная в заглавии романа, позволили многим критикам и литературоведам определять роман как автобиографический, что категорически не принималось автором произведения. Когда в парижской газете «Дни» появилась заметка, посвященная роману «Жизнь Арсеньева» 3 , Бунин выступил категорически против прочтения своей книги как автобиографического произведения:
Недавно критик «Дней», в своей заметке о последней книге «Современных записок», где напечатана вторая часть (а вовсе не «отрывок») «Жизни Арсеньева», назвал «Жизнь Арсеньева» произведением «автобиографическим». Позвольте решительно протестовать против этого, как в целях охранения добрых литературных нравов, так и в целях самоохраны. Это может подать нехороший пример и некоторым другим критикам, а я вовсе не хочу, чтобы мое произведение (которое, дурно ли оно или хорошо, претендует быть, по своему замыслу и тону, произведением все-таки художественным) не только искажалось, то есть называлось неподобающим ему именем автобиографии, но и связывалось с моей жизнью, то есть обсуждалось не как «Жизнь Арсеньева», а как жизнь Бунина. Может быть, в «Жизни Арсеньева» и впрямь есть много автобиографического. Но говорить об этом никак не есть дело критики художественной (курсив и. а. б унина . — Т. К. ) 4 .
Это довольно резко высказанное категорическое несогласие с мнением критика свидетельствует о том, что для Бунина понимание «Жизни Арсеньева» как автобиографии является искажением замысла и концепции произведения.
Вслед за первой, биографической, временной моделью: «Я родился полвека тому назад…» — следует другая, которая будет существенным образом влиять на ход повествования и определять ведущие авторские идеи: «У нас нет чувства своего начала и конца. И очень жаль, что мне сказали, когда именно я родился» (7). Это хронотоп вечности как бесконечного бытия, форма качественно иного модуса бытия человека — его бессмертной души, пространство и время вечных, неисчезающих начал в мире и в человеке. Этой второй временной моделью «отрицается самый принцип биографического времени как меры жизненного процесса», «условными оказываются границы индивидуального бытия: рождение и смерть не означают начала и конца существования» [23, 63].
Размышляя над первым своим крупным художественным замыслом — книгой о своей жизни, Арсеньев мучается трудностью воплощения именно этой сложной взаимосвязи временности и вечности, «конечности» и «бесконечности», проявляющихся в бытии одного человека: «“Я родился там-то и тогда-то…” Но, Боже, как это сухо, ничтожно — и не верно! Я ведь чувствую совсем не то! Это стыдно, неловко сказать, но это так: я родился во вселенной, в бесконечности времени и пространства… » (курсив мой. — Т. К .) (319).
Такая рядоположенность двух временных структур создает отчетливую оппозицию, характерную для всего романа: «время» / «вечность», «время человеческой жизни как величина конечная, время земного существования человека» / «вечность как сфера существования Бога и бессмертной души человека». Эта важнейшая для понимания романа особенность его пространственно-временной организации свидетельствует о том, что рассказ Арсеньева — повествование не только о земных делах человека, но и о его бессмертной душе. Об этом свидетельствует трансформация мотива связи с родом, «генетической» коннотации мотива «чистоты крови» в религиозный мотив «чистоты души человека», его приближения, пути к Богу — «единому отцу всего сущего»: «Исповедовали наши древнейшие пращуры учение “о чистом, непрерывном пути Отца всякой жизни”, переходящего от смертных родителей к смертным чадам их — жизнью бессмертной, “непрерывной”, веру в то, что это волей Агни заповедано блюсти чистоту, непрерывность крови, породы дабы не был “осквернен”, то есть прерван этот “путь”, и что с каждым рождением должна все более очищаться кровь рождающихся и возростать их родство, близость с ним, единым Отцом всего сущего» (курсив мой. — Т. К.) (8). Таким образом, анализ вступления к роману позволяет сделать вывод о том, что цель повествования Арсеньева, его обращения к прошлому — это поиск вечных истоков, «начал» человека, рассказ о них и о пути души к Богу.
В двух выявленных пространственно-временных моделях: «время человеческой жизни» и «вечность» — содержатся главные координаты для понимания специфики художественного времени-пространства романа и в целом бунинской концепции человека: факт рождения человека, время его жизни проецируются на вечность, жизненный путь человека, его итоги оцениваются «sub specie aeternitatis» — «с точки зрения вечности».
Взгляд на жизнь человека с точки зрения вечности и « близости с ним, единым Отцом всего сущего » помогает писателю увидеть в ней самое важное и связывает бунинскую концепцию времени с христианской традицией, в соответствии с которой «время является одной из форм тварного бытия, тогда как вечность принадлежит собственно Богу» [15, 232].
Важнейшей составляющей структуры вечности в романе Бунина является христианское время и христианские представления о вечности — вечности Бога и бессмертной души человека . Вспоминая и пытаясь выразить свои первые детские представления о Боге, Арсеньев писал о Нем как о бессмертном, вечном начале в мире:
Когда и как приобрел я веру в Бога, понятие о Нем, ощущение Его? Думаю, что вместе с понятием о смерти. Смерть, увы, была как-то соединена с Ним (и с лампадкой, с черными иконами в серебряных и вызолоченных ризах в спальне матери). Соединено с Ним было и бессмертие. Бог — в небе, в непостижимой высоте и силе, в том непонятном синем, что вверху, над нами, безгранично далеко от земли: это вошло в меня с самых первых дней моих, равно как и то, что, не взирая на смерть, у каждого из нас есть где-то в груди душа и что душа бессмертна (34–35).
Это размышление героя свидетельствует о том, что основой его миропонимания является христианское безусловное признание существующего в вечности Бога и бессмертной души человека.
По Бунину, средоточием сущности жизни человека является его душа — неумирающая частица, связанная с Богом: «…доказательство моего безсмертія: во мнѣ есть, помимо всего моего, еще нѣкое нѣчто, очевидно, основное, неразложимое, — истинно частица Бога» 5 . Ограниченному во времени и пространстве существованию физического тела человека противопоставляется вечность — обитель Бога и бессмертной души. Эта идея является одной из основополагающих для понимания пространственно-временных представлений писателя и его концепции человека.
Душа человека, в представлении Бунина, является хранительницей самого важного жизненного опыта-знания человека, который иногда проявляется в феномене прапамяти [13].
О прапамяти Бунин писал на протяжении всего творчества, начиная с ранней лирики, путевых поэм «Тень птицы» до «Освобождения Толстого» и «Жизни Арсеньева». Прапа-мять — это способность человека «вспоминать» опыт своих прежних жизней, прежних существований; это то непостижимое в человеке, что не умирает, тот опыт души, который не подвергается изменению не только в течение земного бытия, но и в течение тысячелетий; это те «отпечатки», которые передаются человеку его предками и связывают его с Единым, Всеобщим, где нет времени и пространства. Прапа-мять, таким образом, есть некий эквивалент Вечности, бесконечности и Всеединства, разрушающий узкие временные рамки земного существования человека. По Бунину, знания о самом главном и существенном приобретаются нами не только в течение нашей короткой земной жизни, но и во время прохождения длинной цепи предшествовавших существований, когда человек накапливает огромный духовный опыт.
Прапамять проявляется у Бунина и его героев мгновенными вспышками «узнаваний», озарениями, ощущением, что нечто (знание, человек, место, переживание и т. п.) уже давно знакомо, пережито когда-то. Арсеньев неоднократно рассказывал о моментах таких «вспоминаний», «узнаваний», о проявлении феномена прапамяти в своей жизни, о своих прежних существованиях, об ощущении того, что он уже жил когда-то и будет жить вечно: «У нас нет чувства своего начала и конца» (7). «Почему с детства тянет человека даль, ширь, глубина, высота, неизвестное, опасное, то, где можно размахнуться жизнью, даже потерять ее за что-нибудь или за кого-нибудь? Разве это было бы возможно, будь нашей долей только то, что есть, “что Бог дал”, — только земля, только одна эта жизнь? Бог, очевидно, дал нам гораздо больше» (26–27). Прапамять, или память души, таким образом, предстает в романе Бунина, по меткому выражению Ю. Мальцева, «духовным инстинктом» [18, 11], с помощью которого осуществляется связь с бесконечностью, вечностью, Всеединством. Слушая в детстве рассказы домашнего учителя о рыцарских временах, маленький Алеша необыкновенно остро ощущал, что когда-то принадлежал рыцарскому миру: видел средневековые замки, рыцарские турниры, чувствовал на себе рыцарские доспехи. Читая описания жизни древних цивилизаций, Арсеньев не только отчетливо представлял экзотические картины жизни тех далеких веков, «но и всем своим существом чувствовал» их, «вспоминал»: «И, Боже, сколько сухого зноя, сколько солнца не только видел, но и всем своим существом чувствовал я, глядя на эту синь и эту охру, замирая от какой-то истинно эдемской радости! В тамбовском поле, под тамбовским небом, с такой необыкновенной силой вспомнил я все, что я видел, чем жил когда-то, в своих прежних, незапамятных существованьях, что впоследствии, в Египте, в Нубии, в тропиках мне оставалось только говорить себе: да, да, все это именно так, как я впервые “вспомнил” тридцать лет тому назад!» (49). Таким образом, мотивы прапамяти и прежних существований позволяют выявить буддийское время как одну из составляющих структуры вечности в романе Бунина. Однако необходимо констатировать, что буддийское время — тонкий временной слой, появляющийся в романе мимолетно, лишь в главах о детских и отроческих впечатлениях и открытиях Арсеньева, связанных с феноменом прапамяти, и не получающий дальнейшего развития в собственно религиозном буддийском плане, но, несомненно, важный для автора как подтверждающий идею бессмертия души человека.
В размышлениях Арсеньева над книгой о своей жизни проявляются и элементы космогонического времени , отражающего естественнонаучное объяснение происхождения небесных тел, Вселенной как единого целого. Продолжим признание героя, которое мы начали цитировать ранее:
…я родился во вселенной, в бесконечности времени и пространства, где будто бы когда-то образовалась какая-то солнечная система, потом что-то, называемое солнцем, потом земля… <…>. Земля была сперва газообразной, светящейся массой… Потом, через миллионы лет, этот газ стал жидкостью, потом жидкость отвердела, и с тех пор прошло еще будто-бы два миллиона лет, появились на земле одноклеточные: водоросли, инфузории… А там — беспозвоночные: черви, моллюски… А там амфибии… А за амфибиями — гигантские пресмыкающиеся… А там какой-то пещерный человек и открытие им огня… Дальше какая-то Халдея, Ассирия, какой-то Египет, будто бы все только воздвигавший пирамиды да бальзамировавший мумии… Какой-то Артаксеркс, приказавший бичевать Геллеспонт… Перикл и Аспазия, битва при Фермопилах, Марафонская битва…» (319).
Однако это материалистическое объяснение происхождения человека подается героем как что-то чуждое ему, вторичное и неважное. И потому, завершая эту картину вселенского масштаба, даже нарушая ход реального исторического времени, Арсеньев выводит на первый план христианское время , делая его, таким образом, главным, определяющим человеческое развитие и человеческую историю временем: «…задолго до всего этого были еще те легендарные дни, когда Авраам встал со стадами своими и пошел в землю обетованную… “Верою Авраам повиновался призванию итти в страну, обещанную ему в наследие, и пошел, не зная, куда он идет…”» (319–320).
Главенство христианского хронотопа утверждается уже в самом начале романа, в первой главе I книги, играющей роль своеобразного вступления, содержащего одновременно и причину, мотивировку, и цель рассказа Арсеньева. Особое значение имеет последний абзац, поскольку это слова, сказанные человеком, подводящим жизненные итоги, и поэтому они особенно значимы: «В стране, заменившей мне родину, много есть городов, подобных тому, что дал мне приют, некогда славных, а теперь заглохших, бедных, в повседневности живущих мелкой жизнью. Все же над этой жизнью всегда — и не даром — царит какая-нибудь серая башня времен крестоносцев, громада собора с бесценным порталом, века охраняемым стражей святых изваяний, и петух на кресте, в небесах, высокий Господний глашатай, зовущий к небесному Граду» (8–9).
В этой предельно семиотически насыщенной картине христианский хронотоп обретает пространственную символическую форму храма-собора. Чрезвычайно важны пространственно-временные характеристики картины мира, отражающие ценностные представления автора: « над » повседневной жизнью « всегда и недаром » « царит <…> громада собора » — дом Божий, « петух на кресте, в небесах, высокий Господний глашатай , зовущий к небесному Граду » (курсив мой. — Т. К .).
В своей обращенности к вечным, «последним» вопросам бытия Бунин продолжает и развивает традиции «реализма в высшем смысле» как одного из достижений великой русской классической литературы, об устремлениях которой замечательно написал В. М. Маркович: «…осваивая фактическую реальность общественной и частной жизни людей, постигая в полной мере ее социальную и психологическую детерминированность, классический русский реализм едва ли не с такой же силой устремляется за пределы этой реальности к “последним” сущностям общества, истории, человека, вселенной. <…> Рядом с эмпирическим планом появляется план мистериальный: общественная жизнь, история, метания человеческой души получают тогда трансцендентный смысл, начинают соотноситься с такими категориями, как вечность, высшая справедливость, провиденциальная миссия России, конец света, Страшный суд, царство Божие на земле» [19, 27–28].
Проведенное исследование типов художественного времени, их соотношения и роли в «Жизни Арсеньева» опровергает понимание романа только как автобиографического произведения и позволяет сделать вывод о том, что жизнь главного героя показана Буниным не в одном, а одновременно в разных пространственно-временных планах: социально-историческом, семейно-бытовом, природно-циклическом, биографическом хронотопах — и одновременно вписана во временную структуру вечности как бесконечного бытия, играющую в романе значительную роль и являющую собой христианскую вечность Бога и бессмертной души человека.
TYPES OF ARTISTIC TIME
AND THEIR ROLE IN IVAN BUNIN’S
NOVEL “THE LIFE OF ARSENIEV“
Список литературы Типы художественного времени и их роль в романе И. А. Бунина "Жизнь Арсеньева"
- Аверин Б. В. Из творческой истории романа И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева»//Бунинский сборник: материалы науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рожд. И. А. Бунина. -Орел, 1974. -С. 67-88.
- Антонов С. И. Бунин. «Жизнь Арсеньева»//Антонов С. От первого лица. -М., 1973. -167 с.
- Афанасьев В. Н. Бунин. Очерк творчества. -М.: Просвещение, 1966. -384 с.
- Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике//Бахтин М. М. Литературно-критические статьи. -М.: Худож. лит., 1986. -С. 121-291.
- Волков А. А. Проза Ивана Бунина. -М.: Московский рабочий, 1969. -448 с.
- Галышева М. П. Категория времени в художественном мире Достоевского: автореф. дис. … канд. филол. наук. -М., 2008. -24 с.
- Долгополов Л. Литературное движение века и Иван Бунин//Долгополов Л. На рубеже веков. -Л.: Советский писатель, 1974. -368 с.
- Есаулов И. А. Пасхальность русской словесности. -М.: Кругь, 2004. -560 с.
- Есаулов И. А. Пространственная организация литературного произведения и православная традиция («Студент» и «На святках» А. П. Чехова)//Категория соборности в русской литературе. -Петрозаводск: Изд-во Петрозавод. ун-та, 1995. -С. 145-158.
- Захаров В. Н. «Вечное Евангелие» в художественных хронотопах русской словесности//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск; СПб.: Алетейя, 2011. -Вып. 9: Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Вып. 6. -С. 24-37.
- Захаров В. Н. Поэтика хронотопа в «Зимних заметках о летних впечатлениях» Достоевского//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2013. -Вып. 11: Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Вып. 8. -С. 180-202.
- Ковалева Т. Н. Библейский хронотоп в «путевых поэмах» И. А. Бунина «Тень Птицы»//Проблемы исторической поэтики. -Вып. 13: Актуальные аспекты. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2015. -С. 507-527.
- Ковалева Т. Н. Феномен прапамяти в романе И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева»//Метафизика И. А. Бунина: сб. науч. тр., посвященный творчеству И. А. Бунина. -Воронеж: НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2011. -Вып. 2. -С. 59-66.
- Ковалева Т. Н. Художественное время-пространство романа И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева»: дис. … канд. филол. наук. -Ставрополь, 2004. -188 с.
- Лосский В. Н. Очерк мистического богословия в восточной церкви. Догматическое богословие. -М.: Центр «СЭИ», 1991. -289 с.
- Лотман Ю. М. Проблема художественного пространства в прозе Гоголя//Лотман Ю. М. Избранные статьи: в 3 т. -Таллинн, 1993. -Т. 1. -С. 413-447.
- Лотман Ю. М. О сюжетном пространстве русского романа XIX столетия//Уч. зап. Тартуского гос. университета. -Тарту, 1987. -Вып. 746. -С. 102-114.
- Мальцев Ю. Иван Бунин. 1870-1953. -Франкфурт-на-Майне; М.: Посев, 1994. -433 с.
- Маркович В. М. Вопрос о литературных направлениях и построение истории русской литературы XIX века//Известия РАН. Отделение литературы и языка -1993. -№ 3. -С. 27-28.
- Михайлов О. Н. И. А. Бунин. Жизнь и творчество: лит.-крит. очерк. -Тула: Приокское книжное изд-во, 1987. -319 с.
- Пономарев Е. Р. «Жизнь Арсеньева» как «история моего современника» (И. А. Бунин и В. Г. Короленко)//Метафизика И. А. Бунина: сб. науч. тр., посвященный творчеству И. А. Бунина. -Воронеж: НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2011. -Вып. 2. -С. 16-32.
- Пращерук Н. В. Художественный мир прозы И. А. Бунина: язык пространства. -Екатеринбург: МУМЦ «Развивающее обучение», НОУ «Фонд Созидание», 1999. -253 с.
- Штерн М. С. Генезис и структура жанровых форм в поздней прозе И. А. Бунина//Центральная Россия и литература русского Зарубежья (1917-1939). Исследования и публикации. Материалы международной научной конференции, посвященной 70-летию присуждения И. А. Бунину Нобелевской премии. -Орел: Вешние воды, 2003. -284 с.