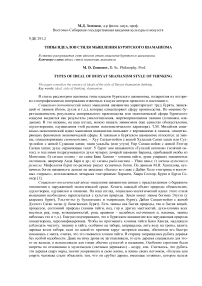Типы идеалов стиля мышления бурятского шаманизма
Автор: Зомонов М.Д.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Статья в выпуске: 3 (38), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрывается суть идеалов стиля мышления бурятского шаманизма.
Идеал, стиль мышления, шаманизм
Короткий адрес: https://sciup.org/142142535
IDR: 142142535 | УДК: 291.2
Текст научной статьи Типы идеалов стиля мышления бурятского шаманизма
В статье рассмотрим основные типы идеалов бурятского шаманизма, подкрепляя их историко-этнографическими материалами известных в науке авторов прошлого и настоящего.
Социально-экономический идеал мышления шаманизма характеризует труд бурята, зависящий от эжинов (богов, духов и т.д.), которые олицетворяют сферу производства. По мнению бурят-шаманистов, результаты материального производства или экономической сферы бурятского социума выдаются как результаты умилостивления, жертвоприношения эжинам (хозяинам, владыкам). И это явление, на наш взгляд, можно назвать эжинизмом (как единство обожествления, одухотворения, одушевления этой религии политеистического характера). Т.М. Михайлов социально-экономический идеал мышления шаманизма связывает с верованиями в эжинов, олицетворяющих феноменов экономической сферы. К таковым в бурятском шаманизме относятся: а) эжи-ны, олицетворяющие скотоводство, - Хуу Сагаан-нойон с женой Худалша Саган хатан или Сух-эр-нойон с женой Судакши хатан; эжин усадьбы (или утуга) Уир Сагаан-нойон с женой Етогор Сагаан хатан; духи, охраняющие телят. У бурят они называются «Тугалай онгоном» (телячий он-гон), и под ними подразумеваются духи четырех дочерей шаманки Баранха, прибывшей якобы из Монголии; б) эжины охоты - во главе Баян Хангая - хозяина тайги, души умерших знаменитых охотников, например Анда Бара и др.; в) эжины рыболовства - Уhан ханы; г) эжины кузнечного ремесла . Мифология бурят по-разному рисует кузнечных богов. По данным М.Н. Хангалова, кузнечных богов шаманисты делили на западных «белых» во главе с Дабан Холо тэнгэрина и восточных «черных», возглавляемых четырьмя тэнгэринами: Харанги, Хаара Соохор, Бурэн и Бурэн Со-охор [1].
Социально-экологический идеал мышления шаманизма связан с представлением о бережном отношении к окружающей экологической среде. Кстати, каждый объект природы обожествлен, одухотворен, одушевлен и оживлен. На наш взгляд, социально-экологический идеал этого стиля мышления необходимо переплетается с культом природы. Земля имеет эжина богиню Этугэн (у аларских бурят), Ульгэн-эхэ (у булагатских и эхиритских бурят), Дабан Сагаан-нойон с женой Дэлэнтэ Саган хатан (у балаганских бурят). Есть эжины как бытия природы, так и бытия вещей, процессов, состояний природы (эжины тайги, вод, гор и других местностей, духи-хозяева всех местных рек, озер, возвышенностей, рощ, аршанов - целебных источников и, наконец, эжины небесных тел и т.д.). Еще раз подчеркиваем, что в бурятском шаманизме вся окружающая природа олицетворена, персонифицирована. Чтобы не прогневить хозяина тайги Баян Хангая, надлежало соблюдать чистоту, тишину в тайге, особенно на таборе, запрещалось лить воду на тропы, валить деревья возле табора; если по какой-то причине вдруг загорелся шалаш, обитатели его быстро снимались с места, считая, что это гневается хозяин тайги. В старину запрещались рубить деревья без особой надобности. Даже на зиму дрова не заготавливали, то есть деревья специально для этого не валили, а использовали для топки обычно сухостой и валежник. Особенно строгими были запреты по отношению к мунхэмодон («вечным деревьям») - кедру, ели. Считалось, что рубить эти деревья сверх меры, значит укорачивать и свою жизнь, и жизнь своих потомков, «болезнь или смерть человека стали объяснять тем, что он срубил дерево, имеющее хозяина», которое нельзя было трогать. Если по пути к месту погребения умершего надо было переходить через речку или ручей, то в воду бросали монеты, золотые, серебряные. По одной версии, таким образом как бы «протягивали» мост для переправы, согласно другой - монеты бросали, чтобы «не осквернить воду» (Уhа бузарлуулхагуй). Вода считалась чистым существом (см.: Галданова Г.Р. Доламаистские верования бурят. - Новосибирск: Наука, 1987. - С. 28-33). Чистота природы, экологической среды была идеалом социально-экономического порядка. Подобных примеров бережного экологического отношения природе в бурятском шаманизме великое множество.
Социально-политический идеал мышления шаманизма содержит представление о приоритете власти эжинов (божеств, духов и т.д.) над человеком и его душой. Шаманисты были убеждены в том, что для них важна воля эжинов (божеств, духов), и страшен их гнев. По нашему мнению, эжины, покровительствующие военной и общественной деятельности, с полным основанием могут относиться к социально-политическому идеалу этого стиля мышления. К таковым относились Хан-Шаргай, Ажирай Бухэ, Харамцгай Мэргэн и другие, а также и покровители общественноадминистративной деятельности Эрлэн-хан с помощниками Харжа-Мина и Боржо-Мина, с тремя его писарями и начальником 77 темниц подземного царства, сайтинские божества (сайтанибурхад) и некоторые грозные духи из восточного лагеря. В честь этих эжинов устраивался обряд «арюунихэрэг» (очистительное молебствие) [2].
Нравственно-этический идеал мышления шаманизма заключается в признании западных, добрых тэнгэринов, доставляющих людям счастье, и восточных грозных тэнгэринов, опасных для человека (ниспосылающие людям всевозможные бедствия - эпидемии, засуху, голод, падеж скота и т.п.). Очевидно, западные божества олицетворяли добро, а восточные - зло.
Мировоззренческо-тотемический идеал мышления шаманизма состоит в представлении о зооморфных сверхъестественных существах, олицетворяющих предков того или иного бурятского рода и племени. Следует отметить тот факт, что тотемизм является существенным элементом современного бурятского шаманизма, и он ныне считается его существенным элементом. Действительно, в бурятском шаманизме широко встречается культ животных: диких и домашних. Об этом феномене шаманизма имеется много материала в этнографической литературе [3]. Чтобы быть кратким, остановимся только на культе орла, лебедя, быка и лошади, наиболее распространенном в современном бурятском шаманизме. В бурятских мифах и шаманских текстах орел, или коршун (элеэ) представляется царем птиц, первым шаманом на земле и наделен титулами «хан», «нойон», «владыка». У бурят-шаманистов существовала целая система табу и обрядов жертвоприношений, связанная с почитанием этой птицы. О древности культа орла и мифов о нем свидетельствуют петроглифы Байкала, Лены и Забайкалья, датируемые эпохами палеолита, неолита и бронзы и детально изученные А.П. Окладниковым [4].
В ряде бурятских генеалогических мифов красочно рассказывается о том, как небесная птица лебедь - Хон (Хун)-шубуун была поймана метким охотником Хоредоем, стала его женой и родила от него 11 сыновей, от которых произошли буряты хоринского племени. В шаманских призываниях хори-бурят Хон-шубуун именуется праматерью; в прошлом у них существовала целая система обрядов и табу, связанных с культом лебедя. Изображение лебедей обнаружены на скалах в бухтах Ая и Саган-Заба на Байкале. Они датируются эпохой бронзы и перекликаются с мифами о происхождении хори-бурят [5].
У бурят существует целый цикл мифов о тотемном предке-быке Буха-нойоне. В шаманском пантеоне этому образу отводится одно из выдающихся мест.
Буха-нойон-баабай, Нойон-отец Буха,
Буданхатан-иибии, Госпожа-мать Будан
Булгадхунигарбали, Прародители булагатов,
Буряадхуниудха. Предок бурят, говорится в шаманских призываниях в честь Буха-нойона [6]. По данным археологических памятников, в идеологии южно-сибирских племен ранней бронзы быку отводилась особая роль, что объясняется, прежде всего, тем, что бык считался тотемным прародителем ряда племен [7].
Культ коня особенно ярко проявляется у бурят, что, несомненно, связано с огромным значением коня в их хозяйстве, культуре и быте. Буряты-шаманисты приносили коней в жертву, посвящали их определенным божествам, у них были боги-покровители коней. Особое значение придавалось масти приносимых в жертву и посвященных коней. В прошлом конь погребался вместе с умершим человеком. Погребенный конь или конь, на котором везли умершего шамана или чело- века, убитого молнией, одинаково назывался хойлго. Буряты воспели коня в героическом эпосе «Гэсэр», в котором конь наряду с богатырем являлся одним из центральных персонажей. Культ коня - один из древних, возникший в период развития скотоводства. О наличии культа коня в Прибайкалье свидетельствуют археологические памятники (петроглифы, могильники с погребенными конями), а также бурятские этнографические и фольклорные материалы.
Мировоззренческо-анимистический идеал мышления шаманизма представлен в веровании в души и духов, где мир раздваивается на материальный и духовный, человек - на душу и тело. В бурятском шаманизме широко встречается анимизм. Об этом свидетельствуют материалы этнографического и исторического порядка; на эту тему написаны и защищены кандидатские и докторские диссертации. К анимизму относились духи-хозяева бытия вещей (местных бурятских рек, озер, рощ, гор, целебных источников и т.д.). Как известно, «доброта», «благосклонность» местных духов-эжинов зависели от отношения к ним верующих. Для них, как правило, ежегодно устраивались жертвоприношения с просьбой обеспечить счастье и успех. Местными духами-эжинами были также души умерших людей, главным образом шаманов и шаманок. В анимистических представлениях бурят особое место занимает низшая демонология в виде ада, анахай, муушубуун, боохол-дой и других, олицетворяющих в большинстве своем злую, нечистую силу. Т.М. Михайлов выявил следующие основные группы духов: 1) общебурятские; 2) территориальные; 3) родовые; 4) улусно-общинные; 5) семейно-индивидуальные. На наш взгляд, такая классификация духов бурятского шаманизма оправдана онтологически и гносеологически , хотя она носит условный характер.
Анимизм в бурятском шаманизме не обходит стороной бытие человека. Согласно анимистическим представлениям бурят-шаманов, у каждого человека имеется душа - Нунэhэн, сунэс, которая, по М.Н. Хангалову, «вылитый и подлинный двойник человека во многих отношениях, умственном, нравственном и физическом» [8]. В бурятском шаманизме встречается полианимизм: вера в три души человека, что связано с трехэтажностью или трехступенчатостью космоса в представлении бурят-шаманистов в прошлом. После смерти человека первая душа ловится духами Эрлэн-хана и уводится на суд; вторая становится боохолдоем (подчеркнуто нами. - М.З. ) и живет так, как жил ее хозяин, а третья снова родится человеком [9]. На вопрос, где локализуется душа человека, буряты-шаманисты отвечали, что она пребывает в голове и дыхательном горле - с печенью, легким и сердцем. Причина смерти человека объяснялась решениями либо Эрлэн-хана, либо каких-нибудь духов (ада, анахай и т.д.).
Мировоззренческо-политеистический идеал мышления шаманизма сопряжен с представлением о божествах, олицетворяющих: а) Землю в виде богини Этугэн, или Ульгэн; б) Небо в виде бога Хухэ Мунхэ тэнгэрина - Синего Вечного Неба (кстати, бытует мнение о том, что небо называлось отцом, а земля - матерью); в) Солнце - Налхан Юhуруун, г) Луну - Налхан ЮНуруун; д) Венеру - Солбон; е) Большую Медведицу - семь старцев - Долоон убгэд и т.д.
Т.М. Михайлов определил нижеследующие группы божеств исследуемого шаманизма: а) эжины земель и вод; б) эжины небесных тел; в) эжин подземного царства; г) эжины, покровительствующие хозяйству и ремеслу; д) эжины, покровительствующие военной и общественной деятельности; г) покровители учебы, искусства, игр и развлечений; ё) эжины домашнего быта и семейно-брачной жизни; ж) эжины болезней. Эта классификация божеств бурятского шаманизма связана с объектом обожествления. Он выявил следующие основные группы богов по их почитателям-субъектам: а) общебурятские боги; б) племенные и межплеменные божества; в) территориальные божества. На наш взгляд, сходство и различие между анимистическим и политеистическим идеалами мышления шаманизма довольно условны, но нельзя не видеть и не понимать их особенность. Иными словами, есть существенное различие между анимизмом и политеизмом бурятского шаманизма.
Художественно-эстетический идеал мышления шаманизма объявляет эстетичным все то, что выражает шаманскую концепцию мироощущения и миропонимания. Образы душ, духов и божеств считаются основным субъектом художественного творчества . Отсюда главными требованиями шаманско-художественного сюжета выступают шаманский символизм и шаманское традиционное моделирование.
Таким образом, если на фольклорно-мифологическом уровне (образном) ведущее место занимают принципы мышления шаманизма, то на социально-аксиологическом уровне определяющее значение приобретают шаманские идеалы. Исходя из этого будем рассматривать сущность указанных уровней, связывая их с принципами и идеалами мышления шаманизма.
Очевидно, различие между элементами и уровнями изучаемого стиля мышления носит функциональный характер и обусловлено тем, что в шаманской концепции стиль мышления в целом соотносится с картиной мира и мировоззрением бурятского шаманизма, а в шаманской ценностной ориентации эта концепция сравнивается с конкретными формами бытия и главным образом с бытием природы человека и социума . То, что на фольклорно-мифологическом (образном) уровне выступает методом, принципом, гносеологическим образом, на социальноаксиологическом (очеловеченном) уровне служит идеалом своеобразной оценки бытия в целом , выработанном в шаманских представлениях в качестве стереотипа - хэб, или традиций (заншал) мышления шаманизма.
Очевидно, отсюда во всех сферах общества принцип лидерства шамана и шаманки может рассматриваться как идеал шаманских инициативности и активности, общительности и коммуникабельности, информированности и авторитетности, чувственности и рассудительности перед людьми и сверхъестественными существами, а идеал мироотношения шаманизма между людьми и сверхъестественными существами-эжинами в шаманском стиле мышления выступает как отношения между людьми-просителями (зависимыми) и духом, богом-хозяином, господином, покровителем по формуле «человек (шаманист) + эжин (дух и бог)». Фольклорно-мифологический и социально-аксиологический уровни мышления шаманизма идентичны структуре содержания интеллектуально-рациональной сферы шаманского сознания, где можно обнаружить такие же уровни. «Оригиналом» сознания шаманизма выступают его образы, представления, понятия, идеи, формирующие шаманскую систему представлений и культовой практики, которая связана с духовной и предметно-практической деятельностью бурят-шаманистов. «Копией» сознания шаманизма выступают отраженные в нем такие основные формы бытия, как бытие вещей, процессов, бытие человека, индивидуальное бытие и бытие общества. Другими словами, в шаманском сознании объективная реальность выдается как субъективная реальность, т.е. оригинал становится копией, копия - оригиналом.
На наш взгляд, с «оригиналом» сознания шаманизма соотносится фольклорномифологический уровень мышления шаманизма, с «копией» - его социально-аксиологический уровень. Иными словами, именно из элементов (образов, представлений, понятий, идей) «оригинала» формируется определенная в шаманском мышлении концепция, а из элементов (из объективной реальности или из внешнего мира) «копии» - сверхъестественная ценностная ориентация. В русле мировоззрения шаманизма элементы «оригинала» и «копии» следует рассматривать под коррелятивным углом зрения, и вследствие этого они приобретают двоякое значение: идейное и ценностное. Идейное значение включается в концепцию шаманизма, а ценностное - в ценностную ориентацию мышления шаманизма.
В результате этого шаманский стиль мышления становится способом установления соответствия между «оригиналом» и «копией» сознания шаманизма. Во-первых, благодаря шаманской концепции стиля, шаманист как субъект формирует элементы «оригинала» своего сознания в определенную систему. Как известно, в бурятском шаманизме такая систематизация реализуется в русле конкретных шаманских и шаманских «корней» - удха, преемственности шаманской профессии от поколения к поколению (от отца к сыну, от отца к дочери, от матери - одигон, или удаган, к дочери или родственникам по отцовской и материнской линии и т.д.). В связи с этим различали несколько видов удха: по отцовской линии - халуунайудха; по материнской - хари удха; нэрьеэр удха - небесное происхождение (его приобретал потомок человека, убитого молнией, но этот вид гена не передавался по наследству); кузнечное происхождение - дарханудха (кузнецы считались избранниками неба, и некоторые из них становились потомственными шаманами-профессионалами); буудалудха - спущенное с неба происхождение (оно приобреталось человеком, который нашел упавшие с неба священные камни (метеориты), считавшиеся пуговицами с одежды Эсэгэ Малана тэнгэрина и его жены Эхэ Юурэн; этот вид происхождения не передавался по наследству [10].
В прошлом, когда существовал классический бурятский шаманизм, будущий шаман должен был пройти особую школу подготовки, побыть в роли ученика у старого опытного шамана. В период ученичества адепт, как известно, сопровождал своего учителя, помогал ему, присутствовал на его камланиях, запоминал священные призывания, осваивал шаманскую теологию - фольклор и практику отправления молебствий. Его учеба длилась два-три года. Акт посвящения в шаманский сан имел общественное значение и был большим событием в жизни улусно-родовой обшины. Он, как правило, сопровождался мероприятиями культурно-увеселительного характера, длившимися несколько дней, играми, хороводами ехор, общим весельем. Посвященный как профессионал получал определенное звание и право совершать религиозные обряды. Бурятские шаманы в течение своей жизни могли пройти несколько посвящений - шанар, каждый раз поднимаясь на новую ступень шаманской иерархии, повышая свой статус в обществе, пополняя свои аксессуары новыми атрибутами. Так, в период до присоединения Бурятии к России и позже существовало 9 степеней посвящения; последняя, девятая, давала право называться «зарин» - высший:
-
1) шанартайбее - посвященный шаман; 6) оргойтобее;
-
2) жодоотобее; 7) хэсэтэбее;
-
3) шэрээтэбее; 8) дуурэнбее;
-
4) нойтлоhон бее; 9) зааринбее.
-
5) hорьбитобее;
Кроме того, шаманы делились на непосвященных и посвященных. О посвященных шаманах упоминалось выше. Непосвященные имели разные названия в зависимости от удха (гена) и выполняемых ими функций:
-
1) хаялгашабее;
-
2) ябганбее;
-
3) хуурайбее;
-
4) заяанай (найгурай) бее;
-
5) тайлгашабее;
-
6) минаашабее (шаман с кнутом. Последний был символом его власти) [11].
Ныне бурятский шаманизм переживает неклассический этап своей эволюции. Шаманская школа исчезла в той мере, в какой встречалась даже в конце XIX - начале XX в. По мнению бурятских шаманологов, эта школа посвящения в шаманы сохранилась в рудиментарной форме, а именно: а) нет деления шаманов на «белых» и «черных», высших и низших, категория посвященных шаманов в полном смысле этого слова исчезла; б) сохранились женщины-шаманки (удаган, одигон); в) многие современные бурятские шаманы не могут, за редким исключением, приводить себя в экстаз, совершать какие-либо «чудеса», не пользуются, как прежде, плащом, бубном и другими шаманскими принадлежностями, не всегда знают сложный церемониал, соблюдаемый при молебствиях; г) специальный обряд посвящения в шаманы - угаалга - применяется очень редко; д) обряд «посвящения», или акт приобретения права шаманить, состоит в том, что желающий стать шаманом получает от кого-то пихтовую кору - жодо - и по этому поводу устраивает специ -альное брызгание [12]; е) у некоторых современных шаманов нет специфических атрибутов, он не знает экстаза. Функция его заключается в основном в совершении сэржэма, сопровождаемого текстами призываний, обращенных к духам - хозяевам местности и духам предков; е) ныне некоторые шаманы тяготеют к компромиссу с ламаизмом, иногда посещая дацаны во время больших хуралов (праздничных молений), и сдают в кассу дацана часть своих доходов; ж) современные шаманы гадают, используют четки, носят перстень с изображением ваджры - буддийского символа, оперируют ламаистскими понятиями [13]. Наконец, по нашему мнению, с уходом советской власти с исторической арены в российском обществе наблюдается : а) возрождение религий, в том числе бурятского шаманизма; б) консолидация всех бурятских шаманистов и шаманов; в) к авто- ритетным бурятским шаманам обращаются верующие разных национальностей и буряты – верующие почти всей Бурятии, Байкальского региона; г) очевидно, шаманская школа функционирует, опираясь на традиции и обычаи шаманской конфессии. Таким образом, единство элементов «оригинала» шаманизма обусловлено шаманскими принципами, традиционными методами образносимволической интерпретации, единым понятийным аппаратом – единой шаманской терминологией. Во-вторых, шаманская ценностная ориентация мышления, реализуемая на социальноаксиологическом уровне стиля, выражает взаимное соответствие элементов «копии» сознания шаманизма, объединенных общностью шаманских ценностей.
Бурятский шаманизм создает особые ценности, отличные от нерелигиозных сфер духовной жизни, своим сверхъестественным содержанием и аналогичной ему формой. В генезисе шаманские ценности переплетаются с нешаманскими реальными, а не мнимыми ценностями, как-то: с фольклорно-эстетическими, этическими, правовыми, мировоззренческими и другими. Следовательно, в шаманском стиле мышления все элементы «копии» приобретают сверхъестественное содержание, получив специфическое стилевое единообразие и упорядоченность.
В-третьих, взаимосвязь уровней и элементов мышления шаманизма определяет взаимосвязь «оригинала» и «копии» сознания шаманизма. Без шаманской концепции «копия» лишается устойчивости, стабильности, обоснованности «оригинала», то есть тех общих и абстрактных принципов, служащих регулятивными нормами в мнимой оценке бытия в целом. В этом плане характерно использование шаманистами в оценке социальной, экономической, политической и других сфер шаманских сюжетов, мифов, легенд, преданий, гимнов, клятв и образов эжинов, традиционно укоренившихся в их сознании шаманских трактовок «деятельности» эжинов (богов, духов, души и т.д.), борьбы добра и зла и т.п.
Шаманские принципы наиболее устойчивы по отношению к исторически изменчивым социальным оценкам. Однако шаманские принципы не могут существовать без их конкретизации в чувственных образах. Безусловно, шаманская идея должна быть обязательно расшифрована для рядовых шаманистов, свойственных их стилю мышления в ярких образах. А это означает, что в основе понимания данной идеи или принципа должна быть определенная оценка бытия, поэтому без такой оценки шаманский образ не значим для шаманистов. Шаманский образ всегда конкретен, даже индивидуален, возможны лишь его абстрактные интерпретации. Очевидно, он соотносится со знаковыми символами определенного, шаманского значения, цель которых возродить, воспроизвести в сознании шаманиста образ эжина (бога, духа, души), через него и представления, понятия, абстрактные идеи.
Таким образом, если шаманская концепция обусловливает абстрактность, устойчивость содержания «копии» сознания шаманизма, то шаманская ценностная ориентация связана с конкретизацией «оригинала». Распадение структуры мышления шаманизма должно привести к изменению сознания шаманизма, к изменению формы его содержания. Поэтому шаманский стиль логично считать существенным компонентом сознания шаманизма, обеспечивающим другим его компонентам интегративно-целостные свойства. По нашему мнению, в таком качестве шаманский стиль мышления выступает особым способом функционирования сознания шаманизма, детерминирующим содержание последнего.