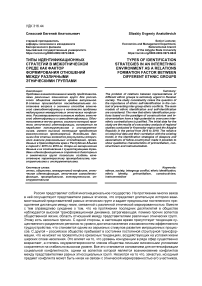Типы идентификационных стратегий в межэтнической среде как фактор формирования отношений между различными этническими группами
Автор: Слизский Евгений Анатольевич
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 12, 2020 года.
Бесплатный доступ
Проблема взаимоотношений между представителями различных этнических групп для российского общества является крайне актуальной. В статье производится последовательная постановка вопроса о значении способов этнической самоидентификации в контексте проблемы недопущения межгрупповых этнических конфликтов. Рассматриваются основные модели этнической идентификации и самоидентификации. Обосновывается точка зрения, согласно которой практики этнической идентификации, основанные на парадигме конструктивизма и инструментализма, имеют высокий потенциал преодоления межэтнических противоречий. Исходными данными для статьи являются результаты вторичного анализа региональных исследований, проведенных в Краснодарском крае и Республике Адыгея в период с 2015 по 2019 гг. Опора на эмпирические данные и их соотнесение с существующими трендами идентификационных стратегий диаспорных и земляческих групп позволили создать качественную характеристику примордиализма, конструктивизма и инструментализма.
Этнос, общество, межгрупповой конфликт, этническая идентификация, этническая самоидентификация, примордиализм, конструктивизм, инструментализм
Короткий адрес: https://sciup.org/149132923
IDR: 149132923 | УДК: 316.44 | DOI: 10.24158/tipor.2020.12.4
Текст научной статьи Типы идентификационных стратегий в межэтнической среде как фактор формирования отношений между различными этническими группами
Россия представляет собой многонациональное государство. На протяжении многих веков в ней сосуществуют представители разных этносов, что определяет длительную историю взаимоотношений представителей разных этнических групп и задает предпосылки постепенного преодоления дистанции между ними, связанной с различной этнической маркированностью. Вместе с тем справедливо суждение о том, что на протяжении последних десятилетий в обществе наблюдается высокая трансформационная динамика, затрагивающая, помимо прочих аспектов общественной жизни, область отношений между представителями различных этнических групп. Этому есть несколько причин. С одной стороны, в настоящее время присутствует тенденция существенного разделения регионов по уровню достатка населения и возможностям эффективного трудоустройства, что становится одним из серьезных стимулов развития миграционных процессов. С другой – российское общество пребывает в состоянии постоянной структурной трансформации, что не может не проявляться в кризисных тенденциях, воздействующих на условия жизни широких слоев населения. Это влияет на то, что уровень конкуренции в ряде сфер существенно возрастает, а степень неудовлетворенности членов общества личными жизненными условиями сохраняется на стабильно высоком уровне. Все это становится основанием для интенсификации социальной конфликтности, одним из аспектов которой является возникновение конфликтов между представителями разных этносоциальных групп. Несмотря на то что, зачастую, исходный предмет конфликта может быть никак не связан с этнической маркированностью его участников, присутствует риск его дальнейшего перехода на межгрупповой уровень. И здесь имеют место чрезвычайно серьезные социальные риски, поскольку возникновение межэтнического конфликта влечет за собой ряд кризисных последствий: от усложнения условий протекания общественных отношений вплоть до перехода конфликтной ситуации в острую фазу, когда взаимное неприятие толкает участников конфликтной ситуации на осуществление беспорядков, физическое насилие и т. д. Опасность межгруппового конфликта состоит, помимо прочего, еще и в том, что нередко страдают люди, изначально не участвовавшие в конфликтной ситуации и втянутые в нее по причине этнической маркированности.
Описанная выше ситуация межгруппового конфликта является крайне нежелательной для общества, и поэтому мониторинг состояния межэтнических отношений и недопущение развития в них конфликтного сценария - одна из важных задач политической власти. Для того чтобы понимать, каким образом осуществляются отношения между различными этническими группами, очень важно знать, каким образом в рамках этих групп реализуются стратегии социальной идентификации и самоидентификации. Иными словами, необходимо понимать, как представители этих групп воспринимают друг друга, каковы ключевые характеристики их собственного социального мировоззрения (что включает в себя, в том числе, вопрос о способе идентификации собственной этносоциальной группы, степени приоритетности ее интересов, способах отношений внутри группы, характере отношения к обществу в целом и т. д.).
Немаловажное значение в данном случае имеет такой аспект, как опыт взаимодействия представителей малых этнических групп с титульной нацией в Российской Федерации. По этой причине следует рассматривать не только момент этнических различий, но и различие между диаспорами, включающими в себя мигрантов из других стран, и землячествами, в рамках которых консолидируются представители малых этнических групп, проживающих на уровне других регионов России. Подобного рода подход обнаруживает свою перспективность как раз в силу того, что отношения, выстраиваемые с титульной нацией приезжими в случае миграции из других стран, формируются непосредственно в момент переселения, в то время как ситуация с землячествами несколько иная: переселяясь из одного региона РФ в другой, субъекты миграции уже обладают сформировавшейся системой представлений о русском этносе и его характеристиках, что в значительной степени определяет характеристики выстраиваемой системы отношений, поскольку уже имеет место достаточно развитое знание русской ментальности.
Следует отметить, что существует множество различных подходов к аналитике межэтнических отношений, которые, с одной стороны, имеют теоретическое значение, а с другой - определяют способ национального самоопределения и характер регулирования межэтнических отношений на политическом уровне. Этносы могут рассматриваться как закрытые, целостные социокультурные образования, которые встраиваются в систему общества как своеобразное «государство в государстве», либо же они рассматриваются с точки зрения поиска точек пересечения представителей различных этнических групп и, соответственно, с позиции поиска путей включения представителей малых этнических групп в общую ткань общественных отношений (и, что немаловажно - с точки зрения полагания возможности такого эффективного включения). Мы неслучайно подчеркнули здесь, что модели этнической идентификации имеют значение не только как теоретические конструкты в научном осмыслении межэтнических отношений. В исследовательской практике последних десятилетий обнаруживается тенденция к рассмотрению множественности моделей этнической идентификации и самоидентификации, определяющей типологическое многообразие способов выстраивания отношений между отдельными этническими группами. При этом модели выстраивания отношений в рамках конкретного этноса рассматриваются с точки зрения соответствия ключевым теоретическим моделям, ориентированным на раскрытие специфики этничности - примордиализма, конструктивизма и инструментализма [1].
Рассмотрим специфику обозначенных моделей, учитывая то, что они могут быть не только способом объяснения этнической проблематики в узких кругах исследователей, но также выступают в роли специфических парадигм этнического самоопределения.
Примордиализм предполагает наличие четко выраженных этнических характеристик, имеющих генетический характер и проявляющихся не только в физиологическом аспекте, но и в культурной определенности конкретного этноса [2]. Представители данного подхода приписывают определенные общие качества конкретным этническим группам, обобщая их и рассматривая в сравнении с другими этносами. При этом речь идет не столько о рассмотрении исторически сложившейся приверженности определенным культурным формам, но об устойчивых качествах, задающих характеристики менталитета конкретной народности. Следует отметить, что данный подход во многом близок индуктивному обобщению характеристик конкретных этносов, осуществляемому в рамках обыденной практики и, соответственно, ведущему к существенной стереотипизации качеств конкретных этносоциальных групп в общественном сознании. Так, например, признание педантичности немцев или эмоциональности итальянцев в качестве родового качества во многом созвучно примордиалистскому подходу (если речь идет не о первичности влияния культуры, но об исконно присущих представителю конкретного этноса качествах).
В качестве альтернативной примордиализму парадигмы рассмотрения этнической определенности выступают конструктивизм и инструментализм. Их особенностью является то, что этническая определенность здесь выступает не как природно-обусловленный феномен, но как результат процесса культурного самоопределения этнической группы, реализуемый благодаря усилиям представителей этнических элит, либо в рамках самостоятельного осмысления собственного аспекта социальной включенности представителями конкретного этноса [3]. Ключевым в понимании данных подходов является то, что социально-культурная определенность представителей конкретной этнической группы не является неизменной - она обладает пластичностью и зависит от конкретного набора политических, социальных и культурных факторов. Понимание этнокультурной определенности в качестве условного, конструируемого явления задает перспективы интеграции представителя конкретной этнической группы в иноэтническую среду, поскольку отсутствует жесткое указание на неизменность набора качеств и культурных установок. В этом плане инструментализм мы можем рассматривать как частный случай конструктивизма, в рамках которого этническая идентификация имеет прагматическую обусловленность определенными целями, стоящими перед представителями конкретного этноса в рамках социального процесса, в то время как конструктивизм рассматривается с точки зрения преобладающего значения этнических элит в процессе формирования конкретного «образа нации». Различие здесь пролегает в источнике формирования этнокультурных изменений в ходе исторического процесса: в первом случае происходит движение «сверху вниз» через действия духовных лидеров, выдающихся деятелей и т. д., в то время как второй вариант уже предполагает момент адаптации этнического сообщества к определенным социальным изменениям (и связанным с ними запросам) на всех уровнях.
Рассматривая практику формирования идентификационных стратегий малых этнических групп в принимающем регионе, можно выделить три ключевые модели вхождения в социальную систему:
-
• примордиалистская;
-
• конструктивистская;
-
• инструменталистская.
Рассмотрим специфические особенности данных форм включенности малых этнических групп.
Для примордиалистской модели характерно стремление к максимальному сохранению этнической идентичности в рамках включения в жизнь региона, что определяет довлеющее значение собственной этнической общности и ее интересов. В данном случае наблюдается четко выраженная ориентация на взаимопомощь внутри этнической группы, а также строгое разделение на «своих» и «чужих», выраженное в моменте низкого уровня вхождения представителей иных этносов в семейные группы, либо настороженного отношения к подобного рода союзам, высокой приверженности традициям, стремлении к сохранению языкового аспекта, традиций, религиозной принадлежности, характерных для того этноса, к которому принадлежат рассматриваемые члены общества. В социоструктурном плане это выражается в таких аспектах, как предрасположенность к компактному проживанию, выстраивание внутри этнического объединения специфического набора внутренних регуляторов, характерных для конкретного этноса, зачастую - признание интересов этнической группы в качестве приоритетных по отношению, например, к общесоциальным интересам. Подобного рода закрытость формируемых по примордиалистскому принципу общественных объединений в существенной степени затрудняет их интеграцию в жизнь принимаемого региона и, в частности, приводит к существенному усложнению выстраивания отношений с представителями титульного этноса и иных этнических групп. Примечательно, что примордиалистские установки способствуют интенсификации рефлексии над этническими различиями, что выражается как в наличии многочисленных обобщающих суждений о представителях других этносов (вплоть до формирования специфических этнических стереотипов), так и в наличии социокультурных механизмов закрепления определенных значимых характеристик собственного этноса. При этом следует отметить, что актуализация группового аспекта этнической определенности формирует специфический тип внешней коммуникации, основанный на соотнесении частной практики взаимодействия с мировоззренческими предпосылками восприятия других этнических групп. По сути, примордиализм как форма этнической идентификации способствует переводу частного взаимодействия в русло межгрупповой коммуникации, что при положительном характере взаимодействия может иметь конструктивное значение, однако, по большей части, таит в себе существенные социальные риски. В частности, наличие развитого деления на «своих» и «чужих» исследователи причисляют к одной из ключевых предпосылок формирования конфликтности в межэтнической среде, что выражается в наделении своего этноса позитивными характеристиками одновременно с приписыванием другому этносу характеристик негативных (от демонизации до формирования снисходительного, презрительного отношения) [4]. Как отмечает В.Э. Манапова, сами по себе механизмы деления на «своих» и «чужих» еще не предполагают с необходимостью негативного восприятия других этнических групп [5] – и тому примером могут служить, например, тенденции «англофильства» или «германофильства» в дореволюционной России. Однако справедливо суждение о том, что присутствует различие между идентификационным делением различных этносов, осознанием их различий по отношению с собственным и глубокой актуализацией этого различия. Последнее может выражаться в таком опасном явлении, как этнический фанатизм [6], фактически ставящий во главу угла в общественных отношениях момент этнической маркированности его представителей.
Следует отметить, что если внутренним аспектом примордиализма становится формирование сплоченной закрытой общности и актуализация этнических различий, то на внешнем уровне это может проявляться в зеркальном этноориентированном отношении. Иными словами, предпосылки социального определения конкретного человека через его этнос в данном случае значительно более сильны. Как следствие, мы наблюдаем ситуацию повышенной предрасположенности к реализации конфликтных сценариев и переходу взаимоотношений на уровень межгруппового конфликта.
Конструктивистский подход обнаруживает существенно более интенсивные предпосылки к интеграции представителей малых этнических групп в жизнь региона, поскольку присутствует ряд условий активного взаимодействия в межэтнической среде, в рамках которого реализуются принципы пластичности и адаптивности. Отдельно следует отметить, что конструктивистский подход не предполагает социальной замкнутости представителей конкретных этносов и, в том числе, задает возможность их включения во все сферы общественной жизни, включая области культуры и спорта. Последнее позволяет раскрывать свою культуру для представителей других этносов и, в частности, способствует налаживанию межэтнического диалога.
Для инструменталистского подхода более характерным является формирование специфических социальных сфер, занимаемых представителями конкретной этнической группы. Примером тому может служить активное развитие гостиничного бизнеса и различного рода СТО в среде армянского этноса, встраивающегося в жизнь региона посредством занятия определенных профессиональных ниш. Так или иначе, будучи разновидностью конструктивистского подхода к самоидентификации, инструментализм задает расширенные перспективы взаимодействия между представителями разных этносов и не содержит в себе явных предпосылок для развития конфликтности.
Таким образом, мы приходим к пониманию того, что наибольшие риски в межэтнических отношениях несут в себе идентификационные стратегии примордиалистского типа, полагающие наличие устойчивых этнических черт и актуализирующие этнический вопрос в рамках социального взаимодействия. В данном случае немаловажное значение имеет то, что указанный подход может применяться не только представителями малых этнических групп, но и представителями титульной нации. На наш взгляд, для выстраивания конструктивного межэтнического диалога важным условием является создание предпосылок конструктивистского рассмотрения социальных отношений в межэтнической среде, что может способствовать недопущению выхода ситуации на уровень межгруппового конфликта. В данном случае большое значение имеют характер воспитательной деятельности в рамках образовательного процесса, способ регуляции межэтнических отношений на политическом уровне (в частности, создание условий для реализации культурных потребностей малых этносов), а также характер освещения этнической проблематики на уровне средств массовой информации.
Ссылки:
Редактор, переводчик: Невзорова Наталья Викторовна
Список литературы Типы идентификационных стратегий в межэтнической среде как фактор формирования отношений между различными этническими группами
- Дмитриев А.В., Воронов В.В., Михайлова Е.А. Прогнозное моделирование межэтнических отношений в российских регионах на основе анализа идентификационных стратегий диаспорных и земляческих групп // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2017. № 6 (142). С. 97-124. DOI: 10.14515/monitoring.2017.6.06
- Сошников А.А. Западная философская мысль о феноменах нации и национализма: анализ основных теоретических подходов // Теория и практика общественного развития. 2013. № 11. С. 27-29
- Сафонов А.Л. Нация и этнос как различные феномены: эпистемологический анализ теорий социогенеза // Вестник БГУ. 2014. № 6. С. 30-34
- Гусейнов А.Г., Эльдаров Э.М. Некоторые гуманитарные подходы к изучению межнациональных конфликтов // Региональные проблемы преобразования экономики. 2014. № 6 (44). С. 133-140
- Манапова В.Э. К проблеме этнического самосознания и форм его выражения в современном мире // Общество: философия, история, культура. 2018. № 8 (52). С. 182-185. DOI: 10.24158/fik.2018.8.35
- Омарова З.У., Султанахмедова З.Г. Этнический фанатизм как деструктивная форма сознания и практики // Известия ДГПУ. Общественные и гуманитарные науки. 2010. № 3. С. 42-45