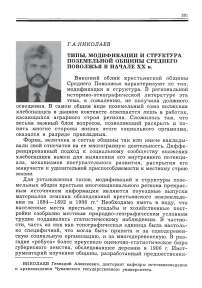Типы, модификации и структура поземельной общины Среднего Поволжья в начале XX в.
Автор: Николаев Геннадий Алексеевич
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Региональная история и историография
Статья в выпуске: 3 (44), 2003 года.
Бесплатный доступ
Анализируется развитие земельной общности народов Среднего Поволжья в начале ХХ века. Представлены типы, модификации и состав.
Короткий адрес: https://sciup.org/147222079
IDR: 147222079
Текст научной статьи Типы, модификации и структура поземельной общины Среднего Поволжья в начале XX в.
Внешний облик крестьянской общины Среднего Поволжья характеризуют ее тип, модификация и структура. В региональной историко-этнографической литературе эта тема, к сожалению, не получила должного освещения. В самом общем виде поземельный союз волжских хлебопашцев в данном контексте освещается лишь в работах, касающихся аграрного строя региона. Сложилось так, что весьма важный блок вопросов, позволяющий раскрыть и понять многие стороны жизни этого социального организма, оказался в разряде прикладных.
Форма, величина и состав общины так или иначе накладывали свой отпечаток на ее многогранную деятельность. Дифференцированный подход к социальному сообществу волжских хлебопашцев важен для выявления его внутреннего потенциала, механизмов поступательного развития, раскрытия его живучести и удивительной приспособляемости к местному строю жизни.
Для установления типов, модификаций и структуры поземельных общин крестьян многонационального региона прекрасным источником информации являются поуездные выпуски материалов земских обследований крестьянского землевладения за 1884—1892 и 1906 гг.1 Необходимо иметь в виду, что населенные места крестьян, усадьбы и хозяйственные постройки сообразно местным природно-географическим условиям трудно поддавались статистическому наблюдению. В частности, часть из них как топографическая единица была настолько специфичной, что могла быть принята и за однодеревенскую социальную организацию, и за многодеревенскую. В разгадке «ребуса» более преуспело оценочно-статистическое бюро губернского земства, обследовавшее деревню в 1906 г. Инструментарий изучения общины, разработанный предшественни-
НИКОЛАЕВ Геннадий Алексеевич, докторант кафедры источниковедения и архивоведения Чувашского государственного университета.
ками, ими был достаточно успешно усовершенствован, что позволило получить более точный срез явления. Крестьянская земельная община Симбирской губернии представлена также в материалах земской подворной переписи 1910—1911 гг., изданных в восьми поуездных выпусках2.
Во второй половине XIX — начале XX в. в Среднем Поволжье функционировали все три типа крестьянской поземельной общины: простая, раздельная и сложная. Первую группу представляли сообщества, состоявшие из одной деревни или села. Второй тип являли собой союзы, объединявшие в границах отдельно взятой деревни лишь часть дворов крестьян. В таких селениях число раздельных поземельных общин могло колебаться от 2 до нескольких десятков. Если в состав поземельного союза входили два и более населенных мест, то такие социальные образования причислялись в разряд сложных, составных, или федеративных общин.
Соотношение различных типов поземельных общин в Казанской губернии на начало XX в. впервые было рассчитано земскими специалистами. Подвергнув весьма детальному обследованию крестьянское землевладение губернии, они определили, что в ней на 1906 г. функционировало 2 992 земельные общины. Количество простых общин, по подсчетам статистиков, равнялось 2 029 (67,8 %)3.
Территориально простые земельные общины в Казанской губернии в абсолютном большинстве случаев совпадали с такой топографической единицей, как деревня (село). Исключение составляли лишь некоторые населенные пункты4
В этих селениях часть домохозяев входила в состав соседних. а оставшиеся дворы составляли автономную общину. В сводке земских статистиков явления реальной действительности одного и того же порядка представлены в разных подгруппах социальных сообществ. На наш взгляд, эти поземельные союзы следует причислить к группе простых общин. От них они отличаются лишь тем, что не включают в свое правовое поле всех домохозяев селения.
У марийцев из 135 общин к числу простых относились 53 (39,3 %). В составе чувашей из 452 — 225 (49,8 %), удмуртов из 19 — 17 (89,5 %), мордвы из 14 — 10 общин (71,4 %), татар из 763 — 725 (95 %), русских из 1 377 общин к типу простых относились 833 (60,5 %). Данный ряд не является полным, так как земское обследование зарегистрировало еще 232 поземельных сообщества со смешанным национальным составом. Из их числа к разряду простых принадлежали 166 (71,6 %)5.
Усеченность единого социокультурного и правового пространства населенных мест — не единственное отличие аномальных простых общин от простых. Различались они и по размерам земельного владения. Первые имели значительно меньше земли. Так, владения простых общин у русских крестьян достигали в среднем 1 023 дес., чувашских — 984, марийских — 507 дес. Аномальные социальные образования у первых имели в среднем 318 дес. надельной земли, у вторых — 251 и у третьих —. 448 дес.6
В Симбирской губернии земская подворная перепись 1910— 1911 гг. зарегистрировала 2 549 общин. Русскими из их числа были 1 975 (77,5 %) общин, чувашскими — 272 (10,7 %), мордовскими — 139 (5,5 %), татарскими — 121 (4,7 %), украинскими — 1 (0,0 %). В 41 (1,6 %) поземельном союзе крестьянствовали хлебопашцы разных национальностей. В русской деревне насчитывалось 802 (40,6 %) простых общины, чувашской — 255 (93,7 %), мордовской — 133 (95,7 %), татарской — 70 (57,9 %), смешанной — 40 (97,5 %). Единственный в губернии поземельный союз украинцев являл собой простую общину7 Аномальные простые общины отсутствовали.
Простая земельная община в Среднем Поволжье обычно выступала и в другой ипостаси — низшей административной единицы, сельского общества. В абсолютном большинстве случаев территориально и организационно они совпадали. Но были и исключения из этого ряда8.
Согласно данным земского обследования 1906 г., в Казанской губернии функционировало 525 раздельных общин9. По всем ее уездам, за исключением Тетюшского и Свияжского, мы насчитали столько же раздельных общин, что и земские статистики. В первой административной единице нами выявлено 32 земельных союза вместо 3110 по земскому обследованию, во второй — 78 вместо 77й. Одна община Чебоксарского уезда, учтенная в земском обследовании как раздельная, как уже было отмечено ранее, для получения сопоставимого статистического ряда нами была причислена в группу простых аномальных общин. Таким образом, общее число раздельных общин составило 526.
В Казанской губернии в общем числе земельных союзов доля раздельных общин составляла 17,6 %. В русской деревне число таковых достигало 510 (37 %) единиц, татарской — 8 (1,1 %), многонациональной — 4 (1,7 %), мордовской — 3 (21,4 %), марийской — 1 (0,7 %)12. В Симбирской губернии, где помещичье землевладение получило заметно большее распространение, раздельной являлась практически каждая вторая земельная единица — 1 248 (49 %). И здесь ее социальное пространство почти везде было мононациональным: девять из десяти раздельных общины принадлежали русским крестьянам. У русских крестьян эти земельные союзы насчитывали 1 173 (59,4 %), у татарских — 51 (42,1 %), чувашских — 17 (6,3 %), мордовских — 6 (4,3 %). В 1 (2,5 %) подобном сообществе состав населения был смешанным13.
Дело в том, что раздельные общины образовались преимущественно в помещичьих деревнях, население которых в силу проводимой правительством внутренней политики состояло главным образом из русских крестьян. Уход из жизни владельца поместья нередко приводил к дроблению имения между его детьми, что давало начало нескольким сообществам в границах одного населенного места. Раздельные общины, освобожденные в ходе отмены крепостного права по различным условиям и в пореформенное время продолжали сохранять обособленность. В нерусской деревне, представленной почти сплошь бывшими государственными и удельными крестьянами, раздельные общины оформлялись в тех немногих случаях, когда группы крестьян деревни принадлежали до отмены крепостного права к разным разрядам. Часть раздельных общин в национальной деревне была порождена конфессиональными и этническими аспектам повседневной жизни. В населенных пунктах, где совместно проживали крестьяне различной этнической и конфессиональной принадлежности, не всегда царил мир. Трения по различным причинам иногда так накаляли обстановку, что лучшим выходом из нее каждая из сторон находила обособление на автономные земельные единицы14. Так, в частности, д. Мамадыш-Тявгильдино Свияжского уезда Казанской губернии, включавшее русских и татарских бывших государственных крестьян, к 1906 г. разделилось на две раздельные общины — Русскую Мамадыш-Тявгильдинскую и Татарскую Мамадыш-Тявгильдинскую15. Раздельные общины, образовавшиеся вследствие раздела помещичьего имения между его наследниками, в нерусской деревне были большой редкостью. В последних преимущественно проживала мордва.
Близкие к населенным пунктам русских хлебопашцев качественные характеристики имели лишь селения бывших помещичьих мордовских крестьян. В Симбирской и Казанской губерниях эта этническая группа имела по одной деревне с раздельными общинами. В первой их населенный пункт был четырехобщинным (д. Турдаково, Алатырский уезд), во второй — трехобщинным (д. Войкино, Спасский уезд). В других национальных деревнях ситуация заметно отличалась. В Казанской губернии из двух многообщинных татарских деревень одна была двухобщинной, а другая — трехобщинной. Многообщинными здесь были еще 7 населенных мест со смешанным национальным составом. В 6 (85,7 %) из них было по два земельных союза, 1 (14,3 %) — шесть. Аналогичная картина наблюдалась и в Симбирской губернии. Все 18 многообщинных татарских деревень имели здесь по 2 социальные ячейки. Из 20 аналогичных населенных пунктов со смешанным национальным составом в 14 (70 %) функционировали два земельных союза, в 4 (20 %) — три, в 1 (5 %) — четыре и в 1 (5 %) — шесть16.
Раздельные общины волжских крестьян, выросшие в своем абсолютном большинстве на разнородном социокультурном и правовом поле, различались и по размерам земельных владений. В расчете на одну общину русские крестьяне, исторически прочно связанные с помещичьим хозяйством, имели существенно меньше земли, чем их соседи. Так, если в Казанской губернии владение раздельной общины русских крестьян простиралось в среднем на 272 дес, то в марийской — 498, мордовской — 792 и татарской — 1 19017
В административном отношении каждая раздельная община представляла обычно одно сельское общество. Вместе с тем встречались и сельские общества, включавшие в свой состав несколько социальных ячеек. Так, в с. Барские Каратаи Те-тюшского уезда Казанской губернии насчитывалось 5 раздельных общин, но сельских обществ было только 418 В таких низших административных единицах бремя расходов на содержание старосты, сотских и прочих должностных лиц удешевлялось.
Еще на рубеже XVI — XVII вв. общины на Средней Волге преимущественно были простыми, т.е. состояли из одного села. В последующие века в ходе хозяйственного освоения региона многие из них трансформировались в более сложные социальные организмы. Выделившиеся из «материнской» деревни околотки и починки продолжали числиться при ней и сообща с ней пользоваться общей земельной дачей. Относительно крепкие родовые связи, стойкие патриархальные традиции удерживали их в едином хозяйственном, правовом, социальном и духовном поле. В эпоху феодализма эволюция подобных социальных образований (сложных общин) шла в сторону их усложнения и укрупнения. Свой отпечаток на этот процесс наложило проводившееся в конце XVIII — начале XIX в. в Сред- нем Поволжье генеральное межевание. Чересполосное расположение земель разных сообществ вынуждало землемеров обмежевать угодья соседних простых и сложных общин в одну окружную межу. В границах последних часть земельных единиц в своем развитии стала сливаться в более крупные поземельные союзы19
Выделение выселок из «материнских» селений было характерно для всех этнических групп сельского населения Среднего Поволжья. Вместе с тем не у всех из них оно приводило к образованию сложных общин. Менее приверженные патриархально-родовым традициям татарские крестьяне, к примеру, при переселении на освоенные участки, как правило, вскоре рвали связь с прежним сообществом и превращались в самостоятельные общины. Социальное пространство русской деревни также отличалось большой мобильностью. Вместе с тем оно и вследствие принадлежности к разряду помещичьих крестьян не могло давать значительного количества составных поземельных союзов.
Согласно данным земского оценочно-статистического бюро, в 1906 г. в Казанской губернии насчитывалось 43820 сложных общин, что составляло 14,6 % от общего числа функционировавших здесь земельных союзов. По нашим расчетам их было 43721. К 1907 г. в Казанской губернии сложных общин у марийцев было 81 (60 %), чувашей — 227 (50,2 %), удмуртов — 2 (10,5 %), мордвы — 1 (7,2 %), татар — 30 (3,9 %), русских — 34 (2,5 %). Данный перечень имеет продолжение. Его следует еще расширить 62 (26,7 %) многонациональными составными земельными союзами22
Земское обследование начала XX в. не зарегистрировало в Симбирской губернии ни одной сложной общины. Это явление отнюдь не случайно. В отличие от Казанской губернии, Симбирская была менее лесистой. Соответственно и основа для расширения пашен и образования выселок, а последние возникали главным образом в ходе расчистки леса на общих дачах селений, тут была более слабой. Данная территория к тому же была значительно позже освоена хлебопашцами. Во время драматических событий второй половины XIV — начала XV в. она почти полностью обезлюдела и превратилась в «дикое поле», а значит позже исчерпала свой ресурс плотности заселения. Окружных меж при генеральном межевании здесь было образовано относительно немного. Сформировавшиеся же составные сообщества, а они получили распространение преимущественно в лесистых местностях, в своем большинстве распались на автономные составляющие в ходе организованных в первой половине XIX в. удельным ведомством мероприятий по размежеванию общих земельных дач между владевшими ими селениями23
Здесь уместно небольшое уточнение. В региональной историографии широко распространена информация, зафиксированная подворной переписью 1910—1911 гг., на все пореформенное время24 Между тем такая проекция искажает, на наш взгляд, реальную действительность деревни Симбирской губернии. Относительно небольшое количество сложных общин здесь во второй половине XIX в. еще продолжало функционировать. Так, в ответе-очерке на опросную анкету Вольного экономического общества, заполненную в 1879 г., корреспондент В.Красовский в отношении Ундоровской общины Симбирского уезда отметил, что она «состоит из села Ундор и выселка Малые Ундоры»25. Следующий материал, относящийся к еще более позднему времени свидетельствует, что 15 октября 1899 г. Четаевским обществом в составе с. Четаи и деревень Питиркино, Янгильдино, Кубяши, Хорабыр и Вишенер Кур-мышского уезда был составлен приговор о разделе административной единицы на 3 автономных сельских общества. В поземельном отношении чувашские крестьяне пожелали по-прежнему оставаться одним «соединенным обществом»26 Трансформация многодеревенских общин в однодеревенские шла на протяжении всего пореформенного периода. Последние подобные союзы прекратили здесь свое существование, возможно, в годы Столыпинской земельной реформы.
Сложная община являла собой гибкий, динамичный социальный организм. На территории Среднего Поволжья ее развитие дало ряд модификаций. Первая из них может быть определена как сложная община-совокупность околотков. В таких социальных ячейках, внешне напоминавших разорванное на части большое селение, усадебная оседлость была разбросана небольшими группами дворов на всей площади земельного надела. Их размещение при этом было подчинено рациональному началу: мелкие поселки «пускали корни», как правило, в непригодных для возделывания хлеба местностях. В земских обследованиях поверхность их полевых угодий обыкновенно характеризовалась как «возвышенная», «скатистая» или «низменно-болотистая». Каждый околоток имел свое название. Вкупе друг с другом они почти всегда носили еще одно общее «имя». Так, в д. Бурдасы было скрыто два око- , лотка: Толды-Бурдасы и Шалды-Бурдасы27
В административном отношении сложная община-совокупность околотков чаще всего входила в состав одного сельского общества. Исключение обычно составляли относительно крупные социальные организмы. Так, в 1901 г. с. Тораево Яд-ринского уезда входило в 6 сельских обществ28. Землепользование в «разорванной» деревне, за редким исключением, представляло собой мозаику, где каждый поселок «утопал» в окружении крестьянских полос из всех околотков. При переделах, происходивших в большинстве случаев строго в одно и то же время, вся площадь пашни перераспределялась между всеми домохозяйствами околотков29
Сложные общины, состоявшие из одних околотков, принадлежали преимущественно чувашам и марийцам. У первых из 245 составных земельных союзов в их число входили 64 (26,1 %) сообщества, у вторых: из 86 — 13 (15,1 %). В подобных общинах с многонациональным населением к их числу принадлежали 4 (6,3 %) единицы из 63. Наряду с марийцами и чувашами здесь был представлен и русский компонент30. Собственно русский земельный союз этой модификации был представлен единственным сообществом, находившемся в Ца-ревококшайском уезде. Оно имеет форму сложной общины-совокупности починок: поч. Сергеев с выселками по р. Пестре и поч. Нефедов31
В сильно пересеченных, овражистых и низменно-болотистых местностях сложная община-совокупность околотков позволяла максимально экономить площадь удобных земель, так как жилища большей частью стояли в оврагах, буераках — на местах, неудобных для посева хлеба32.
Сложная община-совокупность околотков — относительно малодеревенское социальное образование. В подобном сообществе чувашей число поселков варьировалось от 2 до 11, марийцев — от 2 до 8. Принадлежавшие многонациональному населению эти земельные союзы включали в свой состав от 2 до 6 околотков. У русских крестьян он объединял только два починка. Надельное землевладение чувашей простиралось в среднем на 1 812 дес., марийцев — 1 544, многонациональных общин — 1 383. Земельный союз русских крестьян имел площадь 143 дес.33
Следующую, самую распространенную модификацию сложных общин следует определить как сложную общину-совокупность селений. Чувашам принадлежало 103 (42,1 %) подобных социальных образования, марийцам — 33 (38,4 %), татарам — 27 (90 %), русским — 9 (26,5 %), мордве — 1 (100 %) и уд- муртам — 1 (50 %). Еще в 29 (46 %) аналогичных сообществах проживало многонациональное население. Подеревенский состав этих земельных союзов был более сложным. У чувашей число населенных мест в нем варьировало от 2 до 20, марийцев — от 2 до 9, русских — от 2 до 3. Сообщества татар и удмуртов объединяли по 2 деревни, а у мордвы единственное подобное социальное образование состояло из 3 селений. Число деревень в составных общинах со смешанным населением варьировалось от 2 до 13. Земельный союз этой модификации был более внушительным и по своим размерам. В порядке убывания средней площади «имения» сообществ этнические группы составляли следующий ряд: мордва — 3 838 дес., русские — 2 521, чуваши — 2 271, татары — 2 220, многонациональное население — 2 118, удмурты — 1 516 и марийцы — 1 071 дес.34
Третью модификацию составных земельных союзов следует определить как сложную общину-совокупность селений и околотков (выселок, починок). В среде хлебопашцев чуваши и марийцы имели равное количество подобных союзов — по 25. Ровно в стольких же сообществах проживало смешанное население. Русские крестьяне имели 18 (52,9 %) таких земельных союзов, татарские — 3 (10 %), удмуртские — 1 (50 %). В земельном союзе чувашей умещалось от 2 до 24 населенных мест, марийцев — от 2 до 30, русских и татар — от 2 до 3, удмуртов — 2 и многонационального населения — от 2 до 14. Сложная община-совокупность селений и околотков имела еще более внушительные размеры, чем составные земельные союзы. Земельное владение этой модификации сложных общин в среднем равнялось в чувашской деревне — 2 577 дес., марийской — 2 132, смешанной — 2 362, татарской — 1 185, русской — 1 103, удмуртской — 1 250 дес.35
Сложная община-совокупность селений и федеративных населенных мест — еще более громоздкое социальное образование. В ее составе наряду с селами находились и состоявшие из одних околотков деревни. Эти социальные образования объединяли в единое целое две модификации составных земельных союзов — сложную общину-совокупность околотков и сложную общину-совокупность селений. В этническом плане их пространство преимущественно было чувашским и марийским. Первые имели 18 (7,4 %) подобных сообществ, вторые — 5 (5,8 %). Наибольшее число населенных мест в них достигало у чувашских крестьян — 33, марийских — 42. Еще 1 (1,6 %) такой же земельный союз принадлежал чувашским и русским
______________ Г.А.Николаев хлебопашцам, проживавшим совместно в составе социального организма из 5 селений. Среднестатистическая чувашская сложная община-совокупность селений и федеративных населенных мест объединяла 12 поселений и имела площадь надельного землевладения 4 536 дес. Ее марийский аналог был почти вдвое крупнее: соответственно 22,4 поселения и 8 161 дес. В этом плане особняком стояло чувашско-русское сообщество, имевшее владение в 1 304 дес.36
Механизм формирования следующей модификации сложной общины опосредовано предстает из апелляционной жалобы поверенного общества Большие Тиганы (Спасский уезд) от 26 октября 1891 г., поданной в Казанскую судебную палату. 12 июля 1891 г. Казанский окружной суд утвердил проект размежевания общей земельной дачи между тремя совладельцами — обществами деревень Большие Тиганы, Адальшино и Средние Тиганы. Жителей первой не устроило то обстоятельство, что реализация его на практике оставит неизменным их частичную совмещенную усадебную оседлость с крестьянами д. Адальшино — источником «недоразумений и ссор». Дворохо-зяйства двух населенных мест размещались вперемежку по обе стороны р. Тиганки37
В данном случае зафиксирован начальный этап диффузии двух татарских населенных пунктов, являвших собой простые общины. В этническом поле чувашей и марийцев подобный процесс чаще всего имел своим следствием причудливые очертания границ формирующихся сложных общин. Группы выде-ленцев из простых и составных социальных союзов, осваивая свободные участки земли, случалось, размещали свои населенные места в близком соседстве. Со временем, по мере роста численности жителей, усадебная оседлость двух — реже трех выселков сливалась в единое пространство. Но группы «подданных» разных общин, проживавшие в нем, продолжали причислять себя в члены прежних «материнских» сообществ. В итоге в составе многодеревенских общин оказывались социальные ячейки, составлявшие лишь часть селения. Такая модификация поземельных союзов в средневолжской деревне была представлена двумя формами: сложная община-совокупность селений и их частей; сложная община-совокупность околотков и их частей.
Основная часть составных сообществ названной модификации принадлежала чувашам — 26 (10,6 %). У марийцев их было 7 (8,1 %), русских — 4 (11,8 %). Еще в 2 (3,2 %) земельных союзах состав населения был полиэтническим. Общины в основной массе были относительно многодеревенскими. В чувашских социальных организациях их число варьировало от 2 до 15, марийских — от 2 до 43, в смешанных — от 2 до 5. Социальные союзы русских крестьян были двухдеревенскими. Площадь земельного владения федеративных сообществ в чувашской деревне в среднем равнялась 1 866 дес., марийской — 3 563, в русской — 373, полиэтнической — 1 717 дес.37
Этнокультурная среда региона взрастила социальные организмы и вовсе необычной конструкции — состоявшие только из одних частей разных населенных мест. Группа таких сообществ может быть объединена под рубрикой «сложная община-совокупность частей селений». Подобные земельные союзы в количестве 4 (1,6 %) единиц в губернии имели лишь чуваши. Эта модификация сообществ представлена двумя формами: сложная община-совокупность частей селений и сложная община-совокупность частей околотков. Социальные единицы первого вида функционировали в Чебоксарском уезде: из частей д. Байгеево и Тиньговатово и из частей д. Тиньговатово, Байгеево и Булдеево. Столько же составных общин чувашских крестьян имелось и в Ядринском уезде. Они представляли второй вид: Третье Икково — части околотков Малды-Кукшу-мы, Кукшумы и Чалым; Просто Янгильдино — части околотков Хоза-касы, Пшонги, Ванюш-касы и Чирш-касы. Сложную общину-совокупность частей селений отличали относительно скромные размеры. Столь же небольшим было и ее «имение» — в среднем 790 дес.39
Делопроизводственная документация, касающаяся крестьянских социальных ячеек, обычно отражает конкретные житейские ситуации. Материал в исторической ретроспективе в ней является большой редкостью. Формирование этого типа земельного союза могло иметь самые разные сценарии. Есть основание полагать, что это могло быть следствием совместного освоения несколькими сообществами, или даже несколькими селениями одной сложной общины, близлежащей общей, возможно, спорной, неразмежеванной земельной дачи. Рано или поздно данный «осколок» вполне мог стать автономным социальным организмом. Все перечисленные выше населенные места Чебоксарского и Ядринского уездов располагались в близком соседстве. Подобное разрешение сложных земельных отношений в среде средневолжского крестьянства, безусловно, имело место.
В пространстве сложной общины населенные места, группы домохозяев, которые входили в разные земельные союзы.
являлись как бы «двуликими Янусами». Деревня Байгеево (Чебоксарский уезд) в данном плане выступала даже в трех ипостасях — она входила своими частями в состав сложных земельных общин40
Столь же экзотична и следующая модификация крестьянского сообщества, которая может быть определена как сложная община-совокупность городского и сельского (-их) поселений. Их число относительно невелико: у русских хлебопашцев — 2 (5,9 %), многонационального населения — 1 (1,6 %). В структурном отношении русские земельные союзы были двухдеревенскими. Их земельное владение простиралось в среднем по 3 803 дес. Что же касается составного сообщества смешанного населения, то оно имело площадь 1 349 дес. и объединяло 3 поселения41.
Поскольку волости не создавались коронной администрацией по традиционным границам земельных союзов, постольку последние оказывались на территории нескольких административных единиц. Так, община с. Старое-Черемышево в составе 42 околотков и селений с общей площадью удобных земель в 15 774 дес., возможно, из-за своих громадных размеров окрещенная марийскими крестьянами «Большой веревкой», размещалась на территории Больше-Юнгинской, Мало-Карач-кинской и Кулаковской волостей Козьмодемьянского уезда Казанской губернии42 Модификацию таких социальных организаций, видимо следует именовать как сложную общину-совокупность разноволостных селений. У чувашей имелось 4 (1,6 %) подобных сообщества, марийцев — 3 (3,5 %) и у полиэтничного населения — 1 (1,6 %). Данное социальное образование относилось к числу многодеревенских. Земельный союз чувашей объединял от 2 до 33 селений, марийцев — от 2 до 42 и смешанного населения — от 2 до 4. Весьма внушительным было и их земельное пространство. «Имение» первых простиралось в среднем в 4 800 дес, вторых — в 8 499 и третьих — 1 964 дес.43
Следующая модификация составных земельных союзов может быть именована как сложная община-совокупность внево-лостных селений. Подобную земельную единицу в Казанской губернии имели только чуваши. Она была представлена 1 (0,4 %) сообществом в составе трех деревень: Низ-касы, Янымово и Аптяк-пось. Эта община, расположенная в Малокарачкинской волости Козьмодемьянского уезда, в административном отношении входила в Татаркасинскую волость. Площадь ее владения составляла 1 961 дес.44 •
Отдельные земельные союзы вырастали до гигантских размеров и иногда заполняли собой всю территорию такой административной единицы, как волость. Подобный социальный организм — общину-волость — в Казанской губернии в 1880-х гг. являло собой одно крестьянское сообщество, принадлежавшее чувашским крестьянам: Шуматовское (Ядринс-кий уезд). Оно объединяло 10 сельских обществ и 41 селение с числом жителей в 5 738 чел. Владение земельной единицы достигало 12 878 дес.45 В земском обследовании 1906 г. Шума-товская социальная организация в составе тех же населенных мест фигурирует уже как сложная община-совокупность селений46 Административная единица (волость) как критерий для выделения общин-волостей подвержена эрозии. В ходе предпринятой властями на рубеже XIX—XX вв. административной реорганизации границы Шуматовской волости расширились.
Таким образом, в ходе эволюции поземельный союз хлебопашцев непрерывно адаптировался к местному образу жизни. При этом в зависимости от конкретных обстоятельств и условий его территориальные границы принимали самые разные очертания. К рубежу XIX — XX вв. развитие средневолжскбй общины дало ряд модификаций, что, на наш взгляд, является свидетельством ее удивительной гибкости и живучести. Народы Среднего Поволжья имели во многом соответствующие их сословно-юридической принадлежности и социальному статусу типы социальных сообществ. У русских крестьян, находившихся до отмены крепостного права в основном в личной зависимости от помещиков, значительное распространение получили раздельные общины, а у их соседей (мордвы, татар, марийцев, чувашей и удмуртов) такие земельные союзы, напротив, были весьма редки. Национальную деревню прежде всего отличало наличие составных сообществ. Причем не всю. У татар, мордвы и удмуртов они встречались относительно реже. Поземельные союзы народов региона различались также по модификации и подеревенской структуре, качественным параметрам. Названные особенности накладывали свой отпечаток на внутреннюю жизнь крестьянских сообществ.
Список литературы Типы, модификации и структура поземельной общины Среднего Поволжья в начале XX в.
- Материалы для сравнительной оценки земельных угодий в уездах Казанской губернии. Казань, 1886 - 1893. Вып. 1 - 12
- Крестьянское землевладение Казанской губернии. Казань, 1907. Вып. 1 - 12.
- Подворная перепись Симбирской губернии 1910 - 11 гг. Симбирск, 1912 - 1914. Вып. 1 - 8.
- Крестьянское землевладение Казанской губернии. Свод по губернии. Казань, 1907. Вып. 13. С. 102, 103.
- Подворная перепись Симбирской губернии 1910-11 гг. Вып. 1-8. Без учета социального поля разночинцев и мещан.