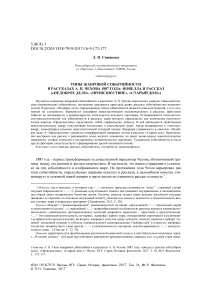Типы жанровой событийности в рассказах А. П. Чехова 1887 года: новелла и рассказ ("Недоброе дело", "Происшествие", "Старый дом")
Автор: Синякова Людмила Николаевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 9 т.16, 2017 года.
Бесплатный доступ
Изучается изменение жанровой событийности в рассказах А. П. Чехова переходного периода. Новеллистическая (каноническая) событийность постепенно замещается присущей жанру рассказа событийностью неканонической. В рассказе «Недоброе дело» определяющим типом событийности является новеллистический, с его установкой на случайность. Выявляется специфика новеллистической окказиональности в рассказе: фабульное событие не показывается, а ретранслируется антагонистом ведущего персонажа. Устанавливается психологически-новеллистический тип событийности в рассказе, жанр которого определяется как комическая психологическая новелла. «Происшествие» представляет собой «правильную» новеллу. В ней наблюдается свойственная новеллистическому жанру кумулятивная композиция и классический пуант. Автор возвращается к «чистому» жанру, демонстрируя владение новеллистической техникой письма. Жанровая узнаваемость в новеллах «Недоброе дало» и «Происшествие» сменяется интерференцией жанровых поэтик в рассказе «Старый дом». Произведение выстроено как рассказ о распавшейся семье мелкого чиновника, но имеет неожиданное новеллистическое завершение, которое относится к постороннему незначительному персонажу. Усложнение событийности, в числе других факторов, свидетельствует о формировании зрелой чеховской поэтики.
Новелла, рассказ, событийность, случайность, закономерность
Короткий адрес: https://sciup.org/147219848
IDR: 147219848 | УДК: 82-3 | DOI: 10.25205/1818-7919-2017-16-9-172-177
Текст научной статьи Типы жанровой событийности в рассказах А. П. Чехова 1887 года: новелла и рассказ ("Недоброе дело", "Происшествие", "Старый дом")
1887 год – период трансформации художественной парадигмы Чехова, обозначивший границу между его ранним и зрелым творчеством. В частности, это нашло отражение в установке на тип событийности в изображенном мире. На протяжении года Чехов варьировал два типа событийности, определяемых жанрами новеллы и рассказа; в дальнейшем новелла элиминирует и основной парой жанров в прозе писателя становятся рассказ и повесть 1.
Три выбранных для анализа рассказа представляют собой повествования с разной степенью жанровой узнаваемости и, соответственно, разными формулами событийности 2. Если в первых двух неоспорим новеллистический тип повествуемой истории (в них представлена окказиональная картина мира, модальность мнения и этос желания [Тюпа, 2016. С. 106]) 3, то третий реализует иной тип событийности, организованной, скорее, вероятностной картиной мира, модальностью понимания и этосом личной ответственности [Там же. С. 107] 4. Протонарративом в первом случае является анекдот, во втором – притча; анекдот моделирует новеллу, а притча – рассказ и роман, жанры неканонические.
Рассмотрим типы событийности в указанных рассказах А. П. Чехова. В «Недобром деле» инициативная случайность (событийность) определяется глупостью сторожа и изобретательностью разбойника; в «Происшествии» – изобретательностью жертвы. В «Старом доме» случайность вытесняется случаем – результаты последнего закрепляются в повседневности. Случай же влечет за собой обыденность.
«Недоброе дело» («Петербургская газета», 1887, 2 марта) можно отнести к разновидности «страшной» новеллы. Разбойник прикидывается заблудившимся странником и просит кладбищенского сторожа проводить его через кладбище. Начальная ситуация задается первой фразой рассказа: « – Кто идет?» Очевидно, что спрашивающий – сторож, а вопрошаемый – нарушитель установленного порядка. Затем следуют обстоятельственные детерминанты, обнаруживающие связь с готической топикой (так мы узнаем, что сторож – кладбищенский): «Сторож не видит ничего, но сквозь шум ветра и деревьев ясно слышит, что кто-то идет впереди него по аллее. Мартовская ночь, облачная и туманная, окутала землю, и сторожу кажется, что земля, небо и он сам со своими мыслями слились во что-то одно громадное, непроницаемо-черное. Идти можно только ощупью» [Чехов, 1985. Т. 6. С. 92] 5. Ночь, кладбище, завывание ветра и обязательный цветовой маркер черноты-непроглядности инспирируют ожидание «страшного», что и происходит (с точки зрения сторожа – основного носителя события и фокализатора в данной истории).
В отличие от канонической новеллистической событийности, подразумевающей ряд быстрых и неожиданных действий, в этом рассказе, хоть и сохранена обычная для новеллы кумуляция, но события, скорее, не физически-материальны («настоящие» события вытеснены в фоновую реальность), а вербальны. Основное фабульное событие происходит на периферии рассказанной истории и не показывается, а артикулируется (пересказывается) вторым персонажем.
Обратимся к развертыванию событийности в рассказе. Сторож натыкается на человека, который прикидывается странником, умоляя проводить его до ограды, а то «жутко, батюшка, жутко, добрый человек» (с. 93). На середине пути сторож начинает сомневаться, как попал сюда «богомолец», ведь ворота заперты? Тот ссылается на наваждение и так же плаксиво начинает косвенно, а затем и прямо, угрожать хранителю кладбищенского покоя. Он последовательно произносит следующее:
-
1. «И будут (покойники. – Л. С .) спать до гласа трубного. Царство им небесное, вечный покой.<…> Дела наши лютые, помышления лукавые! Грехи, грехи! Душа моя окаянная <…> не будет мне спасения ни на этом, ни на том свете» (с. 94).
-
2. Затем собеседник сторожа выстраивает аргументацию с прямыми значениями: «Странники разные бывают. <…> Иной, который странник, ежели пожелает, хватит тебя по башке топорищем, а из тебя и дух вон» (с. 95).
-
3. «– Ах ты, милый мой, любезный! Чай, долго будешь вспоминать странника!
– Зачем мне тебя вспоминать?
Высказывание на первый взгляд обобщенно-личное. «Странник» прибегает к ритуальноформульному покаянию, но его слова, как обнаруживается из событийного контекста, деме-тафоризированы и означают именно то, что означают: окаянную душу и лютые дела.
Сторож из контролирующего ситуацию фигуранта истории оборачивается жертвой: «Зачем ты такие слова?» (с. 95). Если учесть, что высказывание «путника» перлокутивно и означает дела, его сообщение воспринимается как угроза.
-
– Да так, обошел я тебя ловко… Нешто я странник? Я вовсе не странник. <…> (Я) Покойник <…> Помнишь слесаря Губарёва, что на масленой повесился? Так вот я и есть тот Губа-рёв»;
«Сторож не верит, но чувствует во всем теле такой тяжелый страх, что срывается с места…» (с. 95).
Отметим осведомленность разбойника обо всех недавно погребенных «обитателях» кладбища (он местный и прекрасно знает расположение ворот, а вовсе не заблудший путник / заблудшая овца). Происходит мена сюжетных ролей: сторож рвется за ограду (в начальной ситуации путник просил его поскорее вывести вон), а противник его не пускает, устрашая ругательствами:
«Хочешь в живых быть, так стой и молчи, покеда велю… Не хочется только кровь проливать, а то давно бы ты у меня издох, паршивый…» (с. 95–96).
«У сторожа подгибаются колена. Он в страхе закрывает глаза и, дрожа всем телом, прижимается к ограде. Он хотел бы закричать, но знает, что его крик не долетит до жилья…» (с. 96).
Наконец, издали раздается свист, прохожий отпускает своего пленника («Иди и Бога моли, что жив остался» (с. 96)), мимо проносятся члены шайки, а сторож обнаруживает разграбленную церковь.
Новеллистическая событийность здесь осуществляется в основном в форме психологического события. По мере развертывания диалога разбойника и сторожа усиливается страх последнего; страх растянут во времени (континуален) и может трактоваться как основное сюжетное (смысловое) событие. Трагикомический модус задан разнонаправленностью двух персональных интенций; кроме того, присутствует необходимый пуант 6 (разоренная церковь). Таким образом, «Недоброе дело» можно определить как психологическую (одновременно комическую) новеллу.
В рассказе «Происшествие» («Петербургская газета», 1887, 4 мая) А. П. Чехов возвращается к событийной предметности новеллистического жанра. Произведение снабжено подзаголовком «Рассказ ямщика» (в газетной публикации это был парцеллят в составе заглавия) и организован как сказовое повествование 7. «Вот в этом лесочке, что за балкой, случилась, сударь, история» (с. 179).
Помимо индексирующего тип событийности заглавия 8 рассказ характеризуется кумулятивным сюжетом и быстрой развязкой – подменой главного персонажа другим лицом и убийством ложной жертвы.
Попробуем выявить динамику событийности в этом рассказе.
Ямщик рассказывает о давнем случае, происшедшем с его сестрой Анюткой – тогда ей было 7 или 8 лет. Отец вез 500 рублей барину и похвастался в кабаке о чужом богатстве. По- чуяв погоню, он вручил дочери деньги и велел пробираться глухими местами назад домой. Следует ряд быстрых и «страшных» эпизодов. «И начали они (разбойники. – Л. С.) над батенькой свою подлость показывать, а батенька заместо того, чтоб просить их, плакать или что, рассердились и начали их отделывать по всей, значит, строгости.
– Что вы, говорят, окаянные, пристали? Сволочной вы народ, Бога в вас нет, нет на вас холеры! <…>
А разбойники от таких слов еще пуще, и стали бить батеньку чем попадя. <…> когда увидели, что батенька от битья еще пуще ругаются, стали они его на разные манеры мучить. Анютка тем временем сидела за кустом и… всё видела» (с. 182).
Убежав от убитого отца и разбойников, девочка попадает в логово других разбойников – в избу лесника, куда вскоре заявляются и три знакомые душегуба. Анютка, притворяясь спящей на печке, рядом с дочерью лесника, подслушивает, что ее тоже собираются убить. «Этак к полночи, когда все были здорово урезавши, баба побежала за водкой третий раз, а лесник раза два прошелся по избе, а сам шатается.
– А что, – говорит, – братцы, ведь девчонку прибрать надо! Ежели мы ее так оставим, так она на нас будет первая доказчица.
Посудили, порядили и так решили: не быть Анютке живой – зарезать. Известно, зарезать невинного младенца страшно, за такое дело нешто пьяный возьмется или угорелый» (с. 184).
Пока разбойники рядились, кто убьет девочку, она укрыла своим тулупом лесникову дочку, а на себя накинула одежду той. Проскользнула мимо пьяниц и была такова. «На ее счастье бабы в избе не было, за водкой пошла, а то бы, пожалуй, не миновать ей топора, потому бабий глаз видючий, как у кобца (хищной птицы. – Л. С .). У бабы глаз острый» (с. 184). Лесник, вытянувший жребий на убийство, в результате подмены убил собственную дочь, Анютка добежала до деревни, и злодейство было изобличено: «Потом своим порядком суд был в городе, наказывали по всей строгости законов» (с. 185). Таким образом, норма жизни (прежде всего этическая) была восстановлена. Повторим, что быстрая смена событий, кумулятивная связь между ними и классический пуант (убийство несчастной дочери лесника) дают основание отнести этот рассказ к новеллистическому жанру.
«Происшествие» воссоздает более «правильный» для новеллы тип событийности, нежели психологическая событийность «Недоброго дела».
«Старый дом» (подзаголовок: «Рассказ домовладельца») («Петербургская газета», 1887, 29 октября) – рассказ о жителях обреченного на слом дома. Рассказчик – хозяин меблированных комнат: «Нужно было сломать старый дом, чтобы на его месте построить новый. Я водил архитектора по пустым комнатам и между делом рассказывал ему разные истории» (с. 365).
Тематически рассказ реализует неактуальную для того времени топику, условно, «петербургских углов» – в нем «просвечивает» жанровый рудимент физиологического очерка, когда домовладелец бегло классифицирует жильцов по социальному статусу и генерализирует повседневность.
Все, что транслирует домовладелец, обыденно и не нарушает порядка жизни. (За исключением начального анекдота о споткнувшихся на похоронах пьяных, которые повалились с лестницы вместе с гробом; «живые больно ушиблись, а мертвый, как ни в чем ни бывало, был очень серьезен и покачивал головой, когда его поднимали с пола и опять укладывали в гроб» (с. 365). Забавный случай относится к анекдотам об ожившем покойнике.)
«Вот три подряд двери; тут жили барышни, которые часто принимали у себя гостей, а потому одевались чище всех жильцов и исправно платили за квартиру»; в конце коридора находилась прачечная, «где днем мыли белье, а ночью шумели и пили пиво» (с. 365).
Затем рассказчик передает историю одной семьи из «нехорошей» квартиры, в которой погибло много жильцов, вероятно, потому, что ее кто-нибудь проклял и в ней «вместе с жильцами всегда жил еще кто-то, невидимый» (с. 365).
Основной сюжет составляет история обитателей «нехорошей» квартиры – семьи Путохи-ных. Сначала Путохин был аккуратным жильцом и порядочным человеком, служил писцом. Рассказчик фиксирует устойчивость и идиллическую неизменность, а также огражденность от остального мира дома / быта семьи и их жильца Егорыча: «Когда я, что бывало очень редко, заходил вечерами в эту квартиру, то всякий раз заставал такую картину: Путохин сидел за своим столом и переписывал что-нибудь, его мать и жена <…> сидели около лампы и шили; Егорыч визжал терпугом (слесарным инструментом. – Л. С.). А горячая, еще не совсем потухшая печка испускала из себя жар и духоту; в тяжелом воздухе пахло щами, пеленками и Егорычем. Бедно и душно, но от рабочих лиц, от детских штанишек, развешанных вдоль печки, от железок Егорыча веяло все-таки миром, лаской, довольством…» (с. 366).
Упоминаются веселые и причесанные «детишки», «глубоко убежденные в том, что на этом свете все обстоит благополучно и так будет без конца, стоит только по утрам и ложась спать молиться Богу» (с. 366). Этот отрывок представляет собой свернутую идиллию, с ее прецедентной картиной мира и этосом долженствования: передается правильный порядок вещей. Со смертью матери семейства все меняется – нарушается исконный жизненнобытовой уклад: «Мне казалось, что он сам (Путохин. – Л. С .), его дети, бабушка, Егорыч уже намечены тем невидимым существом, которое жило с ними в этой квартире» (с. 366). Если рушится уклад, то имеют место роковые стечения обстоятельств. Бессобытийность идиллии разрушается волей случая; коллективное долженствование вытесняется индивидуальным деянием. Вводится мотив судьбы: «Я верю в то, что если вам не везет в карты с самого начала, то вы будете проигрывать до конца; когда судьбе нужно стереть с лица земли вас и вашу семью, то она все время остается неумолимо последовательной и первое несчастье обыкновенно бывает только началом длинной цепи…» (с. 366–367).
Путохина выгоняют со службы, заменив барышней; он начинает задерживать плату хозяину, мрачнеет и пьет с Егорычем. Наконец, через какие-то три месяца плата иссякает окончательно, а дворник жалуется, что жильцы ведут себя «неблагородно». Теперь уже Путохин сбивает Егорыча с пути честного пьяницы; пропивает все, что можно вынести из дому; затем он исчезает окончательно, старуха запивает, в свою очередь, и погибает в больнице; старший сын Вася, который был прилежным учеником, покуда отец не пропил его пальто и ему не в чем стало ходить в училище, – становится «вышибалой» при «барышнях» (тех самых, что принимали гостей).
Конец рассказа осуществляется как резкая смена тематических планов:
«Что дальше было с ним, я не знаю.
А в этой вот комнате десять лет жил нищий-музыкант. Когда он умер, в его перине нашли двадцать тысяч» (с. 370). План обыденности – первое предложение – сменяется пуантом, и эта последовательность (правильнее сказать – жанровая перенастройка) фиксируется графически: предложения разделены абзацем.
Таким образом, рассказ об обыкновенном семействе из доходного дома (передающий закономерность – детерминированное средой разрушение судеб персонажей) перебивается новеллистическим финалом, касающимся случайно упомянутого постороннего лица. Судьба нищего музыканта нарушает логику обстоятельств, являя требуемую новеллой «новость», организованную личной волей. Сочетание двух планов финала доказывает непредсказуемость и нелинейность жизненных событий. В дальнейшем совмещение несовместимого составило особенность жанрового мышления писателя.
В целом А. П. Чехов на протяжении 1887 г. осваивал разные типы событийности – как повествовательной, так и жанровой – и ориентировался на тип «обыденной» событийности, присущей рассказу и повести. Появление в следующем, 1888 году, повестей «Огни» и «Степь» стало закономерным результатом жанровых поисков писателя.
Список литературы Типы жанровой событийности в рассказах А. П. Чехова 1887 года: новелла и рассказ ("Недоброе дело", "Происшествие", "Старый дом")
- Ожегов С. И. Словарь русского языка. Екатеринбург: Урал-Советы («Весть»), 1994. 800 с.
- Тамарченко Н. Д. Жанры эпики // Теория литературных жанров: Учеб. пособие / М. Н. Дарвин, Д. М. Магомедова, Н. Д. Тамарченко, В. И. Тюпа; под ред. Н. Д. Тамарченко. М.: Академия, 2012. 256 с.
- Тюпа В. И. Анализ художественного текста: Учеб. пособие. М.: Академия, 2009. 336 с.
- Тюпа В. И. Введение в сравнительную нарратологию. М.: Intrada, 2016. 145 с.
- Чехов А. П. Полн. собр. соч.: В 30 т. Соч.: В 18 т. М.: Наука, 1985. Т. 6. 735 с.