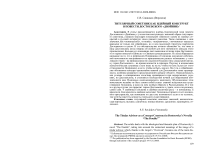Титулярный советник как идейный конструкт в повести Достоевского "Двойник"
Автор: Савинков Сергей Владимирович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 2 (53), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается идейно-тематический план повести Достоевского «Двойник» с учетом контекстуальных значений образа титулярного советника, ставшего благодаря гоголевской «Шинели» одним из главных открытий в русской литературе эпохи раннего реализма. Такие связанные с ним значения, как «номинальное», «готовое», «пограничное», «ничтожное» окажутся важными не только для «Двойника», но и для смысловой структуры творчества Достоевского в целом. И это обстоятельство отчасти объясняет то, что имел в виду Достоевский, когда говорил об особой для него значимости замысла этого произведения. Большее его понимание дает выявление отличия героя Достоевского от героев повестей «Шинель» и «Записки сумасшедшего». В статье обращается внимание на то, что в рефлексиях Поприщина и Голядкина ощущение собственной ничтожности выстраивается на принципиально разных основаниях: у гоголевского героя - на принадлежности к аксиологическому низу социальной жизни, а у героя Достоевского - на принадлежности к середине. Поэтому и изначальная психологическая установка у него иная: не на то, чтобы не быть нулем (от этого отталкивается Поприщин), а на то, чтобы не быть, как все. По сути, в «Двойнике» уже обозначены контуры чрезвычайно важной для Достоевского темы ординарности, особенно развернуто представленной в романе «Идиот». Неразличимость как условие и одновременно следствие ординарности при определенных условиях, по Достоевскому, и становится благодатной почвой для образования обозначенного еще Пушкиным «наполеоновского» комплекса. Обусловленное этим комплексом желание не быть самим собой станет главной модальностью существования Голядкина, а вслед за ним особым образом и Раскольникова. И в том и в другом случае это приводит героев Достоевского к утрате, хотя и по-разному, самих себя. У двойника Голядкина и двойная актантная роль - и помощника, и вредителя. Как вредитель двойник вытесняет Голядкина-старшего из его жизненного пространства, как помощник он дает ему возможность если и не осознать, так хотя бы ощутить ценность отдельного существования.
Титулярный советник, комплекс значений, аксиологическая вертикаль, нулевое, единичное, множественное, срединное, ординарное, отдельное
Короткий адрес: https://sciup.org/149127251
IDR: 149127251
Текст научной статьи Титулярный советник как идейный конструкт в повести Достоевского "Двойник"
В общих чертах повесть Ф.М. Достоевского имеет две части, условное разделение на которые маркируется сменой объекта поиска. В первой части герой нацелен на изменение своего социального статуса, а во второй -на противоборство с двойником за сохранение занимаемого места. Каждая из этих частей, имея собственную внутреннюю логику, легко могла бы претендовать на отдельное существование. В тандеме же они, как и персонажи-двойники, оказываются в положении идеологического противостояния. Особенность его характера обнаруживается и в перекличке этих частей с точки зрения их композиционного решения: и в финале первой части, и в финале второй героя ждут события, означающие для него и в том, и в другом случае полное фиаско. Такая синонимичность концовок нацеливает на их различение, как и самих двойников, по критерию подлинности / не подлинности. В результате такого их сопоставления степень постигшей Голядкина в конце первой части катастрофы снижается едва ли не до нулевой отметки.
Базовым элементом идеологического конструкта первой части является представление о чиновничьем ранжире как своеобразном аналоге мироустройства, предопределяющем каждому его члену определенное местоположение и соответствующий ему ценз в соответствии с аксиологиче- ской вертикалью. С принадлежностью к тому или иному классу связывался целый комплекс социокультурных и литературных значений, которые следует иметь в виду, чтобы понимать исходную диспозицию главного героя повести Достоевского, а она такова: Голядкин - титулярный советник, чиновник, согласно табели о рангах, IX класса. (Чтобы лучше сориентироваться, достаточно вспомнить, что гоголевский Хлестаков и пушкинский Самсон Вырин - чиновники самого низкого XIV ранга). Несмотря на то, что IX класс располагался значительно выше XIV-го, своим появлением в русской литературе «маленький» человек во многом обязан был именно ему. Дело в том, что, по представлениям той эпохи, чин титулярного советника обеспечивал его владельцу такую репутацию, которой в полной мере соответствовало значение фразеологизма «ноль без палочки».
Примерами такого уничижительного отношения к титулярному советнику изобилуют произведения Н.В. Гоголя. Так, в глазах героини гоголевского драматического отрывка, Марьи Александровны, титулярный советник ассоциируется со «штафиркой», «козявкой» и «утиральной салфеткой». И даже само слово «титулярный» «тиранит» ей уши [Гоголь 1949, V, 124]. Этому слову у В.И. Даля дается такое толкование: «Титулярный, состоящий в звании, но не в чине или не в сане; зауряд. - советник, гражданский чин IX-го класса, капитан, есаул» [Даль 1982, 407]. По сути дела, слово «титулярный» означает «номинальный» - уже не секретарь, но еще не полноправный советник, своего рода кандидат в советники. Таким образом, «титулярный советник» как бы и не чин, а, как говорит та же гоголевская Марья Александровна, «бог знает что», одним словом, - одно название. М. Вайскопф остроумно заметил, что в номенклатуре знак ранга - титулярный советник - оказывается словно отделенным от означаемого, он «подчеркнуто тавтологично исчерпывается «названием» [Вайскопф 1993, 319]. Иначе говоря, означающее у этого знака идентично самому себе: знак оказывается знаком себя же самого, знаком знака, а потому - нулевым, фиктивным. «Ну, посмотри на себя, подумай только, что ты? Ведь ты нуль, более ничего. Ты - титулярный советник» (варианты к «Запискам сумасшедшего») [Гоголь 1938, III, 557].
Титулярный советник, можно сказать, сам напрашивался на то, чтобы его мифологизировали как «пограничное» существо, которое одновременно и существует, и не существует, и присутствует, и отсутствует [Савинков, Фаустов 2010, 84-91, 108-131]. И это указывает на связь этого образа с романтической идеологией и эстетикой [Цейтлин 1923]. Обнаруживаются знаки и прямого с ней родства. К примеру, таинственный старик в прозаическом отрывке Лермонтова «Штосс» (образ, отвечающий поэтической формуле - «не вовсе мертвый, не совсем живой») - титулярный советник.
Иная семантика «пограничности» у титулярного советника обнаружилась тогда, когда, благодаря Гоголю и Достоевскому, в фокусе литературного внимания оказалось его сознание. Не случайно, конечно, что именно титулярный советник стал первым в истории русской литературы персонажем, который задался вопросом о том, почему он есть он. «Отчего я ти- тулярный советник и с какой стати я титулярный советник?» [Гоголь 1938, III, 206]. Когда этот вопрос обращает к себе гоголевский Поприщин, ясно, что он имеет в виду не только и не столько свое служебное положение. В устах Поприщина он звучит как такой вопрос «экзистенциального» толка, невозможность ответа на который, в конечном счете, и сводит его с ума. И в самом деле, литературные титулярные советники если и не всегда сходят с ума в буквальном смысле, то, так или иначе, обнаруживают присущую их сознанию диссоциацию.
В свое время Л.В. Пумпянский саму возможность поприщинского са-мозванчества объяснил релятивистским состоянием мира, в котором балом правят не действительные достоинства, а внешние по отношению к ним знаки (чины, титулы, аксессуары) [Пумпянский 2000, 576-589]. Но именно эта ничем и никем не обусловленная зависимость видимого от невидимого и наталкивает его на мысль о возможности взять над знаками власть. Для того чтобы переменить свою судьбу и обрести видимое достоинство, достаточно самоназваться, присвоить титул. И не случайно, что сумасшедшая идея назваться испанским королем приходит в голову именно титулярному советнику. Нуль, титулярный советник, - это ничто, но именно поэтому такое ничто способно и возыметь о себе все, что угодно, и притязать на все, что угодно. Не имеющий референта голый, пустой знак может самозванно облечься в какое угодно означающее. Отсюда - и сама возможность вопрошания: «Может быть, я какой-нибудь граф или генерал, а только так кажусь титулярным советником? Может быть, я сам не знаю, кто я таков» [Гоголь 1938, III, 206].
Голядкин Достоевского при несомненном сходстве с Поприщиным, все-таки не является его литературным двойником. Существенное различие между ними и заключается как раз в том, что у Поприщина двойника быть не может, а у Голядкина, в известной мере, не может не быть. Как представляется, это обусловлено тем, что у Достоевского оппозиция «ноль vs. единица» имеет опосредованное звено, связанное с понятием «множества», а через него и - «ординарности». Голядкин Достоевского переживает свою «нулевость» иначе, чем Поприщин: нуль связывается для него не с представлением о ничтожности, а с представлением об ординарности. Не быть нулем означало бы для него не быть как все. В сцене приема у доктора это подспудное желание выражается и характере его речевого поведения, строящегося по принципу «от обратного». Опору на этот принцип можно заметить даже и в самой частотности использования Голядкиным словесной формулы «как все». «Господин Голядкин <...> поспешил заметить, что ему кажется, что он, как и все, что он у себя, что развлечения у него, как и у всех... что он, конечно, может ездить в театр, ибо тоже, как и все, средства имеет, что днем он в должности, а вечером у себя, что он совсем ничего...» [Достоевский 1972, 115].
Неразличимость как условие и одновременно следствие ординарности при определенных условиях, по Достоевскому, и становится благодатной почвой для образования обозначенного еще Пушкиным «наполеоновско- го» комплекса. Желанием стать «повыше» других одержим не человек «низа», а именно срединный (ординарный, обыкновенный) человек, каким, собственно, и является господин Голядкин. (Как известно, тема ординарности особым образом раскрывается в романе «Идиот», представляющем своеобразную типологию обыкновенных людей [Савинков, Фаустов 2010, 262-274]). И в самом деле, у Голядкина имеется все то (квартира, слуга, денежные накопления), что позволяет его отнести к когорте тех господ, которых, по слову Гоголя, «называют господами средней руки» [Гоголь 1951, VI, 7]. (В своем известном очерке Д.И. Чижевский причину появления двойника связывает с иллюзорностью занимаемого Голядкиным места: «Появление двойника и вытеснение им господина Голядкина из его места обнаруживает только иллюзорность этого “места”» [Чижевский 2015, 433]. Думается, что дело все-таки не в том, что занимаемое Голядкиным место не настоящее, а в том, что сам Голядкин «осмысливает» свое место - вполне материально обеспеченное - как место ему неподобающее, а значит, в определенном смысле, как не настоящее, а иллюзорное).
В мире Достоевского «середина» имеет, хотя и амбивалентное, но всегда существенное значение. Тому, кто принадлежит к середине, либо отказывается в праве на изменение (что может иметь разную оценку) положения, либо, напротив, - вменяется как исключительное. Очевидно, что в случае с Голядкиным праву на изменение выносится отрицательный вердикт. По всей видимости, атрибутируемая этому герою семантика «готового» восходит к образу титулярного советника и его «первоисточнику» в лице гоголевского Башмачкина. Появившись на свет, Акакий Акакиевич «сделал такую гримасу, как будто бы предчувствовал, что будет титулярный советник»; «.. .Он, видно, так и родился на свет уже совершенно готовым, в вицмундире и с лысиной на голове» [Гоголь 1938, III, 143].
Ближайший смысл выражения «совершенно готовый» проясняют реалии чиновничье-бюрократической системы того времени. Для огромной армии чиновничества девятый класс был тем «потолочным» чином, подняться выше которого не было никакой возможности. Представляя своего героя, Гоголь и обыгрывает такое положение вещей: «Что касается до чина (ибо у нас прежде всего нужно объявить чин), то он был то, что называют вечный титулярный советник...». Акакию Акакиевичу, как и другим его собратьям - титулярным советникам, было суждено неизменно (= вечно) оставаться в чине титулярного советника и не питать «никаких замыслов на коллежского асессора...» [Гоголь 1938, III, 446]. «Вечность» - будучи лексемой большой семантической емкости - нацеливала на метафориза-цию титулярного советника и в характерологическом, и в метафизическом планах, зачастую, правда с ироническим подтекстом. У Лермонтова, к примеру, вечность титулярного советника противопоставляется метеорной краткости жизни героя как то, что не имеет значения и смысла, - тому, что их безоговорочно манифестирует. Размышляя об уготованной ему судьбой участи, Печорин вспоминает об Александре Великом и лорде Байроне: «Мало ли людей, начиная жизнь, думают кончить ее как Александр
Великий или лорд Байрон, а между тем целый век остаются титюлярными советниками?..» [Лермонтов 1957, 301].
В «Шинели» же иронический тон постепенно вытесняется неприкрытой серьезностью и сочувствием. Вопреки трафаретному представлению, Акакий Акакиевич Башмачкин - «вечный» титулярный советник - умирает. И эта смерть эпифатически представляется повествователем как событие, имеющее отношение не к абстрактно-типическому титулярному советнику - представителю множества, а как к единственному в своем роде существу: «Исчезло и скрылось существо, никем не защищенное, никому не дорогое, ни для кого не интересное...» [Гоголь 1938, III, 169]. Под таким углом зрения присущая титулярному советнику неизменность обретает иное значение и смысл. Положение, на которое обречено «готовое» существо, и есть корневая причина его бедности. Маленький человек беден не потому, что плохо живет, а потому, что, будучи исключенным из жизненных связей и отношений, лишается возможности для кого-то стать дорогим.
Нарративная логика «Двойника» станет более понятной, если учитывать ее отличие от логики «Шинели» и «Записок сумасшедшего» (несомненных претекстов повести Достоевского). Если задача «Шинели» состояла в том, чтобы посмотреть на маленького человека не как на ноль, а как на самостоятельную единицу, то «Записок из подполья» - чтобы посмотреть на характер поведения сознания самостоятельной единицы, которая знает об отождествлении ее с нулем и реагирует на это. Литературным открытием Гоголя стало обнаружение у титулярного советника несоразмерной его положению амбиции: оказалось, что у типологического нуля она может простираться даже и не до единицы, а - сверх единицы. По выражению, уже упомянутой гоголевской героини: «Теперь всякая чуть вылезшая козявка уже думает, что он аристократ. Вот всего какой-нибудь титулярный, а послушай-ка, как говорит!» [Гоголь 1949, V, 132].
Для понимания такой, казалось бы, необъяснимой неадекватности важно учитывать еще одно важное обстоятельство. По табельной классификации IX класс, ранг титулярного советника, - это высшая ступень низшего разряда в чиновничьей иерархии. Достаточно было подняться лишь на одну ступень выше, чтобы попасть на первую ступень уже высшего разряда. Однако в действительности тому, кто находился на IX ступени, попасть на восьмую и получить чин коллежского асессора, а вместе с ним и право на потомственное дворянство, не было никакой возможности. Контроверза между ощущением близости «верха» и одновременно - его недосягаемости (в соответствии с поговоркой «близок локоток, да не укусишь») - и стала для Гоголя и Достоевского отправной точкой построения психопатического портрета титулярного советника. Она предполагала и несколько иную интерпретацию его «готового» состояния. Отказывая титулярному советнику в возможности оказаться «наверху» естественным путем (предполагающем возможность самоизменения посредством саморазвития), оно понуждало его к упованию на сказочное превращение:
был одним, - стал другим (в скобках заметим, что желание такого скачка унаследуют многие герои Достоевского). И если для сказочного героя «вещным» свидетельством обретения высокого статуса является чудесная жена, то для титулярного советника - генеральская дочь. (О фольклорной основе «Двойника» см. [Ветловская 1982, 12-76]).
Несмотря на стартовую близость, понятно, что Гоголь и Достоевский движутся по разным авторским траекториям. И общая для Поприщина и Голядкина цель - превращение в другого (испанского короля или жениха генеральской дочери) - имеет у Гоголя и Достоевского существенно разнящуюся подоплеку. Она будет лучше заметна, если для начала обозначить отличие между гоголевскими персонажами - Поприщиным и Хлестаковым. Очевидно, что и для того, и для другого желание стать другим принципиально неосуществимо в действительности. Однако неосуществимо по-разному. Между Хлестаковым (чиновником самого низкого разряда) и предметом его желания дистанция такого огромного размера, что преодолеть ее возможно исключительно с помощью неуемного воображения. В случае же с Поприщиным дистанция между ним и предметом его желания, хотя и сокращается до одной ступени, но по-прежнему остается непреодолимой. В таком радикальном различии диспозиций и кроется, по всей видимости, объяснение тому, почему для одного из них (Хлестакова) его тяга к чрезмерному воображению не приобретает клинической формы, а для другого (Поприщина) она становится неизбежной.
У Голядкина и Поприщина исходные координаты существования также разнятся, несмотря даже и на то, что в табели о рангах они находятся на одной и той же позиции. Если Поприщин у Гоголя изначально отождествляется с нулем, то Голядкин у Достоевского - с принадлежащей к середине единицей. Поэтому и изначальная психологическая установка у него иная (не на то, чтобы не быть нулем, как у Поприщина, а на то, чтобы не быть, как все), и иное - приближенное к действительности - операционное мышление. Нельзя не заметить, что у Голядкина семиотика его поведения имеет вполне референциальный характер. Не выглядит фантасмагорически и главная его цель - попасть в общество избранных - «людей благонамеренных и хорошего тона» [Достоевский 1972, 393]. Да и его «волшебными помощниками» оказываются вполне реальные «вещи» - деньги и умение интриговать. Поэтому и диссоциация сознания у Голядкина иного плана. Она имеет отношение к раздвоению его «я» - если воспользоваться языком самого Достоевского - на действительное и фантастическое: на то «я», которым он является в реальности, и на то, которым он хотел бы быть.
При этом фантастическое «я», постоянно испытывая нужду в удостоверении своего превосходства над действительным «я», толкает героя Достоевского на совершение действий провокационного характера. Голядкин буквально надевает маску (обряжается) важной персоны и имитирует ее поведение: «Поклониться или нет? Отозваться или нет? <...> или прикинуться, что не я, а кто-то другой <.. .> Дурак я был, что не отозвался <.. .> следовало бы просто на смелую ногу и с откровенностью, не лишенною благородства: дескать, так и так, Андрей Филиппович, тоже приглашен на обед, да и только!» [Достоевский 1972, 115]. Выезжая в карете с гербами на Невский проспект (в голубых ландо по Петербургу разъезжали лица, принадлежавшие к царскому дому), Голядкин с опаской ждет реакции на свой выезд: примут или не примут его за другого - за единицу, принадлежащую не множеству, а кругу избранных.
Заметим, что сама ситуация пробы (важный элемент нарратологии Достоевского) также определенным образом связана со срединным положением. Только тому, кто балансирует между «верхом» и «низом», можно рефлексировать по поводу принадлежности (или не принадлежности) к «верху» или «низу». Тому же, кто занимает фиксированное положение (либо «наверху», либо «внизу»), в осуществлении пробы никакой необходимости нет. (У Поприщина, к слову сказать, ее нет). Как известно, именно не окончательная уверенность в определении своего местоположения («тварь дрожащая» или единица) и толкает Раскольникова на то, чтобы устроить себе проверку. Если Раскольникова гнетет мысль, что он сам для себя (в том случае, если не выдержит) не сможет удостовериться в своей избранности, то Голядкина - что его не признают за единицу и разоблачат его самозванство. По иронии судьбы тем другим, который станет главным разоблачителем Голядкина, и станет его двойник. Он сделает так, что выставит своего противника на всеобщий уничижительный суд, перед которым он уже никем не сможет себя помыслить, как только самим собой.
У двойника и двойная актантная роль - и помощника, и вредителя. Как вредитель двойник вытесняет Голядкина-старшего из его жизненного пространства, как помощник он дает ему возможность, если и не осознать, так хотя бы ощутить ценность отдельного существования. Наличие копии ставит под сомнение сингулярность подлинника. Двойник, таким образом, оказывается не только представителем множества, но и его своеобразным гением (выразителем самой его идеи). (Наиболее выпукло роль Голядки-на-младшего как гения множества обнаружится в приснившимся Голядкину-старшему ужасном сне: «И все эти совершенно подобные пускались тотчас же по появлении своем бежать один за другим и длинною цепью, как вереница гусей, тянулись и ковыляли за господином Голядкиным-старшим, так что некуда было убежать от совершенно подобных, - так что дух захватывало всячески достойному сожаления господину Голядкину от ужаса, - так что народилась наконец страшная бездна совершенно подобных, - так что вся столица запрудилась наконец совершенно подобными <...>» [Достоевский 1972, 186-187]).
Главной тактикой противодействия Голядкину-старшему Голядкин-младший избирает тактику подавления единичного множеством. Игра на все стороны позволяет двойнику ополчить против Голядкина буквально всех - начиная от сослуживцев и кончая тем самым высшим обществом, к которому его противник так вожделенно мечтал приобщиться. Благодаря «фантастическим» манипуляциям двойника общество избранных единиц в глазах Голядкина превращается в неразличимое множество во всем по-136
добных друг другу Голядкиных: «В голове зазвонило у господина Голядкина, в глазах потемнело; ему показалось, что бездна, целая вереница совершенно подобных Голядкиных с шумом вламывается во все двери комнаты; но было поздно...» [Достоевский 1972, 430].
Не случайно, что повесть венчает сцена, чем-то напоминающая акт линчевания. Голядкин оказывается под прицелом множества неразличимых глаз, обнуляющих его право на существование как самостоятельной единицы, уже не имеющей никакого отношения ни к множеству середины, ни к избранности верха.
Список литературы Титулярный советник как идейный конструкт в повести Достоевского "Двойник"
- Вайскопф М. Сюжет Гоголя. М., 1993.
- Ветловская В.Е. Ф.М. Достоевский // Русская литература и фольклор. Вторая половина XIX века. Л., 1982. С. 12-76.
- Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений: в 14 т. М.; Л., 1937-1952.
- Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. Т. 4. М., 1982.
- Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Т. 1. Л., 1972.
- Лермонтов М. Ю. Сочинения: в 6 т. Т. 6. М.; Л., 1957.
- Пумпянский Л.В. Опыт построения релятивистской действительности по "Ревизору" // Пумпянский Л.В. Классическая традиция. Собрание трудов по истории русской литературы. М., 2000. С. 576-589.
- Савинков С.В., Фаустов А.А. Аспекты русской литературной характерологии. М., 2010.
- Чижевский Д.И. К проблеме двойника у Достоевского. Попытка философской интерпретации // Ежегодник дома русского зарубежья имени Александра Солженицына 2014-2015. М., 2015. С. 424-458.