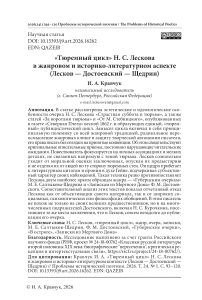«Тюремный цикл» Н. С. Лескова в жанровом и историко-литературном аспекте (Лесков — Достоевский — Щедрин)
Автор: Кравчук И.А.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.24, 2026 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены эстетические и идеологические особенности очерка Н. С. Лескова «Страстная суббота в тюрьме», а также статей «За воротами тюрьмы» и «От М. Стебницкого», опубликованных в газете «Северная Пчела» весной 1862 г. и образующих единый, «тюремный» публицистический цикл. Замысел цикла включал в себя принципиальную полемику со всей жанровой традицией, радикальное переосмысление жанровых клише и защиту творческой автономии писателя, его права писать без оглядки на принятые конвенции. Об этом свидетельствуют оригинальные описательные приемы, постоянно нарушающие читательские ожидания. Повествователь фокусируется на личных ассоциациях и мелких деталях, не связанных напрямую с темой тюрьмы. Лесков сознательно уходит от моральной оценки заключенных, опуская их предысторию и не отделяя их от людей по ту сторону тюремных стен. Он щедро прибегает к литературным цитатам и иронии в духе Гейне, подчеркивая субъективный характер своих наблюдений. Такая техника резко противопоставляет Лескова двум наиболее ярким образцам жанра — «Губернским очеркам» М. Е. Салтыкова-Щедрина и «Запискам из Мертвого Дома» Ф. М. Достоевского. Сопоставительный анализ этих текстов показал отчетливый отказ Лескова как от объективации своего материала, так и от широких социальных, психологических или философских обобщений. В этом писатель не похож не только на своих великих предшественников, но и на многочисленных подражателей Достоевского, включая Н. С. Курочкина, посетившего те же места заключения, что и Лесков, совсем незадолго до публикации его очерка.
Н. С. Лесков, «тюремный цикл», жанр, очерк, записки, М. Е. Салтыков-Щедрин, Ф. М. Достоевский, «Губернские очерки», «В остроге», «Записки из Мертвого Дома»
Короткий адрес: https://sciup.org/147253032
IDR: 147253032 | DOI: 10.15393/j9.art.2026.16262
Текст научной статьи «Тюремный цикл» Н. С. Лескова в жанровом и историко-литературном аспекте (Лесков — Достоевский — Щедрин)
О черк «Страстная суббота в тюрьме», а также тематически примыкающие к нему статьи «За воротами тюрьмы» и «От М. Стебницкого», опубликованные в газете «Северная Пчела» в апреле — мае 1862 г., не принадлежат к числу самых известных текстов Н. С. Лескова. Тем не менее для исследователя они представляют определенный интерес. В них молодой писатель не только высказывался по актуальной теме судебной реформы, но и представлял свое творческое кредо. Полемика, которую Лесков вел с представителями власти, была, как мы надеемся показать в этой статье, еще и переосмыслением публицистической оптики, полемикой с современной ему очерковой литературой.
Литературоведы не единожды подмечали цельность лесковского творческого пути. Его стилевые и идеологические тенденции оформляются с примечательной быстротой уже в ранней беллетристике (см.: [Столярова: 32–34], [Аннинский: 21], [Поздина: 70]). В неменьшей степени это соображение применимо и к ранней публицистике Лескова — в особенности потому, что фактография и вымысел, документ и апокриф шли в его авторской практике рука об руку (см.: [Лужанов-ский], [Кучерская, Лифшиц: 506]). Тексты «тюремного цикла» не занимают выдающегося места в наследии писателя, но при этом чрезвычайно наглядно демонстрируют и некоторые особенности складывавшегося лесковского метода, и его профессиональные амбиции в ранний период творчества.
Особенно ценным представляется сравнительный анализ выбранных текстов на фоне «Губернских очерков» (1856–1857) М. Е. Салтыкова-Щедрина, «Записок из Мертвого Дома» (1860–1862) Ф. М. Достоевского и ряда других работ, которые будут упомянуты ниже. Кроме того, в нашей статье будут предложены некоторые уточнения и дополнения к комментарию первого тома «Полного собрания сочинений» Н. С. Лескова (1996).
Очерк «Страстная суббота в тюрьме» публиковался в номерах 99, 101 и 104 за 14, 16 и 19 апреля 1862 г. соответственно. К этому времени Лесков был одним из самых авторитетных и востребованных авторов «Северной Пчелы», в значительной степени определял лицо обновленного медиа. «Знакомство с передовыми статьями "Северной пчелы" по внутренним вопросам начиная с января 1862, — писала И. П. Видуэцкая, — наталкивает на мысль о том, что Лесков был либо автором, либо соавтором очень многих из них» [Видуэцкая: 787–788]. Издатель и редактор П. С. Усов стремился избавить «пчелку» от одиозной славы Булгарина и Греча, «создать авторитетную, респектабельную, космополитичную газету», «стараясь двигаться точно посередине между консерваторами и радикалами» [Кучерская: 133, 134]. Не связанный со столичной интеллигенцией, независимый в оценках и суждениях, «М. Стебницкий» прекрасно подходил на роль ведущего сотрудника. В скором времени такая политика газеты привела к репутационной катастрофе — ее, как хорошо известно, спровоцирует «пожарная статья» Лескова «Настоящие бедствия столицы», помещенная в № 143 от 30 мая 1862 г. Однако настоящих бедствий редакции пока ничто не предвещает.
В очерке «Страстная суббота в тюрьме» излагались впечатления автора от посещения арестантского отделения при Съезжем доме 3-й Адмиралтейской части и Петербургской городской уголовной тюрьмы (Литовский замок). Тему подсказывало само время: страна ожидала судебную реформу, а читающая публика была захвачена «Записками из Мертвого Дома». Публикация последних началась еще 1 сентября 1860 г. в газете Ф. Т. Стелловского «Русский Мир», где появились только первые четыре главы первой части, но уже зимой 1861-го Достоевский решил перенести печатание книги в собственный журнал «Время»: публикация начнется в апрельской книжке [Летопись: 309, 316]. С февраля 1862 г. стала издаваться вторая часть: в № 1 появилась глава «Гошпиталь», в № 2 — «Продолжение» (главы II и III), в № 3 — «Акулькин муж», «Летняя пора» и «Каторжные животные». Следующие главы напечатаны в майской книжке, но она вышла в свет только 3 июня, то есть уже после статей Лескова. 8 января того же года цензурное разрешение получит первое отдельное издание «Записок…», отпечатанное в типографии Э. Праца; 30 января и 6 июня — части I и II во втором отдельном издании, И. Ог-ризко [Достоевский; т. 4: 325].
Сегодня нам сложно представить, насколько сильное впечатление произвела книга Достоевского на современников. Мир каторги тогдашнему читателю был абсолютно незнаком. Эстетическое и моральное потрясение, вызванное картинами «Мертвого Дома», красноречиво передано в статье А. П. Милюкова, помещенной в редактируемом им журнале «Светоч» (1861, № 5). В глазах Милюкова, автор произведения — одновременно и Ливингстон , и дантовский Вергилий 1 . Параллель между Достоевским и Данте закрепится в культурной памяти благодаря статье Герцена «Новая фаза в русской литературе» (1864), где «Записки…» будут названы «страшной книгой, своего рода carmen horrendum 2 , которая всегда будет красоваться над выходом из мрачного царствования Николая, как надпись Данте над входом в ад». Картины каторжного существования Герцен назовет «фресками в духе Буонарроти» [Герцен; т. 18: 219].
Рожденная на границе художественного и документального повествования, книга Достоевского стала крупным явлением как в общественной, так и в литературной жизни эпохи. С одной стороны, «Мертвый Дом» побудил периодические издания чаще размещать материалы, посвященные преступности и положению заключенных. С другой — Достоевский проложил дорогу остальным литераторам, живописавшим быт арестантов и ссыльных. Так, уже в 1861–1862 гг. Ф. Н. Львов, тоже бывший петрашевец, публикует в «Современнике» «Выдержки из воспоминаний ссыльнокаторжного»3. Характерно, что основной нарративный прием (передача своего опыта некоему литературному герою) Львов явно заимствовал у Достоевского. Таким же непосредственным свидетельством стали очерки еще одного бывшего петрашевца Ф. Г. Толля «Из записок моего сосланного приятеля. 1850 год» (Современник. 1863. № 4. С. 355–372). Вероятно, в том же ряду следует рассматривать письма декабриста М. С. Лунина (1788–1845). Отправленные из сибирской ссылки еще в конце 1830-х гг., письма эти были частично опубликованы в шестой книге альманаха Герцена и Огарева «Полярная звезда» (1861) вместе с другими мемуарами политического заключенного — «Воспоминаниями о Кронверкской куртине» Н. Р. Цебрикова (1800–1866) (помещены анонимно). Размышления Лунина о плачевном положении каторжников, унизительных и уродующих наказаниях очевидным образом воспринимались в контексте современной для читателя публичной дискуссии4.
Гораздо чаще (по вполне понятным причинам) в русской периодике появлялись материалы об отечественных и заграничных местах лишения свободы, составленные сторонними наблюдателями: командированными чиновниками, путешественниками, журналистами. Один из ранних образцов такой публицистики — обстоятельный очерк Н. Г. Фролова (1812–1855) «Исправительные тюрьмы в Швейцарии» (1847). Скрупулезное описание внутреннего устройства, распорядка и управления швейцарских тюрем снабжено философским и историческим экскурсом: автор касается того, как постепенно гуманизировались представления об уголовном наказании, как пробивала себе дорогу и менялась концепция исправления преступников 5 .
В том же духе будут выдержаны отрывки из сочинений правоведа, чиновника особых поручений при управляющем Морского министерства К. Я. Яневича-Яневского (1827–1902), опубликованные осенью 1862 г. в «Морском сборнике» 6 . Здесь находим харак терную критическую ремарку:
«Теперь всякий, и призванный и непризванный, считает себя вправе и даже поставляет своим долгом заявить свое мнение, подать свой голос в деле, касающемся нравственного исправления и улучшения судьбы людей, которых страсти, пороки, а иногда и обстоятельства жизни сделали или готовы сделать преступниками закона»7.
Лесков в «Страстной субботе…», безусловно, опирался на художественные и идейные достижения Достоевского. В то же время мы, по-видимому, можем указать еще на два значимых претекста. Прежде всего, это «Губернские очерки» М. Е. Салтыкова-Щедрина (глава «В остроге»). Очевидно, именно у Щедрина Лесков заимствовал общую композиционную рамку: герой-рассказчик, движимый, вероятно, взятыми на себя обязательствами и, несомненно, пытливым умом, узнает нравы арестантов, последовательно перемещаясь между отделениями тюрьмы. Конструкция тюрьмы оказывается конгруэнтна не только структуре повествования, но и устройству социальной лестницы. В том и другом случае герою требуется провожатый: у Щедрина это милосердный и простодушный крутогорский чиновник Яков Петрович; у Лескова — директор тюремного комитета «Петр Семенович Л.», т. е. реальное лицо: один из директоров Петербургского комитета Общества попечительного о тюрьмах, бывший редактор газеты «Русский Инвалид» П. С. Лебедев (1816–1875).
В то же время подходы Щедрина и Лескова к изучаемым явлениям довольно существенно между собой различаются. В центре щедринского повествования — характеры и судьбы арестантов до попадания в острог. Для повествователя важно разглядеть в заключенном некогда свободного человека с индивидуальными чертами. Обезличивающая обстановка тюрьмы находится в явном противоречии с натурой человека:
«…однообразие и узкость форм, в которые насильственно втиснута здесь жизнь, давит и томит душу. Чувствуется, что здесь конец всему, что здесь не может быть ни протеста, ни борьбы, что здесь царство агонии, но агонии молчаливой, без хрипения, без стонов… » [Салтыков-Щедрин; т. 2: 336].
Своего читателя Щедрин знакомит со своеобразной «диалектикой тюрьмы»: это и слепок, срез социума, и полностью автономный мир, собрание девиаций, исключений. Здесь со всей ясностью проявляет себя парадоксальный изобразительный метод, отличавший всю щедринскую книгу. «Именно отказ от типизации, — пишет К. Ю. Зубков, — абсолютная уникальность индивидуальностей героев, составлял для современников наиболее заметную особенность "Губернских очерков"» [Зубков: 189]. Важно уточнить, что «отказ от типизации» предполагает не отказ от каких-либо обобщений, но отказ от клишированных подходов, освященных авторитетом «натуральной школы». Аудитории Щедрина предстояло заново вырабатывать критерии анализа, заново прочерчивать связи между литературными персонажами и социальными типажами, интерпретировать характеры и мотивы поступков.
По большому счету, описание острога подменено анализом человеческой психологии и социальных конфликтов. Между героями и средой проведена резкая черта, но эта черта — совершенные ими поступки, а отнюдь не границы острога. Недаром А. В. Дружинин, комментируя название этой главы, писал:
«…пусть читатель не пугается заглавия: в этой главе не найдет он ничего вопиющего и раздирательного»8.
Если «Мертвый Дом» — ад, то крутогорский острог — чистилище или лимб, остановка между прошлым и будущим, в котором одних ожидает гибель, других — искупление. Внутренняя жизнь острога, за редким исключением, остается пугающей загадкой:
«Проникнуть в эту жизнь, освоиться с ее маленькими интересами — нет почти никакой возможности. Надо быть или очень благодушным, или очень хитрым человеком, чтобы овладеть доверием людей, которые имеют свои причины, чтобы на всякую такого рода попытку смотреть подозрительно, как на попытку воспользоваться этим доверием в ущерб их интересам» [Салты ков-Щедрин ; т. 2: 336].
Примечательно, что глава «В остроге» включает в себя рассказ «Аринушка», где один и тот же сюжет разворачивается сначала в предсмертном видении умирающей героини, а затем — в восприятии остальных персонажей. Даже столь сложный умозрительный эксперимент оказывается проще, нежели изучение повседневного быта острога. Это тем более удивительно, если вспомнить, что как раз в свою бытность вятским чиновником писатель, как подчеркивает его биограф, «начал последовательно добиваться прежде всего улучшения быта заключённых», входя в мельчайшие его подробности [Дмитренко: 134]. И все же, имея представление о буднях острога, Щедрин предпочел использовать его лишь в качестве фона или линзы для исследования иных общественных проблем.
Совершенно иначе к теме тюрьмы подходил Лесков. С самого начала он ясно формулирует свой авторский интерес. Вспоминая статью Диккенса «Публичные казни» (1849), писатель замечает:
«…Чарльз Диккенс описывает, как вешают человека и как ревет безумная толпа, наблюдающая его предсмертные вздрагивания, а я просто хочу записать: как в страстную субботу 1862 года русские люди, сидящие в петербургских тюрьмах, ожидали светлого праздника» [Лесков: 466].
Обратим внимание на эту формулировку: не преступники, не арестанты, а просто « русские люди , сидящие в петербургских тюрьмах ».
За тридцать с лишним лет до Лескова в романе Ф. В. Булгарина «Иван Выжигин» (1829) тюрьма описывалась так:
«Три недели я провел в заключении, в обществе с виновными и злополучными. Видел унижение человечества и несчастную добродетель; видел пороки и слабости и не хочу их описывать. Пусть мрачная завеса покрывает это убежище горести. <…> Предоставляю человеку с сердцем, закаленным на поприще опыта, с душою, охлажденною от соткновения с пороком, представить в живой картине внутренность тюрьмы. Верное изображение нравов существ, исторгнутых из общества, может быть поучительным, но оно всегда будет отвратительно, и я не хочу возбуждать ни в ком омерзения к человечеству…» [Булгарин: 332].
Диссертация Е. Ю. Калесник, посвященная публицистике Лескова 1860-х гг., содержит наиболее полный и глубокий на сегодняшний день анализ «тюремного цикла». Исследовательница подчеркивает «нейтральность» лесковского повествования, «репортажный или фотографический метод» письма, лаконичность словесных портретов [Калесник: 195–196]. Действительно, писатель старательно избегает любых экзотических деталей, избыточных сведений о преступниках и их преступлениях, психологических спекуляций и беллетристических штампов. Суть «фотографического метода» в том, что рассказчик не знает и, что важнее, отказывается знать о предмете больше, чем видит и слышит лично. Больше того, Лесков, с его любовью к подробностям и микросюжетам, демонстративно отклоняет любую возможность украсить повествование колоритными отступлениями.
К примеру, по дороге в уголовную тюрьму Л. рассказывает «Стебницкому» о русской сестре милосердия, которая в годы Крымской войны влюбилась в англичанина и уехала с ним в Лондон. Взаимные чувства быстро угасли, девушка «сделалась мормонкою и, наконец, пробираясь назад в Россию, задержана в Германии как беспаспортная». Другой человек, о котором рассказал Л., — русский офицер, «человек известной фамилии, содержавшийся за бродяжничество в Турине» [Лесков: 478]. Повествователь относит этих задержанных к «тем непоседным натурам, которым везде "не по себе". Они все собираются вширь да вдаль, пока судьба не осадит их в каком-нибудь тесном углу, из которого они выходят уже совсем озлобленными, но зато с более определенными стремлениями и с окончательной неспособностью к скромной доле» [Лесков: 478].
Кажется, намеченную мысль можно развернуть, ведь речь идет о типе, которым Лесков интересовался. Не из таких ли «непоседных натур» происходит главный герой рассказа «Овцебык»? Но автор будто одергивает себя:
«История обоих арестантов очень любопытна и назидательна, но право излагать ее принадлежит не мне» [Лесков: 478].
Возможно, не чуждый литературным занятиям П. С. Лебедев сможет не хуже рассказать об этих людях? Однако Лесков заставляет в этом усомниться:
«О туринской тюрьме Л. отзывается очень невыгодно: арестанты в ней помещаются очень тесно, спят на соломе и питаются одним хлебом. Слушая любопытные рассказы Л., я не заметил, как лошади остановились перед большим серым зданием петербургской уголовной тюрьмы» [Лесков: 478].
В этих словах, которыми завершается первая часть очерка, угадывается авторская ирония: слишком велик контраст между интригующей экспозицией и будничным сообщением о соломе на полу туринской темницы 9 .
Лесков не просто прозаизирует тюрьму, лишая ее экзотических, инфернальных, отталкивающих черт, — он размывает границу между тюрьмой и волей. Достаточно сравнить список злодеяний, которые совершают персонажи, с изощренными и дикими преступлениями героев Щедрина и Достоевского. Так, в арестантской мы встречаем двух помешанных, мальчика, больного куриной слепотой и задержанного за бродяжничество, избитого кем-то чиновника, трех проституток, мальчика, «сгубившего пашпорт», торговца с поддельным векселем, пару мещан «по оговору воровства». В одиночных камерах мы видим фальшивомонетчиков, мужчин, арестованных за гомосексуальную связь, ротмистра, подозреваемого в подлогах, полицейского, поставившего подпись под фальшивым документом, и т. д. Мы не находим историй, подобных истории Гараньки, Колесова или обвиняемого «по делу о барышнях», убитых за «пять целковых».
В жизни Лескова был недолгий опыт работы криминальным следователем в Киеве в 1860 г. Встретив спустя два с половиной года под арестом в 3-й Адмиралтейской части бывшего полицейского сыщика, писатель ничем не выдает в себе его коллегу. В курьезное дело о подписании подложных документов автор не вникает, зато тут же обращает внимание на другое:
«Он начал о чем-то просить Л., я подошел к столику, на котором лежали книги и газеты. Тут была "Монфермельская молочница", несколько переводных романов Поль де Кока, аккуратно сложенные номера "Искры" за 1862 год, два номера "Иллюстрации" и номер "Петербургских ведомостей"» [Лесков: 475].
Внимательный читатель заметит, что в этот фрагмент вкралась ошибка: ведь роман «Монфермельская молочница» (1827) тоже принадлежит перу корифея «фривольной литературы» Поля де Кока, причем является одной из самых известных его вещей. Так, в повести В. А. Соллогуба «Тарантас» (1845) владимирский книгопродавец предлагает Ивану Васильевичу новый перевод этой «важнейшей, по его словам, книги» 10 . Легкая французская книжка с анекдотическим шлейфом, популярная периодика, отсутствие ярко выраженных партийных пристрастий — все это делает фигуру незадачливого полицейского понятнее и ближе.
Общеизвестным стал следующий фрагмент, введенный повествователем как будто в связи с любовной драмой осужденного ротмистра. История человека, сломавшего жизнь себе и любившей его прекрасной и талантливой женщине, вновь передается Лесковым в самом сжатом виде. Зато после этого писатель пускается в пространное рассуждение о том, почему так редка гармония в супружеских отношениях, почему такие люди, как Тарас Шевченко, оканчивают свои дни в гнетущем одиночестве, а кто-то, наоборот, терпит брань и упреки от близкого человека, примиряется с несчастливым браком. Лесков оставляет открытым вопрос, виноват ли в этом слепой фатум или безволие человека.
Этот проникновенный монолог справедливо считают автобиографическим. Известно, что первый брак Лескова окончился безобразными публичными скандалами, гибелью первенца и психическим расстройством жены11. При всей справедливости этого наблюдения, повествовательная техника лесковского очерка заставляет увидеть в этом месте и что-то большее, чем затаенную боль писателя, случайно вырвавшуюся на поверхность произведения. Читателю вновь предлагается забыть об уголовном деле ротмистра. Этот персонаж внезапно оказывается героем сентиментальной повести. Лесков подчеркивает опрятную обстановку его комнаты, почти уютную, если забыть, что речь идет о тюремной камере. Намек на давнее знакомство с историей жизни супругов (повествователь якобы узнал ее еще в прошлом году «от г-жи К-й»), рассуждение, даже в глазах неподготовленного читателя окрашенное чем-то личным, снова ломают социальную стену между законопослушным подписчиком «Северной Пчелы» и несчастным офицером. С этой же целью Лесков сгущает цитатный фон, создавая общий культурный контекст: в ход идут упоминания герценовского доктора Крупова, приводимые по памяти строки Шевченко, ссылка на авторитет Белинского. Даже открывает рассуждение о несчастных браках цитата из «Горя от ума»:
«Ах, амур проклятый!» [Лесков: 476].
Об арестантах, привлеченных к общественно полезному труду, — сапожниках, пекарях, поварах — Лесков пишет вовсе как о простых ремесленниках. Даже встречая на церковной службе группу убийц, автор остается верен первоначальному замыслу.
В «Записках из Мертвого Дома» герой-повествователь Го-рянчиков признается, что опыт пребывания на каторге научил его тоньше разбираться в природе зла, оценивать человеческие пороки подчас с непривычной стороны:
«Потом я во многом изменился в моем взгляде даже на самых страшных убийц. Иной и не убил, да страшнее другого, который по шести убийствам пришел» [Достоевский; т. 4: 96].
В «Губернских очерках» нравственное уродство убийц из крестьянской среды подчеркивается их искренним или притворным равнодушием к содеянному, их детски простодушной ложью, порой принимающей гротескный, юмористический вид.
«— Ну, а как же утопленник-то очутился с связанными назади руками?
— Ничего я об этом, ваше благородие, объяснить не могу… Это точно, что они перед тем, как из лодки им выпрыгнуть, обратились к товарищу: "Свяжи мне, говорит, Трофимушка, руки!" А я еще в ту пору и говорю им: "Христос, мол, с вами,
Аггей Федотыч, что вы над собой задумываете?" Ну, а они не послушали: "Цыц, говорит, собака!" Что ж-с, известно, их дело хозяйское: нам им перечить разве возможно!» [Салтыков-Щедрин; т. 2: 343].
Совсем иначе выглядят «душегубцы» Лескова:
«В углу направо стоит семь, а налево, кажется, пять человек арестантов, закованных в кандалы. Это убийцы. В углу направо стоят два человека, приговоренные к наказанию плетьми через палача, одному назначено 65 ударов, другому что-то меньше. Лица есть очень молодые и совершенно симпатичные. Глядя на этих людей, из которых один плакал, я не чувствовал себя в обществе злодеев con amore. Мне они казались людьми, не умевшими управлять своими страстями, людьми, сбитыми с прямого пути и дошедшими до нравственного бессилия, но отнюдь не кровожадными зверями, не злодеями вроде учителя в "Парижских тайнах" или вроде субъекта, которого я после встретил в одном секретном каземате. <…> Все эти несчастные придерживали руками цепи, чтобы они не заглушали церковного чтения» [Лесков: 484].
Таким образом, трактовка Лесковым тяжких преступлений равно удаляется и от социологического детерминизма («теория среды»), и от чрезмерной «психологизации», непременно предполагающей в убийце ужасную тайну, темную страсть, духовную патологию. Один из лейтмотивов литературы о каторге — мотив напрасно растраченных сил. Этой концепции в лесковском цикле противопоставлена мысль о преступлении как о проявлении бессилия , о сдаче запутавшегося человека на произвол судьбы и случайной страсти.
Изобразительный метод Лескова обнаруживает себя и в эпизодах, посвященных фигурантам по-настоящему громких процессов, отлично знакомых подписчикам «Северной Пчелы». Один из них — некто Караханов. Поселившись в Петербурге по поддельным документам, он выдал себя за богатого аристократа, вошел в доверие к титулярному советнику За-кревскому и предложил тому выгодно вложить деньги в агентство по железнодорожным перевозкам. Для заключения сделки, по словам Караханова, требовалось не менее 140 000 рублей наличными. Соблазнившись предложением, Закревский поехал в Москву к приятелю, коллежскому асессору Дарагану, и попросил у того денег взаймы. Дараган выдал требуемую сумму пятипроцентными банковскими билетами на имя своей жены, после чего Закревский отвез их своему «компаньону» в Петербург. Караханов присвоил деньги себе, подделав подпись жены чиновника и переписав билеты на свое имя, а затем сам приехал к Дарагану и попросил еще 400 000 рублей. Вскоре после этого и он, и Закревский были арестованы12. Дело Караха-нова было громким, его освещали «Северная Пчела», «Век», «Русское Слово». Лесков же упоминает этого человека между прочим, словно не питая к нему особого интереса [Лесков: 496, 498]:
«В благородном отделении нет особенно характерных лиц, все точно с Невского проспекта. Караханов в этом случае составляет резкое исключение, зато он и далеко виден в своей азиатской сбруе» [Лесков: 498].
Еще большей знаменитостью был арестант, использовавший фамилию Сипко, — предводитель крупной шайки: «Не считая разных подделанных векселей, паспортов и других мошенничеств, совершенных этим отборным обществом, у них было приготовлено депозиток двадцатипяти- и десятирублевых на тридцать пять тысяч…»13. Не менее десяти лет подряд Сипко разъезжал по разным российским городам, выдавая себя за разных лиц, занимаясь мошенничеством и кражами. Несколько раз его арестовывали за воровство и бродяжничество, но он сбегал и никогда не открывал своего настоящего имени. Он успел побывать отставным подпоручиком Скорняковым, солдатским сыном Александром Нечаевым и даже австрийским графом Мошинским, убившим на дуэли некоего поручика Сигизмунда Сапегу и бежавшим с его деньгами в Россию. Фамилия «Сипко» тоже оказалась вымышленной. Сбежав из московского острога в 1859 г., злоумышленник оказался в Тверской губернии, где посватался к дочери одной из помещиц, выдав себя за некоего капитана Сипко, владельца богатых имений в Подольской и Полтавской губерниях. Женившись, он под разными предлогами присвоил все сбережения жены и продал принадлежавший ей лес. В Петербурге жулик пытался получить у одного из акционерных обществ крупную сумму якобы на разведение трюфелей в Подольской губернии, одновременно уговаривая жену окончательно продать свое имение. В марте 1860 г. деятельность Сипко была раскрыта, а сам он был арестован в Туле.
Выяснить его личность так и не удалось. Дело Сипко вызвало ажиотаж столичной публики:
«Всякий раз, как привозят его из тюрьмы в полицию для допросов, у подъезда всем известного здания в Морской14 увидите поря<до>чную массу народа, интересующегося этою личностью…»15.
Обманщик и циник, Сипко вызывал любопытство, но никак не сочувствие. Одни сравнивали его с Кречинским 16 , другие, очевидно преследуя нравоучительные цели, стремились развенчать образ талантливого плута. Характерен словесный портрет преступника, набросанный «Иллюстрацией» В. Р. Зотова:
«Физиономия преступника не отличается ничем особенно типичным: она не бросается в глаза ни умным выражением, ни жесткими чертами. Сипко — росту небольшого; фигурка непрезентабельная, скорее, мизерная, тщедушная, чем геройская. Зато Сипко большой краснобай и любит порисоваться <…>. Особенно противен цинизм его в рассказах о женитьбе на несчастной девушке <…>. Сипко пренаивно сказал: "Я увлекся!" Хорошо увл ечение!»17.
Лесков не оправдывает Сипко, но, как и в случае с Домной Платоновной в «Воительнице» (1866), рисует его облик достаточно отстраненно:
«Он человек заметно умный и не без дарований, но заметно также, что интересы его в тюрьме частию слишком сосредоточились на себе, частию измельчали: он говорит о мелочных тюремных интригах, о Караханове, о других и в разговоре с Л. выразил сожаление к одному подсудимому. Коснувшись этого предмета, он взглянул на нас и, поправившись на кровати, прибавил: "Что ж! ведь никто не поверит, что у Сипко есть сердце?"» [Лесков: 500].
Обобщая, можно сказать, что в очерке Лескова с гораздо большей последовательностью реализуется принцип, заявленный еще некогда Щедриным:
«…и самый страшный злодей возбуждает наше сожаление, коль скоро мы видим его в одежде и оковах арестанта. Нам дела нет до того, что такое этот человек, который стоит перед нами, мы не хотим знать, какая черная туча тяготеет над его совестью, — мы видим, что перед нами арестант, и этого слова достаточно, чтоб поднять со дна души нашей все ее лучшие инстинкты, всю эту жажду сострадания и любви к ближнему, которая в самом извращенном и безобразном субъекте заставляет нас угадывать брата и человека со всеми его притязаниями на жизнь человеческую и ее радости и наслаждения» [Салтыков-Щедрин; т. 2: 336].
В начале статьи мы говорили о двух претекстах «тюремного цикла», заслуживающих быть учтенными при анализе. Помимо «Губернских очерков», это небольшая заметка Н. С. Курочкина (1830–1884), напечатанная в газете «Русский Мир» под псевдонимом Н. Новоспасский . Текст этот ценен в тематическом и жанровом отношении. Это одновременно один из первых отзывов на «Записки из Мертвого Дома» и отчет о посещении той же уголовной тюрьмы, которую в скором будущем посетит и «М. Стебницкий». Как и Лескова, литератора будет сопровождать Лебедев — в передовице «Русского Мира» его фамилию обнародуют.
Сопоставление двух текстов необычайно ярко выявляет оригинальность лесковской манеры. Что же касается Курочкина, то он явно идет по пути наименьшего сопротивления, неловко подражая Достоевскому и воспроизводя стандартный набор клише:
«…я имел случай видеть вблизи внутреннюю жизнь <…> одного из тех мертвых углов , за тяжелыми воротами которых начинается для несчастных первое действие грозной драмы, последние сцены которой с таким ужасом правды описаны г. Достоевским!.. <…>
Увольняю читателей от подробного описания личных моих ощущений. Первое впечатление острога для человека, судьба которого заботливо охраняла от мрачных картин этого рода, может быть передано уже конечно не фельетонною статьею, а разве кистью Рембрандта или сжигающими душу терцетами Данта… Одна привычка может только уменьшить это впечатление: личности, самые развитые, дело жизни которых ставит в необходимость частого или даже постоянного обращения в этих мертвых местах, теряют в некоторой степени ту живую восприимчивость, которая в минуту первого впечатления граничит с болезненностью…»18.
Последний процитированный пассаж явно ближе не к Достоевскому, а к «Ивану Выжигину». Словно торопясь, Курочкин перебирает типичные приемы описания арестантов, в первую очередь, эксплуатируя контраст рутины и преступления: воры и убийцы, конечно, поражают автора своим спокойствием, не выдающим ни скорби, ни укоров совести. Часто арестанты видятся автору «отупелыми», деланно веселыми, напускающими на себя молодецкий вид. Под явным влиянием Достоевского Курочкин записывает:
«…особенно поражает один старичок, ударивший ножом своего гостя во время какой-то ссоры… по внешности это человек чрезвычайно кроткий и при взгляде на него делается почти непонятно, как мог он решиться на такое преступление?..»19.
При упоминании Сипко журналисту было, по всей видимости, важно сохранить интерес к его фигуре, но при этом засвидетельствовать физическую и духовную деградацию афериста:
«Это слабый, хилый, опустившийся и больной человек — выражение лица холодное, хитрое и неприятное, но говорит он очень умно, хотя и парадоксально»20.
Стремясь завершить свой репортаж на мажорной ноте, Курочкин хвалит тюремное ведомство за высаживание цветов, обучение заключенных грамоте и устройство библиотек, а также призывает улучшить питание, вентиляцию и гигиену, ведь «не должно забывать, что преступники — люди!» 21 .
Нет ни малейшего сомнения, что зарисовку «Русского Мира» Лесков читал. Содержательно писатель вряд ли мог спорить с ее основными выводами. Он и сам критиковал гигиенические условия в 3-й Адмиралтейской части: писал, что арестованные едят щи и кашу из общей деревянной посуды, которую, судя по всему, еще и не моют. Вместе с тем, как мы уже понимаем, сложно представить себе что-либо более далекое от стиля Курочкина, чем стиль Лескова.
Следующий очерк, озаглавленный «За воротами тюрьмы (Окончание рассказов о Страстной субботе)», был опубликован в № 110 от 20 апреля. В нем Лесков как будто отходит от прежней манеры, обращаясь к анализу официальных данных. В тексте приводится таблица продовольствия, отпущенного арестантам накануне христианского праздника, с указанием точного количества крупы, муки, масла, грибов, капусты, говядины и т. д. Голая конкретика: факты, цифры, практические предложения. Однако отделение этого текста от предыдущего лишь усиливает запрограммированный писателем эффект: мы будто знакомимся с жизнью обыкновенной хозяйственной единицы, где уже точно нет никаких пропащих душ, не говоря о типах Достоевского. Это впечатление усиливается благодаря открывающему статью эпизоду встречи Стебницкого и Лебедева с неким бывшим заключенным, который регулярно приносит нынешним арестантам еду в память об испытанных им самим лишениях. Этот визитер — юноша, просидевший два года только за то, что его насильно оскопили. Несчастного человека подозревали в злостном сектантстве.
Очерки Лескова вызвали энергичный протест пристава исполнительных дел 3-й Адмиралтейской части Харламова. Харламов написал раздраженное письмо в редакцию «Северной Пчелы», напечатанное в № 116 за 1 мая. Автор письма оказался невосприимчив к тонкостям литературной тактики Лескова, язвил над выраженным в начале «Страстной субботы» желанием «показниться», упрекал его в поверхностных дилетантских суждениях и легкомысленном тоне, не подходящем к предмету:
«…предмет, который вы избрали для описания, заслуживал более опытности и большей точности, чем показали вы. <…> Если вы пожаловали в арестантскую из любопытства, имея в виду набрать материалов для журнальной статьи, то поступили преступно: тюрьма не зверинец, и арестант не кукла, которую можно повертывать по желанию»22.
В письме содержались и более серьезные обвинения (разглашение личной информации). И все же для нас более существенными оказываются жалобы Харламова на «игривость» и «юмор» Лескова, а также на его нежелание осветить избранную тему всесторонне, используя документы:
«Не уважая своего труда, г. Стебницкий не показал уважения и к общественному мнению, на суд которого под серьезным названием представил легкий рассказ, основанный на разговорах арестантов, рассказ, опровергаемый положительными, официальными фактами»23.
Лесков не отказал себе в удовольствии ответить Харламову, а заодно вновь испробовать свой подход. 7 мая 1862 г. в № 122 печатается короткая заметка «От М. Стебницкого», где писатель делится с приставом своим кредо:
«…я не собирался составлять доклад, а намерен был рассказать то, что видел и слышал, а не то, что пишет у себя г. Харламов и tutti frutti24. Г. Харламов, будь он более знаком с значением литературы, вероятно, понял бы, что нам нет дела потчевать публику чиновничьими сочинениями, а мы рассказываем о вещах то, что нам в них представляется, не принимая на себя никакого обязательства отвечать за всякое слово, которое мы слышали и которое со слуха записываем и передаем обществу посредством печати. Мы, слава Богу, не следователи и не ревизоры…» [Лесков: 519].
Вернемся к полемике Лескова и Харламова. Будто потешаясь над серьезным тоном пристава, писатель подкрепляет свои заявления о прерогативах литературы цитатой из поэмы Генриха Гейне «Атта Тролль» (1841) в переводе Д. И. Писарева (1860):
«…в силу нашей неофициальности, во всех странах просвещенного мира нам предоставлено безвредное право
Излагать свои воззренья На политику министров, Возвышенье мореходства, Умножение таможен, Урожай обильный репы И вражды различных партий» [Лесков: 519–520].
В остальных частях статьи Лесков, не стесняясь, глумится над претензиями пристава, атакуя того сразу по двум направлениям. Во-первых, продолжая апеллировать исключительно к художественной литературе (в ход идут цитаты из «Евгения Онегина», а также строчка из стихотворения романтика Э. И. Губера «Стремление» (1831) «Земля человеку — и мать, и темница» 25 ). Во-вторых, писатель обращается к народной речи и бытовому здравому смыслу. В частности, когда Харламов говорит, что вверенное ему учреждение некорректно именовать тюрьмой с юридической точки зрения, Лесков парирует:
«Это там у них по бумагам может значиться как угодно, а для нас, людей простых, всякое место, где человек лишен воли, — тюрьма, и в некотором смысле даже весь свет тюрьма» [Лесков: 520].
Дразня Харламова при помощи диалектизмов и пословиц («Кто сердит да не силен — грибу брат»), писатель входит в роль своего орловского друга, легендарного собирателя фольклора Павла Ивановича Якушкина (1822–1872). Посетив в 1859 г. Псковскую губернию, он был сначала арестован полицией за «мужицкую одежду», а затем, при попытке покинуть Псков, был арестован повторно — на сей раз за то, что переоделся в костюм. Свои злоключения этнограф описал в заметке с ехидным названием «Проницательность и усердие губернской полиции (Письмо к редактору "Р<усской> Беседы")»26. В материале были подробно описаны оскорбления, унижения, манипуляции и вздорные обвинения со стороны полиции, а также невыносимые условия камер (грязь, сырость, смрад, насекомые — Якушкин признавался, что не мог заснуть все двое суток ареста). И вот теперь Лескову представилась возможность отчасти поквитаться за своего друга.
Впрочем, не это было главной целью писателя. Очерки Лескова полны иронии, на которую был способен преданный поклонник Гейне. Германист В. А. Пронин пишет: «Ирония поэта — проверка чувств разумом, это осмысление сиюминутного переживания всем жизненным опытом» [Пронин: 13]. Творческий путь Гейне — путь истинного романтика, отстаивающего автономную ценность поэтического высказывания, но в то же самое время (и по тем же причинам) — это путь пересмешника, провокатора, острослова.
Д. И. Писарев относил немецкого поэта, наравне с Байроном, к типу «титанов воображения» — гениев, способных лишь находить яркие формы для уже выработанных обществом идеалов. В эпохи интеллектуального и духовного кризиса такие души не находят себе места, страдают, тщетно пытаясь компенсировать внутреннюю пустоту сарказмом, игрой фантазии, прихотливым нагромождением замыслов и форм (см.: [Писарев]). Но то, что для Писарева было явлением нездоровым, для Лескова, по всей вероятности, было, напротив, проявлением истинного интеллектуального и душевного здоровья, а также подлинной творческой свободы. Субъективность и ирония, так часто свойственные фельетону (О «фелье-тонности» Гейне см.: [Шкловский: 294–295]), в поэтике «тюремного цикла» используются как противоядие от того, что сам
Лесков называл «односторонним затесом» мышления. В творческую задачу писателя входило избавиться от утрировки и демонизации тюремного быта. Но также нужно было избежать безличного, протокольного, «полицейского» тона, при котором заключенный является всего-навсего объектом надзора и попечения. Вот почему с самого начала Лесков держится необычной интонации, проникновенной и само-ироничной в одно и то же время:
«Назад тому лет восемь я видел страстную субботу в небольшом остроге одного уездного городка Киевской губернии, и день этот произвел на меня ужасно неприятное, потрясающее впечатление. После того я еще два раза был в этот день в двух больших тюрьмах, из которых одна не подлежала гражданскому ведомству. Впечатление то же: сжимающее и гнетущее; но несмотря на то, нынешний год я хотел снова заставить свою душу поболеть и показниться. <…> Остроумные люди должны простить мне, что, говоря о своей привычке посещать тюрьмы в день, в который тюрьма делается еще тяжелее и еще несноснее, я позволил привести в свое оправдание привычку английского писателя с именем, с которым очень приятно ставить свое имя. Это нужно было для объяснений, которые могут кому-нибудь из читателей показаться странными» [Лесков: 465].
Как видим, Лесков с самого начала препарирует стандартные приемы повествовательной мотивировки, не скрывая, что речь идет о литературной условности, хотя тема казни и тюрьмы сама по себе серьезна.
С пародии, с такой же литературной игры начинается и вторая часть очерка, посвященная петербургской уголовной тюрьме. На сей раз Лесков совершенно в гейневском духе забавляется с романтической образностью:
«Здесь в Петербурге на тюремном корпусе нет ни белых башен на желтых стенах, ни наружной кордегардии, ни стрельниц, в глубине которых домовитые галки вьют свои мирные гнезда и в виду печальных заключенных воспитывают головастых птенцов. Они не чувствуют никакого стеснения, сидя на рубцах острожной стены. У них есть крылья, которых нет у человека и которых никак не вымолят у Зевеса поэты всех времен и народов, от Гомера до Алипанова и Милькеева. Вырастет головастая птаха, уйдет из родного гнезда с острожной стены и приютится около чьей-нибудь трубы; снесет пару синих яиц, а добродетельная кухарка подменит их куриными и заставит глупую птицу высиживать цыплят вместо родного галчонка. Жалкая птица! точно русский акционер общества "Сельский хозяин", которое так хорошо усаживало вольных галок на чужие яйца <…> и что, в самом деле, за "замки", у которых снаружи на окнах постоянно почти висят то латаные арестантские рубашки, то пропревшие штаны?» [Лесков: 479].
Лесков вспоминает двух известных в свое время поэтов-самоучек: крепостного фабричного рабочего Е. А. Алипанова (1800/1801–1860) и коллежского регистратора из Тобольска Е. Л. Милькеева (1815–1845). Оба автора привлекли интерес профессионального литературного сообщества, но вскоре обнаружили слабость и подражательность своего поэтического дара, были отвергнуты критикой и тяжело переживали крах едва начавшейся сочинительской карьеры.
Подводя итог, мы можем охарактеризовать цикл Лескова как одно из самых оригинальных произведений «тюремной прозы» 1860-х гг. Молодой автор решительно противопоставляет себя как эпигонской публицистической продукции, так и высоким образцам жанра. Сопоставление лесковских текстов с двумя знаковыми произведениями своей эпохи — «Губернскими очерками» Салтыкова-Щедрина, а также «Записками из Мертвого Дома» Ф. М. Достоевского — позволяет высветить уникальную систему приемов. Гейнеанская ирония, подчеркнутая субъективность взгляда и уход от шаблонных социологических обобщений будто перекидывают мост от ранних вещей Лескова к зрелому периоду творчества с присущим ему «апокрифическим письмом». Не укладываясь в рамки очерка, лесковский цикл кажется совсем не похожим на произведения Щедрина и Достоевского. И в то же время Лесков в каком-то смысле намного ближе к этим писателям, нежели их самые прилежные последователи. Чувствуя общественную и моральную важность разрабатываемой темы, писатель, подобно своим великим предшественникам, стремился к слому любых нарративных конвенций, к созданию новых, синтетических повествовательных форм. Насмешливая декларация «особых прав» художника, изложенная им в письме к Харламову, — не просто писательская провокация. Лесков высоко ставил служение литературы общественным интересам. Однако именно автономия творчества представлялась ему необходимым условием такого служения.