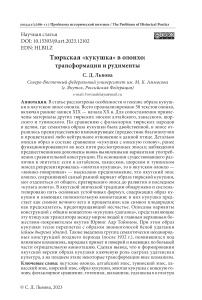Тюркская "кукушка" в олонхо: трансформации и рудименты
Автор: Львова С.Д.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 2 т.21, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены особенности и генезис образа кукушки в якутском эпосе олонхо. Всего проанализировано 58 текстов олонхо, включая ранние записи XIX - начала XX в. Для сопоставления привлечены материалы других тюркских эпосов: алтайского, хакасского, шорского и тувинского. По сравнению с фольклором тюркских народов в целом, где семантика образа кукушки была двойственной, в эпосе отразилось преимущественно импонирующее (предвестник благополучия и процветания) либо нейтральное отношение к данной птице. Детально описан образ в составе сравнения «кукушка с конскую голову», ранее функционировавшего во всех пяти рассмотренных эпосах; наблюдения предшественников дополнены вновь выявленными вариантами употребления сравнительной конструкции. На основании существовавшего различия в эпитетах: если в алтайском, хакасском, шорском и тувинском эпосах репрезентировалась «золотая кукушка», то в якутском олонхо - «звонко-говорливая» - высказано предположение, что якутский эпос олонхо, сохранивший самый ранний вариант образа тюркской кукушки, мог отделиться от общего, пратюркского эпоса до развития в последнем «культа золота». В якутской эпической традиции обнаружено и систематизировано пять основных устойчивых формул, содержащих образ кукушки и имеющих положительную коннотацию: в них кукушка предстает как символ вечного лета и процветания; как символ плодородия; как предсказатель, предотвращающий несчастье. Описаны варианты конструкций с общим концептом «кукушка-удаганка», представляющие эту птицу как транслятора между миром людей и главным верховным божеством-покровителем якутов Юрюнг Аар Тойоном. При этом образ кукушки тесно переплетен с образом звонкоголосой белой удаганки ( айыы дьаргыл удаган ). Также выделена группа семантически неоднородных конструкций позднего периода (после 1932 г.), появившихся под влиянием шаманизма, народных примет и поверий и имеющих по большей части отрицательную коннотацию. Сделан вывод, что в формировании якутской версии образа кукушки ключевую роль сыграла удаганская культура, а на позднем этапе некоторые трансформации внес шаманизм.
Якутское олонхо, алтайский эпос, тувинский эпос, хакасский эпос, шорский эпос, образ кукушки, золотая кукушка с конскую голову, фольклорное сравнение, тотемизм, шаманизм, удаганская культура
Короткий адрес: https://sciup.org/147241436
IDR: 147241436 | DOI: 10.15393/j9.art.2023.12102
Текст научной статьи Тюркская "кукушка" в олонхо: трансформации и рудименты
Г лавным национальным достоянием тюркских народов, проживающих в Сибири и на Дальнем Востоке Российской Федерации (алтайцев, хакасов, шорцев, тувинцев и якутов), является их эпическое наследие. Эпические традиции этих народов, произошедших от общих предков, продолжали развиваться, претерпевая изменения во времени и локации, социальных и культурных условиях жизни своих носителей, и приобрели особенности различного уровня. Каждый эпос стал уникальным, цельным произведением, хранящим в себе историческую память своего народа. Особенно интересным представляется природа якутского эпоса олонхó, «отпочковавшегося» от единого тюрко-монгольского мира предположительно в середине VIII в. (см.: [Иванов: 26]).
Вопросы определения места и роли якутского олонхо в системе тюрко-монгольских эпосов затрагивались уже со времен становления отечественной фольклористики как академической науки (2-я пол. XIX в.) в трудах ведущих ученых В. М. Жирмунского (1974), Е. М. Мелетинского (1978), Б. Н. Путилова (1972) и др.1 В якутском эпосоведении основа сравнительного изучения олонхо и других тюркских эпосов была заложена в 1960–1970-е гг. И. В. Пуховым, который впервые научно обосновал южное происхождение олонхо и провел ряд сопоставительных исследований по сюжетам, образам, художественным средствам эпосов (см.: [Пухов, 2004а, 2004б]). Основные положения его работ нашли отражение в трудах эпосоведов последующего поколения (Н. В. Емельянов, Д. Т. Бурцев, В. М. Никифоров и др.) и развиваются по настоящее время современными специалистами олонховедения и лингвофольклористики (Л. Л. Габышева, М. Т. Сатанар, Ю. П. Борисов, Л. Н. Герасимова и др.)2.
Несмотря на научные изыскания, начало которым было положено полвека назад, «теоретические исследования по общетюркскому эпосу» все еще нуждаются в новых фактах и аргументах (см.: [Иванов: 28]). Выявление общих и характерных черт эпосов является основной задачей сравнительного изучения с целью установления их общности и национальной специфики. Надлежащее внимание должно уделяться «сходству конкретных деталей» [Пухов, 2004а: 290], которое свидетельствует о генетических связях якутов с другими тюркскими народами, а также эпическим формулам, представляющим собой «"зашифрованное" сообщение, посланное из глубины веков» [Габышева: 81]. Одним из таких интересных элементов, на наш взгляд, является образ кукушки.
Образу кукушки в фольклоре тюркских народов России посвящено немало исследований. В работах современных ученых в целом был констатирован амбивалентный характер фольклорного образа этой птицы, раскрыта его семантическая структура, проведены межэтнические параллели3. Наш интерес к образу кукушки возник при компаративном изучении фольклорных сравнений (на материале якутского олонхо и других тюркских эпосов). В дополнение к ранее установленным параллелям между носящими характер сравнения выражением «золотая кукушка с конскую голову» (хакасский и алтайский эпос) и образом «конская голова», передающим размер золота (тувинский эпос; см.: [Орус-оол: 284–285]), идентичные сравнение и образ нам удалось обнаружить также в шорском и якутском эпосах (см.: [Lvova: 141]).
В рассмотренных нами эпических текстах алтайцев, хакасов, шорцев эти золотые птицы были ярко представлены: как правило, они сидели на верхушке священного дерева (тополя, березы) и выполняли немаловажные функции в развитии сюжета. Для сравнения: в якутском и тувинском эпосах кукушка золотого цвета как отдельный образ не упоминается. Между тем кукушка у якутов и тувинцев также является сакральной птицей. В определенных жанрах фольклора, в частности, в сказке, ей отводится достаточно значительная, иногда главная роль (см.: [Музраева: 84, 88]). В якутской фольклорной традиции у «кукушки» усилена негативная символика: как «шаманская птица» она наделена внушающими опасение магическими свойствами (см.: [Куприянова: 25]). Предполагалось, что при описании в олонхо прекрасного священного дерева подобное представление о кукушке накладывало табу на раскрытие ее образа, что в дальнейшем привело к его полной деактуализации. Однако второй компонент сравнительной структуры, образ «конская голова», сохранился, более того — стал универсальным эталоном сравнения для преувеличения размера какого-либо объекта: огнива, богатырского кулака, абстрактного понятия (например, счастья) и т. д. Языковое оформление этого образа сравнения имеет несколько вариантов, эпитет в нем в основном указывает на возраст коня (обычно алталаах ʹшестигодовалыйʹ или аҕыстаах ʹвосьмигодовалыйʹ), что способствует дополнительной гиперболизации объема описываемого объекта. Наиболее часто образ служит эпитетом богатырского огнива, например: Аллаах ат баһын саҕа / Ала чокуурдаан хататтаах4 ʹС голову резвого коня пестрое кремневое огниво имеетʹ5.
Особая популярность образа «конская голова» и отсутствие образа «золотая кукушка» при развернутой репрезентации мирового дерева в олонхо подводили к мысли о необходимости более тщательного изучения якутских эпических текстов. Так, с целью выявить следы функционирования общетюркского сравнения «золотая кукушка с конскую голову» и определить семантическую структуру образа кукушки в олонхо и с опорой на традиционную методологию текстологического исследования, включающую описательный метод, контекстный, структурный и семантический анализ, а также классификацию, нами было изучено 58 текстов якутского эпоса, включая ранние записи XIX — начала XX в. Для упрощения и ускорения процесса работы с большим объемом эпических текстов были использованы возможности компьютерных текстовых редакторов: сбор сведений осуществлен с помощью автоматизированного поиска, полученные материалы систематизированы путем составления электронной базы данных. Основным методом исследования стал сравнительный анализ, позволяющий выявить трансформации эпических формул якутского олонхо в диахроническом аспекте, а также общие элементы в родственных эпосах в синхронии.
Семантическая структура «кукушки» в олонхо
Из рассмотренных 58 текстов олонхо образ кукушки так или иначе упоминается в 53 (91%). Установлено пять основных эпических формул олонхо с этим образом — две из них ранее были подробно проанализированы в работе Л. Л. Габы-шевой как эпические формулы, содержащие анимальный код (см.: [Габышева: 82–90]).
-
1. Кэрээбэт кэ ҕ элээх ʹс кукушкой, не перестающей куковатьʹ. Используется в составе параллелизма с привлечением образа горлицы ( ө р өө б ө т ө т ө нн өө х ʹс горлицей, голосящей безпрерыв-ноʹ), а также турухтана, орла, беркута. Варианты выявлены в 35 текстах из 58 (60%). Данная формула впервые зафиксирована в тексте А. Я. Уваровского, датируемом 1848 г. Символизирует вечно цветущую природу, идеальный эпический мир, находящийся в гармонии. Начиная с записей 1941 г., в некоторых олонхо (чурапчинском, хангаласском, усть-алданском, сун-тарском) отмечается отрицательная форма: этэр кэ ҕ этэ эп-пэт буолла ʹнеугомонная кукушка замолклаʹ. Этой формулой сказители обозначают наступление в мире хаоса, беды. В ви-люйской6 эпической традиции вместо эпитета кэрээбэт устойчиво используется определение хараабат ʹне ослабевающий, не перестающийʹ. Этот эпитет в текстах центральной традиции
отмечен лишь в трех текстах: А. Я. Уваровского «Ахтыылар»7 (1848), в «Нюргун Бёгё»8 (1941) и в «Мюгюлю Бёгё»9 (1941).
-
2. Кэтэ ҕ ириин олорор ки һ и кэ ҕ э са ҕ а буолан к ө ст ө р ʹНа задней части сидячий человек кажется величиной с кукушкуʹ — член постоянной эпической формулы, оформленной в четырехчленный параллелизм с привлечением образов разных птиц: глухаря, ласточки, кроншнепа, ворона и др. Варианты обнаружены в 25 текстах (43%). Первая фиксация также произведена в тексте А. Я. Уваровского «Ахтыылар»10 (1848), вторая — в «Аландаайы-Куландаайы Кулун Куллуруускай»11 (1880-е). Вариант А. Я. Уваровского несколько отличается от традиционного: в нем фигурируют такие образы, как хахай ʹлевʹи уордаах кыыл ʹлютый зверьʹ. Является постоянной составной частью типического места «описание богатырского жилища» и служит для гиперболизации размера пространства. Соотнесение кукушки с задней/западной стороной жилища связывают как с идеей плодородия, т. к. это традиционное место расположения супружеского ложа ( кэтэ ҕ ириин орон ) у якутов, так и с почитанием кукушки как шаманской птицы, которая «служит вехой на дороге к божеству Улуутуйар Улуу Тойону, отцу и главе шаманов, обитающему на западном небосклоне» [Габышева: 86]. На наш взгляд, в этой эпической формуле кукушка в большей степени символизирует женское начало. В пользу этого мнения говорят четыре варианта производной формулы кэ ҕ э са ҕ а кэргэнэ биллибэт ʹнет жены с кукушкуʹ в текстах таттинского (П. А. Ойунский)12 (1932),
сунтарского13 (1938), хангаласского14 (1941) и кобяйского15 (1941) олонхо. При этом, в тексте П. А. Ойунского, вероятно, зафиксирована ее переходная форма: « кэргэн дьахтар баара кэтэ ҕ э ыалдьан, кэ ҕ э са ҕ а буолан кэдэ ҕ элдьийэн тиийдэ ҕ инэ, кэтэ ҕ эриин диэки ө тт ө … »16 ʹесли супруга, что была, прогибаясь от боли в затылке, отступала назад так, что виднелась только с кукушку, то задняя сторона… (жилища восклицала по-человечески осуждающие слова)ʹ.
-
3. Кэлин сэргэтэ кэ ҕ э кыыллаах ʹзадняя коновязь с кукуш-кой-зверьюʹ. Данная формула выявлена в 24 текстах олонхо (41%), в том числе в первой записи «Эриэдэл Бэргэн»17 (1844). Не характерна для текстов вилюйской эпической традиции. Одна из трех коновязей ( наряду с лучшей (басты к сэргэ) и средней (орто сэргэ) ) , стоит на западной стороне. Следует отметить, что по этнографическим материалам у якутского шамана были столбы, с насаженными на них изображениями девяти пар разных птиц: «гагар, стерхов, символических двухголовых птиц ёксёкю , воронов, кукушек, болотных куличков, чаек, петуха и курицы, птиц джиэрэнг (одного из видов куликов)» [Алексеев, 2008: 37]. В текстах олонхо лучшая коновязь традиционно украшена изображением мифической птицы бар кыыл , редко — тигра, льва; средняя коновязь — изображением двух- или трехглавой мифической птицы ёксёкю , иногда глухаря, редко — гоголя, вóрона, горлицы. Кукушка же является непременным и единственным атрибутом третьей коновязи, которая имеет самый низкий статус. Также в одном тексте олонхо, записанном в 1941 г., выявлен пример, где упоминается, что эта коновязь предназначена для женщины: « кэрдиис ойуулаах, кэ ҕ э кыыллыы мэтириэттээх киниит дьахтар
кэлэн т үһ эр кэнники сэргэлээх »18 ʹукрашенную насечками, с изображением в виде кукушки-зверя, предназначенную для невестки заднюю коновязь имеетʹ. Необходимо также отметить, что в ранних записях — «Эриэдэл Бэргэн»19 (1944), «Потомки Юрюнг Айыы Тойона»20 (1890), и текстах северной традиции — момских «Кётёр Мюлгюн»21 (1940), «Хаарылла Мохсо-гол»22 (1940), среднеколымских «Эрбэхчин Мэргэн»23 (1945), «Лабангхачаан старик» (1945)24, «Кюн Мёнгюрюён старик и Кюн Тэйгэл старуха»25 (1946), коновязи с кукушками олицетворены: они способны «говорить по-кукушечьи», разговаривать, прогонять или призывать приезжего. Это говорит о том, что кукушка некогда могла быть действующим персонажем, который постепенно становился пассивным, превратившись в статичный элемент коновязи.
-
4. Кэтэ ҕ эр кэ ҕ э кыыллаах ʹс кукушкой на загривкеʹ. Выявлена в 9 текстах (16%). Является составной частью эпитета богатырского коня, указывает на его магический дар предвидения. Имеет параллель с выражением кулгаа ҕ ар кура ҕ аччы кыыллаах ʹс кроншнепом на ушахʹ, символизирующим чуткость, бдительность. Есть и другие образы птиц, соотнесенные с отдельными частями тела, но они характеризуют физические данные коня (выносливость, силу, быстроту). Вероятно, семантическое содержание данной формулы объясняется тотемными представлениями предков якутов: орнитоморфный образ, некогда наделенный важными сакральными функциями26, постепенно те ряет свою актуа льность вследствие наступающего доминирования
культа коня, отступает на задний план и сохраняется в сокращенном виде — как формула-код. Эта трансформация зафиксирована в самом раннем варианте формулы — в верхоянском тексте «Хаан Дьаргыстай»27: « кэ ҕ э кыыл кэккэлэччи олорбутун курдук кэтэ ҕ эр кэр чуор кулгаах таах » ʹбудто кукушки-звери рядом опустились, с чуткими ушами на затылкеʹ. Данный вариант формулы интересен тем, что представляет собой ее переходный этап — до слияния образа кукушки (в виде кода: «дар предвидения») с образом коня: здесь «кукушка» является эталоном сравнения при описании объекта «ухо». Похожая семантическая структура обнаружена и в другом верхоянском олонхо, текст которого записан намного позже, в 1945 г.: « Кэ ҕ э кыыл кэтэ ҕ ин ө лб ү ргэтин са ҕ а өҥү ргэс т ө т ө рк ө й мэ ҥ э-дьэллик кулгааххын мин дьиэкки сигэ туттан истэн сэргэхсийэн олор »28 ʹC огузок затылка кукушки-зверя, большие чуткие ушные раковины свои в мою сторону направив, слушая, в бодрости сидиʹ. В этом случае сравнение использовано применительно к человеку (а не к коню), при этом его функция осталась прежней — передача бдительности, проницательности, способности предвидения.
-
5. Этэр тыл иччитэ кэ ҕ э кыыл буолан эттэ ʹдух слова-речи кукушкой-зверью (став) заговорилʹ. Варианты зафиксированы в 8 текстах центральной традиции олонхо (главным образом бо-турусской группы29 улусов и одного олекминского олонхо) и отсутствует в текстах вилюйской и северной традиций олонхо. Эта сложная по структуре и, возможно, самая ранняя, имеющая глубокие по своей этимологии корни формула, имеет несколько различных, на первый взгляд производных конструкций, которые мы, однако, относим к единой группе с условным названием «кукушка-удаганка». В концепт «кукушка-удаганка» мы включаем такие понятия, как «вещее слово», «благословение-алгыс», «возрождение с помощью силы слова», «возрождени е, воссоздание», «изобилие», «плодородие»,
«женское». В рассмотренных текстах отмечены примеры воплощения образа кукушки в дух слова (речи, обращения) у персонажа олонхо. При этом важно отметить, что не всякое слово олицетворяется — особую силу, дух приобретает только особенная весть, имеющая ключевую роль в судьбе героя и его соплеменников, или мольба к верховному божеству. Первый пример воплощения духа слова в образ кукушки и, одновременно, наше искомое сравнение «кукушка с конскую голову» обнаружены в тексте ранней записи «Элик боотур и Нигыл боотур» (1896): « этэр тылым ирчитэ алталаах атыыр сылгы ба һ ын са ҕ а этэр чуор кэ ҕ э кыыл буолан тахсан эттэ ҕ э буоллун »30 ʹпусть дух изреченных слов моих, превратившись в звонко-говорливую кукушку-зверя с голову шестигодовалого коня-жеребца, поднявшись в небо, возвеститʹ. Эти слова говорит главный герой олонхо, обращаясь за помощью к высшему божеству Юрюнг Аар Тойону (см. об этом подробнее ниже). В тексте П. А. Ойунского (1929–1932) отмечаем утрату образа конской головы в этом сравнении: « Аан ийэ дайдыт-тан Аан-Алахчын хотун тыллаах-сы ҥ аа ҕ ын иччитэ тырым-ныы к ө т ө н тыкааран тахсан, кэ ҕ э кыыл буолан кэтэ ҕ э кэ- ҕ и ҥ нээн… »31 ʹС матери-земли дух слов ( досл . дух челюсти с языком) Аан-Алахчын госпожи, сверкая, выпорхнул и, превратившись в кукушку-зверя, откидывая затылок назад…ʹ, т. е. сообщение духа-хозяйки Земли, которое тоже представлено как самостоятельный дух, доходит до главного божества Юрюнг Айыы Тойона в облике кукушки.
Интересно имя небесной удаганки в другом тексте, где эпитет характеризует обладательницу магии слова: «кэҕэ чоргуор тойуктаах, аан таныар алгыстаах Күн Умсуор удаҕан»32 досл. ʹс тойуком — звонко кукующей кукушкой, с всеохват-ным-всемогущим благословением-алгыс Кюн Умсуор удаган-каʹ (1944). Эта удаганка выполняет важную роль в сюжете олонхо: она является дочерью Улуу Тойона — покровителя шаманов и главы злых духов Верхнего мира, и участвует в предопределении судьбы главной героини вместе с тремя другими персонажами — главным божеством Верхнего мира Юрюнг Айыы Тойоном, божеством Джылга Хааном, определяющим судьбы людей, и небесным писарем; и именно она, после инициации героини как воительницы, нарекает последнюю новым именем. В тексте олонхо, записанном в 1941 г., в развязке сюжета девушка-удаганка — суженая главного героя — сама принимает облик кукушки и своим пением оживляет мировое дерево на своей родине. Все образы кукушки в этих конструкциях тесно перекликаются с типическим образом небесной удаганки в олонхо, в трудную минуту приходящей на помощь главному герою и способной оживить мертвого человека с помощью благословения-алгыс или живой воды/ влаги. По материалам этнографии, у якутов удаганка, именуемая айыы дьаргыл удаҕан ʹзвонкоголосая белая удаганкаʹ, «в прошлом занимала какое-то промежуточное положение между белыми и черными шаманами» и «по просьбам частных лиц, совершала моления о даровании детей, приплода рогатому и конному скоту; особые моления о предотвращении хвори у малых детей и пр.» [Алексеев, 2008: 138].
Проявление негативной семантики у образа кукушки в формулах рассматриваемой группы отмечено лишь в одном тексте (1941) — при описании мирового дерева, традиционно олицетворяемого и наделенного способностью размышлять о своей судьбе: «орусхал мас буолан төбөбүттэн кууран <…> кэҕэ кыылым олорон кэпсиир маһа буоллахпына, сэттээх-сэлээннээх, сэмэлээх-суҥхалаах буолуом»33 ʹразвалиной становясь, высыхая сверху <…> если превращусь в дерево, на котором сидя, будет куковать кукушка, то не избежать мне возмездия-расплаты, порицания-упрекаʹ. Как нам представляется, это выражение является импровизацией сказителя позднего периода, в нем четко отражается влияние народных примет и поверий о кукушке, сулящих несчастье и беду (см.: [Куприянова: 25]). Отмечен пример контаминации с негативной семантикой в тексте «Шаманки Уолумар и Айгыр», где по-кукушечьи заговаривает дух западной горы в Нижнем мире34.
Таблица 1
Семантическая структура эпических формул олонхо с «кукушкой»
|
№ |
Эпические формулы |
Семантические компоненты |
|
1 |
Кэрээбэт кэ ҕ элээх |
|
|
2 |
Кэтэ ҕ ириин олорор ки һ и Кэ ҕ э са ҕ а буолан к ө ст ө р |
|
|
3 |
Кэлин сэргэтэ кэ ҕ элээх |
|
|
4 |
Кэтэ ҕ эр кэ ҕ элээх |
|
|
5 |
Этэ тыл иччитэ кэ ҕ э кыыл буолан... |
|
|
6 |
Дороги-перевалы с кукушками, ведущие в иной мир |
|
Стоит обратить внимание, что в ранних текстах олонхо (с 1884 по 1906) не встречаются выражения с образом кукушки с заведомо отрицательной семантикой. Начиная с текста П. А. Ойунского (1932), кроме перечисленных устойчивых формул, сказители допускают авторские привнесения, которые в дальнейшем не передаются в другие тексты. Такие импровиза ции, содержащ ие образ кукушки, установлены в 16 текстах.
При этом подавляющее большинство из них (93%) носит отрицательную семантику и по большей части описывает проход в мир злых духов Верхнего мира и в Нижний мир: « суордаах-кэ ҕ элээх Суодуйа хаан дьураа хара аартык »35 ʹс воронами и кукушками, чернеющий вдали перевал Суодуйа-ханʹ, « кэ ҕ элии этэ турар дьалхааннаах-анысханнаах дьабын таас ула ҕ ата »36 ʹпо-кукушечьи говорящая, тревожная-беспокойная задняя сторона скалыʹ, « кэ ҕ э миинин курдук кэмсиин-имсиин сибиирдэр »37 ʹбудто сварили суп из кукушки — такого цвета мрачно-ненастные землиʹ, « тимир чоргуор кэ ҕ элээх »38 ʹс железной звонкоговорящей кукушкойʹ, « кэлэ ҕ эй кэ ҕ элээх »39 ʹс кукушкой-заикойʹ, « кэтэ ҕ эр кэ ҕ э сымыыттыы сыспыт »40 ʹна затылке его чуть было кукушка не снесла яйцаʹ и др.
Образ кукушки с позитивной семантикой встречается только в двух импровизациях. Первый — в описании пейзажа в олонхо «Нюргун Бёгё» (1940): «кэҕэ кыыл кутуругун курдук кэдэрийэн-иэҕиллэн тахсар кэтэх тыа»41 ʹподобно хвосту кукушки-зверя, прогибаясь-поворачивая, вырастающий задний лесʹ. Обычно для описания дремучих лесов в олонхо привлекаются образы хищных птиц и зверей, что отражает скрытый страх древнего человека перед силами природы (см. об этом: [Львова, 2022: 19]), но в нашем случае изображен не дремучий, а обычный «задний лес», и вместе с образом кукушки используется образ чтимого якутами зверька — соболя. Второй положительный образ кукушки находим в олекминском олонхо «Улуу Даарын» (1940) — как часть эпитета божества плодородия Айыысыт: «этэр кэҕэ илдьит-тээх»42 ʹс предвестником — кукушкой говорливойʹ, то есть приводящей за собой лето и благополучие.
Образ кукушки в других тюркских эпосах: функции, семантика
Как уже было отмечено, в фольклоре всех тюркских народов семантика образа кукушки двойственна (положительная и отрицательная). Однако в эпосе прослеживается преимущественно положительное отношение к этой птице. Так, представление кукушки как тотемной птицы в наибольшей степени сохранилось в хакасском эпосе. Хакасская арығ табыстьiғ кӧӧк хузы ʹчистоголосая птица кукушкаʹ, предположительно восходящая «к дошаманистской мифологии хакасов — к тотемистическим воззрениям», обычно предстает «вещей птицей, мудрой наставницей героев»; «от ее кукования мертвое возрождается к жизни, засохшие деревья покрываются зеленой листвой. Нередко в эпосе встречается мотив превращения в кукушку старшей сестры богатыря-героя, которая оживляет погибшего брата своим кукованием» [«Ай-Хуучин»: 441]. В эпосе «Ай-Хуучин» душа главной героини превращается в двухглавую кукушку (iкi пастьiғ кӧӧк хус), чтобы скрыться от врагов43. С образом кукушки также тесно связана полая скала Ах-Хайа — тайная родовая усыпальница-склеп представителей знатного рода, к которому принадлежит главная героиня; на этой скале возвышается священная береза с золотыми листьями, а на вершине березы сидит золотая кукушка (алтын кӧӧк), своим кукованием подсказывающая местонахождение этой скалы. В варианте другого сказителя эта усыпальница представлена не как склеп, а как потайное место на хребте Кирим-сын. «Когда кукушка начинает куковать, в небо вздымается горная бело-сизая вершина (агыл-кoгiл ти-гей), открывая белый каменный гроб. После захоронения горная бело-сизая вершина от кукования кукушки вновь опускается с неба и, закрыв собою гроб, уходит в землю» [Описание вариантов сказания «Ай-Хуучин»: 467]. Здесь следует отметить, что в тексте якутского олонхо северной традиции «Лабангхачаан старик» есть похожий интересный эпизод: могущественная небесная шаманка, защищая главного героя и его суженую, достает из кармана кыһыл алтан (букв. «красно-медный», в контексте означает «золотой») наперсток, превращает его в золотистый дуур таас булгунньах ʹогромный каменный курган/холмʹ, на верхушке которого сидит кулик, а у подножия — кукушка44. Функция этих магических объектов остается имплицитной, но, когда чудовище после долгих попыток наконец поднимается на верхушку холма и пытается расцеловать шаманку, восседающую там в облике прекрасной женщины, дух шаманки превращается в сыа таас ʹсыа-каменьʹ и, пройдя через ноздри в желудок чудовища, подвергает его мучительной смерти. Можно утверждать, что в этом якутском эпосе тоже могли сохраниться следы тотемизма.
Шорцы также связывали пробуждение природы с кукованием кукушки. Кукушка — особо почитаемая многими шорскими родами птица, «о ней сложено много мифов. <…> с ней связаны многие поверья, традиционные религиозные представления шорцев, считавших кукушку вещей птицей» [«Кан Перген»: 441]. В эпосе же алтын к ӧӧ к ʹзолотая кукушкаʹ выполняет роль вестницы, она оповещает о ходе конных скачек во время сватовства героя45. В другом шорском эпосе «Алтын Сырык» описывается золотая гора ( алтын тайга ) с шестьюдесятью перевалами, на которую поднимается богатырь по подсказке голоса золотой кукушки. На самой верхушке этой золотой горы растет золотая береза, под которой восседают три творца — они одариваю т бездетного главного героя сыном46.
В алтайском эпосе функционируют четыре формулы с положительной семантикой: 1) В тексте «Маадай-Кара» на вершине семиколенного вечного тополя сидят «две одинаковые, с конскую голову, золотые кукушки»47, и от их непрестанного гулкого кукования на Алтае распускаются цветы. Сходный вариант формулы ат пажындый алтын к ӱӱ к анда-мында эдип jадат 48 ʹс конскую голову золотая кукушка там и здесь куковалаʹ в тексте «Очи-Бала» участвует в описании благодатной эпической местности, где царят процветание и гармония. 2) Когда главная героиня-богатырка возвращается с очередной охоты, « ат пажындый алтын к ӱӱ к ат кулакта кожо ло кел jат, кой пажындый ко ҥ ыр к ӱӱ к колтыгында кожо ло кел jат »49 ʹзолотая кукушка с конскую голову с ушами коня вровень летит, бурая кукушка с овечью голову с подмышками [коня] вровень летитʹ. Эта структура перекликается с якутской формулой кэтэ ҕ эр кэ ҕ э кыыллаах ʹс кукушкой на загривкеʹ, которая является составной частью развернутого эпитета богатырского коня и указывает на его дар предвидения. 3) Формула ай-кулакка алтын к ӱӱ к эткендий ʹсловно в луновидное ухо золотая кукушка прокуковалаʹ в тексте «Кан-Алтын» характеризует разных персонажей эпоса, которые говорят то, что должно было быть сказано, или совершают предопределенный поступок/действие50. Таким образом, эта формула, как и вторая, указывает на способность персонажа предугадывать, предвидеть, но с дополнительной смысловой нагрузкой: «предопределение», «следование по предначертанной благоприятной (!) судьбе». 4) В тексте «Маадай-Кара» говорится, что две кукушки на верхушке тополя обладают даром предвидения: «кому предназначена счастливая жизнь, тех радуют золотые кукушки, кому предназначена плохая судьба, тех печалят серые кукушки»51.
В целом можно сказать, что в алтайском эпосе, в отличие от других родственных эпосов, произошло удвоение образа кукушки: 1) на тополе сидят две золотые кукушки; 2) рядом с богатырским конем одновременно летят золотая и бурая кукушки; 3) вещие кукушки бывают двух видов: одна радует хорошими вестями, а другая, наоборот, сообщает о чем-то плохом.
В тувинской эпической традиции обнаруживается только сравнительная конструкция аът бажы дег алдын ʹзолота — с конскую головуʹ (устойчивая формула в эпических текстах «Боктуг-Кириш, Бора-Шэлей»52 и «Алдай-Буучу»53), которая ранее была определена нами как производная от сравнения «золотая кукушка с конскую голову»: «Если в якутском эпосе произошла полная деактуализация исходного объекта сравнения, то тувинскому эпосу, вероятно, удалось сохранить периферийную часть объекта (то есть эпитет «золотой»), преобразив её в самостоятельный объект сравнения» [Львова, 2021: 211]. Однако установлено, что у тувинцев есть сказка, в которой «акцентируется наиболее характерное свойство кукушки, за что она несет скрытое наказание»: кукушка претендует на роль царя (=хана) птиц, обосновывая это тем, что от ее «пения вся земля весной в зеленый убор наряжается», однако птицы ей отказывают — они возмущены «тем, что она не высиживает птенцов» [Музраева: 85]. В этой сказке, на наш взгляд, дается прямое объяснение, почему образ кукушки с положительной семантикой был вытеснен из тувинского эпоса, и остался лишь его компонент с нейтральной оценкой.
В результате изучения материалов тувинского фольклора был обнаружен миф под названием «Бурая кукушка, имеющая лошадиную голову» — он упоминается в труде якутского этнографа Н. А. Алексеева: «По мифу считалось, что в древние времена, пока в Туве обитала такая кукушка, все вокруг оставалось вечно зеленым. После того, как она улетела из Тувы, травы и деревья стали блекнуть на зиму. И только ель, сосна и кедр оставались зелеными потому, что на них любила садиться бурая кукушка. <…> [реальные кукушки,] прибыв в теплую южную страну, лгут бурой кукушке, говорят, что в Туве не осталось деревьев, на которые она могла бы сесть. Возможно, оба мифа сложились у общих предков якутов и тувинцев» [Алексеев, 2004: 7]. Н. А. Алексеев также отметил, что «тувинцы, как и якуты, связывали появление зелени с мифической птицей», но «пренебрежительно относились к реальным кукушкам» [Алексеев, 2004: 7]. Изложенный миф содержит раннее позитивное представление тувинцев о кукушке; можно также предположить, что образ «бурая кукушка с лошадиной головой» является вариантом более ранней формы «золотая кукушка с конскую голову». Образ примечателен и тем, что в нем сохранен след переходного этапа: от почитания тотемной птицы к культу коня. Следовательно, сравнение кукушки с лошадиной головой не было простой ассоциацией понятий по какому-либо общему признаку — это сложная семантическая структура, берущая корни в глубоко архаичных, мифологических представлениях древних тюрков.
Трансформации и рудименты тюркской «кукушки» в олонхо
Трансформированный вариант общетюркской «золотой кукушки с конскую голову» обнаружен в тексте якутского олонхо «Элик боотур и Нигыл боотур», записанном в 1896 г. неким Р. Александровым в Ботурусском улусе Якутии (см. Табл. 2 ).
Таблица 2
Варианты образа «золотой кукушки с конскую голову» в тюркских эпосах
|
Оригинал |
Перевод |
|
|
=s s к о =S cd H К < |
Jeти ӱ йел ӱ м ӧҥ к ӱ терек бу ба-жында Эки т ӱҥ ей ат бажынча алтын к ӱӱ к 1) 1) Маадай-Кара. Алтайский героический эпос. С. 68 |
На вершине семиколенного вечного тополя Две одинаковые, с конскую голову, золотые кукушки 2) 2) Маадай-Кара. Алтайский героический эпос. С. 252 |
|
=s s к о о cd К cd и |
Пай хазы ң ны ң пазында Ат пазында ғ алтын к ӧӧ к 3) 3) Хакасский героический эпос: «Ай-Хуучин». С. 194 |
На вершине священной березы Золотая кукушка с конскую го-лову 4) 3) Хакасский героический эпос: «Ай-Хуучин». С. 195 |
|
=s s к о О a |
Қ азы ң паштарында Ат пажынча Алтын к ӧӧ ктер қ а ғ ыш-ч ӧ рча 5) 5) Кара Сабак // Шорские героические сказания: Кара Кан, Кара Сабак. М.: Ин-т перевода Библии, 2014. С. 118 |
На верхушках березы Размером с голову коня Золотые кукушки щебетали 6) 6) Кара Сабак // Шорские героические сказания: Кара Кан, Кара Сабак. М.: Ин-т перевода Библии, 2014. С. 119 |
|
s о К H |
Аът бажы дег алдын , Б ө р ү бажы дег м өң г ү н 7) 7) Ооржак М. Н., 1997. С. 382, 456, 500, 508 |
Золота — с конскую голову , Серебра — с волчью голову 8) 8) Ооржак М. Н., 1997. С. 382, 456, 500, 508 |
|
s H t^ |
…этэр тылым ирчитэ алталаах атыыр сылгы ба һ ын са ҕ а этэр чуор кэ ҕ э кыыл буолан тахсан эттэ ҕ э буоллун 9) 9) Олонхо Жулейского наслега. С. 238 |
…Пусть дух изреченных слов моих, С голову жеребца шестигодовалого В звонко говорливую кукушку -зверя обратившись, известит, поднявшись (пер. автора) |
Кукушка, представленная в якутском олонхо, является духом изреченных слов. Ее функция не имеет разительного отличия от общетюркского: она так же передает сообщение (от главного героя-богатыря высшему божеству Юрюнг
Айыы Тойону), извещает о важном (мольба о помощи при опасной ситуации). Особенность этой кукушки заключается в отсутствии эпитета алтын / алдын ʹзолотойʹ. Известно, что в якутском эпосе, в отличие от алтайского, хакасского, шорского и тувинского, ʹзолотоʹ (в современном якутском языке — кы һ ыл к ө м ү с ) не является приоритетным металлом — самым благородным металлом в олонхо, как и в бурятском эпосе, выступает к ө м ү с ʹсереброʹ. Слово алтан в современном якутском языке означает «медь». Однако в эпических текстах сохранился «узкий круг определяемых слов» ( алтан сэргэ ʹзолотая коновязьʹ, алтан ньээкэ ʹдорогое гнездо, родной очагʹ, алтан т үө стээх далбарайым ʹзлатогрудый мой птенчикʹ и др.), «по отношению к которым алтан является постоянным эпитетом» в устаревшем значении «золотой» (см.: [Корякина: 120–121]). На наш взгляд, «кукушка», обладающая такой насыщенной сакральной семантикой, тоже должна была сохранить свой эпитет «золотая». А был ли он у нее изначально?
В материалах по якутскому олонхо нами обнаружена только одна номинация алтан кэ ҕ э в литературном тексте «Нюр-гун Боотур Стремительный» П. А. Ойунского, «воссозданного» им в 1932 г. на основе услышанных от известных якутских сказителей олонхо (см. Табл. 3 , строка «Отрицательная»). Но в этом случае эпитет алтан использован, скорее, в значении ʹмеднаяʹ: в олонхо сказывается, что перевал Кэхтия Грозная с медными кукушками служит проходом между Средним и Верхним мирами, по нему верхние злые духи спускаются на землю, принося людям разрушение и беду; этот же путь ведет к главе злых духов Верхнего мира, покровителю шаманов Улуу Суорун.
В эпитете этэр чуор ʹзвонко-говорливаяʹ акцентирована способность кукушки предсказывать будущее (вещая птица). Такая тенденция сохранена во всей якутской эпической традиции — в других текстах олонхо встречаются также эпитеты кэрээбэт/хараабат ʹне перестающая (куковать)ʹ, кэрээбэккэ этэр ʹнепрестанно говорящая (кукующая)’, кэрээбэккэ кэпсиир ʹнепрестанно рассказывающаяʹ, кэхтибэт ʹнеослабнаяʹ, кэхтибэккэ этэр ʹнеослабно говорящаяʹ, этэр ʹговорящаяʹ, кэр чуор саҥалаах ʹпрерывисто(?) звонкоголосаяʹ, кэпсии олорор ʹбукв. рассказывая, сидящаяʹ, кэпсии-кэҕийэ олорор ʹбукв. безостановочно рассказывая, сидящая’ и т. п. Эпитеты, содержащие цветовые характеристики, обнаружены только в двух текстах, записанных в 1941 г.: кукдахай дьүһүннээх кэҕэ кыыл54 ʹсо светло-бурым/бурым окрасом кукушка-зверьʹ и ала кэҕэ кыыл55 ʹпестрая кукушка-зверьʹ. Отметим, что в тувинском мифе «кукушка с лошадиной головой» тоже была «бурая». Кроме того, на материале алтайского эпоса мы рассматривали две отдельные формулы, в которых «золотая кукушка» предстает в паре с коҥыр кӱӱк ʹбурой кукушкойʹ56. Несомненно, в рассмотренных тюркских эпосах «бурая кукушка» присутствовала, но определить, какое именно место она занимала, пока не представляется возможным ввиду недостаточности источников.
Также вызывает интерес следующий любопытный факт: самец кукушки обыкновенной бывает серого окраса, а самка — как серого, так и рыжего цветов57, т. е. рыжей может быть только кукушка-самка (бурый цвет — заимствование из тюркских языков, первоначально означал «рыже-красный» и широкий спектр цвета, начиная от оттенков коричневого до серого, от орехового до «искрасна-черноватого»58). Следовательно, тюркская «золотая кукушка» является воплощением образа именно кукушки-самки, что отразилось также на ее гендерной характеристике.
Таблица 3
|
s =г я м о S S о |
Оригинал |
Перевод |
|
<3 и л к <и н cd Я" Я & н О |
Алталаах ат сылгы Ада ҕ атын са ҕ а Алтан кэ ҕ э нэн Хабыала һ а олорор, Хааннаах харах уутунан сууммут Кэ ҕ элээх Кээхтийэ-хаан аартык 1) 1) Нюргун Боотур Стремительный. С. 64. |
С колодку шестигодовалого коня медных кукушек вверх подбрасывающий, омываемый кровавыми слезами перевал С кукушками Кэхтия Грозная (пер. автора) |
|
<3 и л к н S Й О о С |
Аан-Алахчын хотун Тыллаах-сы ҥ аа ҕ ын иччитэ Тырымныы к ө т ө н Тыкааран тахсан, Кэ ҕ э кыыл буолан… 2) 2) Нюргун Боотур Стремительный. С. 77. |
Дух слов ( досл . дух челюсти с языком) Аан-Алахчын госпожи, Сверкая, выпорхнул и, превратившись в кукушку -зверя… (пер. автора) |
Репрезентация образа кукушки в эпическом тексте П. А. Ойунского
В тексте П. А. Ойунского встречается образ кукушки, по функции идентичный с вариантом из олонхо «Элик боотур и Нигыл боотур», но без сравнительной конструкции и без образа лошадиной головы: на этот раз к высшему божеству Юрюнг Айыы Тойону в облике кукушки должен долететь и передать сообщение дух изреченных слов духа-хозяйки Земли Аан Алахчын (см. Табл. 3, строка «Положительная»). Любопытно, что в одном тексте произошла одновременная фиксация вариантов негативной и положительной коннотации образа кукушки. Это объясняется тем, что литературный текст П. А. Ойунского, как известно, имеет разительные отличия от фольклорных: во-первых, он записывался в течение значительного отрезка времени — с 1928 по 1932 г., во-вторых, сам автор определил свое произведение как отут суол олоҥхоттон оҥоһуллубут ʹсозданное из тридцати разных олонхоʹ, и даже в самом тексте олонхо упоминает своих «информантов» — сказителей Чээбия, Куохайаана, Акыыма, Кылачыысова, Аргунова и Табахырова59. В фольклорных же текстах соблюдается закономерность: там присутствует либо положительная («Элик Боотур и Нигыл Боотур» (1896), «Улуу Даарын» (1941), «Эрэбил Бэргэн» (1941) и др.), либо отрицательная (шаманская) семантика («Сын лошади Дыырай» (1939), «Тамаллаайы Бэргэн» (1941), «Кыыс Дэбилийэ» (1941), «Алаа-тыыр Ала Туйгун» (1960) и др.).
Наконец, в тексте олонхо «Эрэбил Бэргэн», записанном в 1941 г. от именитого сказителя И. Г. Тимофеева-Теплоухова, установлен мотив обращения удаганки в кукушку, способную своим пением (то есть силой слов) вернуть к жизни. Так, в развязке сюжета этого олонхо, после разрешения конфликтов суженая главного героя, удаганка Кыыс Нуогай, облачившись в свое шаманское одеяние, превращается в кукушку — кэр-чуор са ҥ алаах ала кэ ҕ э кыыл 60 ʹс прерывисто-звонким голосом пестрая кукушка-зверьʹ. В этом образе основной упор также сделан на ее звонкий, ясный голос. Эта кукушка опускается на основание священного древа Аал Луук Мас и начинает звонко куковать. Кукование, подобно действию шаманского камлания, вызывает грозовые облака — начинается сильный ливень. Вскоре от основания разрушенного священного дерева поднимается густая пена ( к үө х к үү гэн ʹзеленая пенаʹ), из нее появляется хвойная веточка, которая стремительно вырастает в громадное дерево, ветви которого достигают неба, а из веток и шишек капает молочная жидкость, образуя молочное озеро. Таким образом, кукушка оживляет разрушенное мировое дерево (т. е. восстанавливает благополучие и процветание на своей родине), потом спускается к основанию дерева (можно сделать вывод, что дерево, по мере роста, поднимало кукушку на вершину) и опять принимает человеческий облик. Вероятно, этот нарратив является последней фиксацией функционирования образа кукушки в его архаической форме — с положительной семантикой, как символа процветания, предвестника воссоздания.
Заключение
Изучение образа кукушки на материале якутского олонхо в сопоставлении с алтайскими, хакасскими, шорскими и тувинскими эпическими текстами позволило сделать определенные выводы, отражающие также позицию автора в вопросе генезиса олонхо.
В фольклоре тюркских народов в целом семантика образа кукушки была двоякой (положительной и отрицательной), однако в якутском эпосе отразилось преимущественно позитивное либо нейтральное отношение к данной птице. В положительной коннотации «кукушка» чаще представлялась как предвестник благополучия и процветания, как «подска-зыватель» удачного варианта развития судьбы героя.
Анализ эпических текстов позволил установить, что сравнительная конструкция «кукушка с конскую голову», по всей вероятности, ранее функционировала во всех пяти рассмотренных эпосах. В алтайском, хакасском, шорском и тувинском доминировала именно «золотая кукушка». На определенном этапе в тувинском эпосе произошла деактуализация образа, что привело к исключению компонента «кукушка» и появлению более позднего варианта «золото с конскую голову». Якутские же сказители репрезентировали, главным образом, «звонко-говорливую кукушку».
Кроме «золотой кукушки» в пратюркском эпосе существовал также образ бурой кукушки-самки; в алтайском эпосе эти две кукушки упоминаются в паре и наделены различными функциями. Особую значимость при этом приобретает тувинский миф о «Бурой кукушке, имеющей лошадиную голову». Этот мифический образ, запечатлевший в себе след перехода от тотемизма к культу коня, определен нами как вероятный предшественник варианта «золотая кукушка с конскую голову».
В якутской эпической традиции обнаружено пять основных устойчивых формул, содержащих образ кукушки. Две из них имеют положительную коннотацию (символ вечного лета и процветания; посредник между героем и его покровителями). Еще три формулы, содержащие, на первый взгляд, только нейтральную характеристику, при более детальном анализе выявляют скрытые положительные коннотации, ассоциируемые с плодородием и предотвращением несчастья. Кроме основных формул, выделяется группа семантически неоднородных конструкций (начиная с текста П. А. Ойунского, датируемого 1932 г.), по большей части с отрицательными коннотациями: «шаманская птица», «птица Нижнего мира», «заика» и др. Следовательно, до начала XX в. якутский эпос сохранял исторически более раннюю положительную семантику образа кукушки, не подвергшуюся влиянию шаманизма, народных поверий и примет.
Особый интерес представляют формулы якутского эпоса, в которых удаганка превращается в кукушку и своим кукованием оживляет разрушенное мировое дерево, а также формулы, репрезентирующие дух слова (речи, сообщения) в образе кукушки. Среди них обнаружена семантическая структура, сходная с общетюркской «золотой кукушкой с конскую голову»: дух изреченного слóва-мольбы главного героя, обращенного к верховному божеству, превращается в «звонко-говорливую кукушку-зверя с голову шестигодовалого жеребца». Варианты общего концепта «кукушка-удаганка» представляют эту птицу как транслятора между миром людей и главным верховным божеством якутов Юрюнг Аар Тойоном, покровительствующим им; при этом образ кукушки тесно переплетается с образом звонкоголосой белой удаганки ( айыы дьаргыл удаган ).
Можно предположить, что якутский эпос олонхо, сохранивший самый ранний вариант «тюркской кукушки», отделился от общего, пратюркского эпоса до развития в последнем «культа золота»; либо же позднее воздействие на олонхо другой культуры, например, удаганской, оказалось настолько сильным, что заставило «забыть» первоначальный эпитет «золотая» (чего не произошло в эпосе тувинском). Так или иначе, в формировании якутской версии образа кукушки ключевую роль сыграла именно удаганская культура, и внесенную ею семантику не смогло затмить даже влияние шаманизма на последующем этапе. На наш взгляд, только определение места удаганской культуры в хронологии этногенеза якутского народа позволило бы прояснить суть этого вопроса.
С. 438–442 [Электронный ресурс]. URL: https://poisk.ngonb.ru/flip236/ pamyatniki_folklora/04/98-13802_Шорские%20героические%20 сказания%20-%201998/10/ (01.03.2023). (Сер.: Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока; т. 17.)
Список литературы Тюркская "кукушка" в олонхо: трансформации и рудименты
- «Ай-Хуучин»: комментарии к переводу // Хакасский героический эпос: «Ай-Хуучин» / запись и подгот. текста, пер., вступ. ст., примеч. и комм., прилож. В. Е. Майногашевой. Новосибирск: Наука, 1997. С. 430–448 [Электронный ресурс]. URL: https://poisk.ngonb.ru/flip236/pamyatniki_folklora/04/98-12703%20_%20Хакасский%20героический%20эпос%20Ай-Хуучин%20-%201997/ (01.03.2023). (Сер.: Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока; т. 16.)
- Алексеев Н. А. Якутская мифология // Якутские мифы (=Саха өс-номохторо) / сост. Н. А. Алексеев. Новосибирск: Наука, 2004. С. 6–38.
- Алексеев Н. А. Этнография и фольклор народов Сибири. Новосибирск: Наука, 2008. 494 с.
- Борисов Ю. П. Универсалии эпических формул в якутском олонхо и шорском эпосе: сравнительный аспект // Научный диалог. 2020. № 5. С. 255–271 [Электронный ресурс]. URL: http://iolonkho.s-vfu.ru/system/files/255-271_borisov_nd_2020_5.pdf (01.03.2023). DOI: 10.24224/2227-1295-2020-5-255-271. EDN: RGCHRM
- Бурнаков В. А. Образ кукушки в мифо-поэтической и ритуальной традиции хакасов // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. 2008. Т. 14. С. 305–309 [Электронный ресурс]. URL: http://www.paeas.ru/x/ru/arc/doc/ses_2008.pdf (01.03.2023). EDN: OWHIUD
- Бурцев Д. Т. Якутский эпос олонхо как жанр. Новосибирск: Наука, 1998. 82 с.
- Габышева Л. Л. Фольклорный текст: семиотические механизмы устной памяти. Новосибирск: Наука, 2009. 143 с.
- Герасимова Л. Н. Особенности употребления изобразительных глаголов в якутском и алтайском эпосах // Томский журнал лингвистических и антропологических исследований. 2022. Вып. 2 (36). С. 9–21 [Электронный ресурс]. URL: https://ling.tspu.edu.ru/files/ling/PDF/articles/gerasimova_l._n._9_21_2_36_2022.pdf (01.03.2023). DOI: 10.23951/2307-6119-2022-2-9-21. EDN:CNSFQT
- Голикова Т. А. Образ кукушки в мифопоэтике народов мира // Языки и литературы народов Горного Алтая: междунар. ежегодник 2012. Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2012. Т. 10. С. 14–21. EDN: ULYOUF
- Емельянов Н. В. Сюжеты якутских олонхо. М.: Наука, 1980. 375 с.
- Жирмунский В. М. Тюркский героический эпос. Л.: Наука, 1974. 726 с.
- Иванов В. Н. Якутский героический эпос олонхо в контексте сравнительного изучения // Вестник Северо-Восточного федер. ун-та им. М. К. Аммосова. Серия: Эпосоведение. 2016. № 1. С. 22–29 [Электронный ресурс]. URL: http://iolonkho.s-vfu.ru/system/files/ivanov_sravnitelnyy.pdf (01.03.2023). EDN: WELAYN
- «Кан Перген»: комментарии к переводу // Шорские героические сказания: «Кан Перген», «Алтын Сырык» / вступ. ст., подгот. поэтич. текста, пер., комм. А. И. Чудоякова. М.; Новосибирск: Наука, 1998. С. 438–442 [Электронный ресурс]. URL: https://poisk.ngonb.ru/flip236/pamyatniki_folklora/04/98-13802_Шорские%20героические%20сказания%20-%201998/10/ (01.03.2023). (Сер.: Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока; т. 17.)
- Корякина Р. В. Эпитеты, образованные от номинаций драгоценных металлов, в якутском и алтайском эпосах // Вестник Северо-Восточного федер. ун-та. Серия: Эпосоведение. 2020. № 4 (20). С. 116–126 [Электронный ресурс]. URL: https://eposvfu.elpub.ru/jour/article/view/58/59 (01.03.2023). DOI: 10.25587/w8870-8558-1795-k. EDN: FKYBUQ
- Куприянова Е. С. Символика образа кукушки в якутском и башкирском эпосах (на материале олонхо «Строптивый Кулун Куллустуур» и кубаира «Урал-батыр») // Молодой ученый. 2011. № 8 (31). Т. 2. С. 24–26 [Электронный ресурс]. URL: https://moluch.ru/archive/31/3568/ (01.03.2023).
- Львова С. Д. Сравнения в якутском и тувинском эпосах: общее и специфичное // Новые исследования Тувы. 2021. № 1. С. 202–216 [Электронный ресурс]. URL: http://iolonkho.s-vfu.ru/system/files/lvova_sd_sravneniya_v_yakutskom_i_shorskom_eposah.pdf (01.03.2023). DOI: 10.25178/nit.2021.1.11. EDN: VTQKFV
- Львова С. Д. Состав объектов сравнений в олонхо (на материале текста олонхо «Уол Дуолан» // Эпосоведение. 2022. № 2 (26). С. 17–27 [Электронный ресурс]. URL: https://eposvfu.elpub.ru/jour/article/view/152/154 (01.03.2023). DOI: 10.25587/z2347-0267-7345-k. EDN: GSFVEO
- Мелетинский Е. М. Миф и эпос у народов Северной Азии // Эпическое творчество народов Сибири и Дальнего Востока: мат-лы Всесоюз. конф. фольклористов (15–17 июня 1977 г., Якутск). Якутск: Изд-во СО АН СССР, Якутский фил., 1978. С. 15–19.
- Музраева Д. Н. Кукушка как персонаж сказочного фольклора народов Центральной Азии: проблема взаимосвязи фольклорных жанров и литературных текстов // Новые исследования Тувы. 2014. № 2. С. 80–94 [Электронный ресурс]. URL: https://www.tuva.asia/journal/issue_22/7149-muzraeva.html (01.03.2023). EDN: SEFOWL
- Никифоров В. М. От архаического олонхо к раннефеодальному эпосу. История фиксаций и специфика интерпретаций. Новосибирск: Наука, 2010. 136 с.
- Описание вариантов сказания «Ай-Хуучин» // Хакасский героический эпос: «Ай-Хуучин» / запись и подгот. текста, пер., вступ. ст., примеч. и комм., прилож. В. Е. Майногашевой. Новосибирск: Наука, 1997. С. 461–469 [Электронный ресурс]. URL: https://poisk.ngonb.ru/flip236/pamyatniki_folklora/04/98-12703%20_%20Хакасский%20героический%20эпос%20Ай-Хуучин%20-%201997/ (01.03.2023). (Сер.: Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока; т. 16.)
- Орус-оол С. М. Тувинские героические сказания: текстология, поэтика и стиль: дисс. … д. филол. н. М., 2001. 431 с.
- Путилов Б. Н. Эпос народов Сибири и его историческая типология // Вопросы языка и фольклора народностей Севера. Якутск: Изд-во ЯФ СО РАН СССР, 1972. С. 121–142.
- Пухов И. В. Героический эпос алтае-саянских народов и якутское олонхо. Якутск: Изд-во СО РАН, Якут. филиал, 2004. 328 с.
- Пухов И. В. Якутский героический эпос — олонхо: публикации, перевод, теория, типология: избр. ст. Якутск: Изд-во СО РАН, Якут. филиал, 2004. 207 с.
- Сатанар М. Т. Коды в миромоделировании тувинского и якутского эпических сказаний // Новые исследования Тувы. 2022. № 1. С. 211–224 [Электронный ресурс]. URL: https://nit.tuva.asia/nit/article/view/1016/1470 (01.03.2023). DOI: 10.25178/nit.2022.1.14. EDN: PSOZSH
- Юлдыбаева Г. В. Кукушка в фольклоре тюркских народов // Вестник Челябинского гос. университета. Филология. Искусствоведение. Вып. 67. 2012. № 20 (274). С. 154–156 [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kukushka-v-folklore-tyurkskih-narodov/viewer (30.03.2023). EDN: PKBSGJ
- Lvova S. D. Biomorphic images of comparison in Yakut Olonkho and other Turkic epics of Siberia // Agathos: An International Review of the Humanities and Social Sciences. 2020. Vol. 11. Issue 2 (21). S. 133–149 [Электронный ресурс]. URL: https://www.agathos-international-review.com/issue11_2/19.Lvova.pdf (30.03.2023).