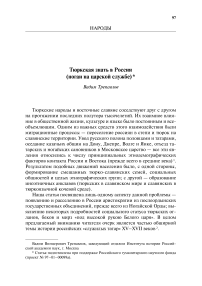Тюркская знать в России (ногаи на царской службе)
Автор: Трепавлов Вадим Винцерович
Журнал: Вестник Евразии @eavest
Рубрика: Народы
Статья в выпуске: 1-2, 1998 года.
Бесплатный доступ
Тюркские народы и восточные славяне соседствуют друг с другом на протяжении последних полутора тысячелетий. Их взаимное влияние в общественной жизни, культуре и языке было постоянным и всеобъемлющим. Одним из важных средств этого взаимодействия были миграционные процессы - переселение россиян в степи и тюрок на славянские территории. Увод русского полона половцами и татарами, оседание казачьих общин на Дону, Днепре, Волге и Яике, отъезд татарских и ногайских сановников в Московское царство - все эти явления относились к числу принципиальных этнодемографических факторов контакта России и Востока (прежде всего в средние века) 1. Результатом подобных движений населения было, с одной стороны, формирование смешанных тюрко-славянских семей, социальных общностей и целых этнографических групп; с другой - образование иноэтничных анклавов (тюркских в славянском мире и славянских в тюркоязычной кочевой среде). Наша статья посвящена лишь одному аспекту данной проблемы - появлению и расселению в России аристократии из послеордынских государственных объединений, прежде всего из Ногайской Орды; выяснению некоторых подробностей социального статуса тюркских огланов, беков и мирз «под высокой рукою Белого царя». В целом предлагаемый вниманию читателя очерк является частью обширной темы истории российских «служилых татар» XV-XVII веков 2.
Короткий адрес: https://sciup.org/14911689
IDR: 14911689
Текст научной статьи Тюркская знать в России (ногаи на царской службе)
Тюркские народы и восточные славяне соседствуют друг с другом на протяжении последних полутора тысячелетий. Их взаимное влияние в общественной жизни, культуре и языке было постоянным и всеобъемлющим. Одним из важных средств этого взаимодействия были миграционные процессы — переселение россиян в степи и тюрок на славянские территории. Увод русского полона половцами и татарами, оседание казачьих общин на Дону, Днепре, Волге и Яике, отъезд татарских и ногайских сановников в Московское царство — все эти явления относились к числу принципиальных этнодемографических факторов контакта России и Востока (прежде всего в средние века) 1. Результатом подобных движений населения было, с одной стороны, формирование смешанных тюрко-славянских семей, социальных общностей и целых этнографических групп; с другой — образование иноэтничных анклавов (тюркских в славянском мире и славянских в тюркоязычной кочевой среде).
Наша статья посвящена лишь одному аспекту данной проблемы — появлению и расселению в России аристократии из послеордынских государственных объединений, прежде всего из Ногайской Орды; выяснению некоторых подробностей социального статуса тюркских ог-ланов, беков и мирз «под высокой рукою Белого царя». В целом предлагаемый вниманию читателя очерк является частью обширной темы истории российских «служилых татар» XV–XVII веков 2.
Вадим Винцерович Трепавлов, заведующий отделом Института истории Российской академии наук, г. Москва
* * *
Во время и после распада Золотой Орды, в течение XV века сложился новый баланс политических сил в Восточной Европе. Конфликты и коалиции между государствами, расположенными на территории бывшего Улуса Джучи, объективно превращались в борьбу за джучидское наследство. Образовались два основных «полюса» этой борьбы — Великое княжество Московское и Крымский юрт, к которым так или иначе тяготели наследные ханства (Астраханское, Казанское, Ногайская Орда) 3. Одной из форм такого тяготения были так называемые отъезды тюркских аристократов соответственно в московские или крымские владения.
Великие князья предоставляли выходцам с Востока города в кормление и требовали исполнения военной службы. При тюркских вельможах оставляли их дружины, в их уделах дозволялось селиться неродовитым эмигрантам из степи. В разное время татарам отводились Кашира и Серпухов, Звенигород и Юрьев-Польский; выходцам из Ногайской Орды был выделен Романов, а выходцам из ханств, управлявшихся Джучидами, — Городец Мещерский (Касимов). Среди историков нет единой точки зрения относительно политического статуса и иерархического ранга этих регионов: превращались ли они в частные владения или же являлись условными держаниями. Вероятно, предпочтительно мнение С. Б. Веселовского и M. Н. Тихомирова — татарские владения на Руси имели двойственную сущность: одни их черты отражали частновладельческий характер управления (собственный двор и войско, отношения с татарским населением), другие демонстрировали условность его (отношения с русским населением удела, подчиненность Посольскому приказу) 4. Как бы там ни было, реальное положение татарской знати в России отличалось от номинального ранга «царей» и «царевичей» — Джучидов. Управляемые ими города не были ни самыми богатыми, ни самыми многолюдными; окрестное русское население не испытывало никакого пиетета по отношению к тюркским кормленщикам; небольшие военные отряды служилых ханов и мирз не могли являться орудием какой-либо самостоятельной политики. Одним словом, держатели перечисленных городов являлись, несомненно, вассалами царя и великого князя и были поставлены центральной властью в условия, которые максимально подчеркивали эту зависимость. Двойственное положение татарских сановников в российской аристократической иерархии наглядно проявилось, в частности, в описании пожалования Иваном IV плененного последнего казанского хана Йадгар-Мухаммеда после крещения того под именем Симеона Касаевича в январе 1553 года: «Царь и великий князь царя Семиона пожаловал, дал ему двор в городе и учинил у него боярское место Ивана Петровича Заболоцкого и всем чиновником по чину по государьскому, и учинил его (Симеона. — В.Т.) ...как царя и царьского сына по его достоянию как уделныи князи» 5. Таким образом, Йадгар-Симеон приобрел внешние формы царского почитания (царский титул, двор, боярское окружение) и в то же время по своему «достоянию» и рангу уравнивался с удельными князьями. Кроме Симеона Касаевича, резиденцию в Кремле имел и другой казанский пленник — бывший хан Утемыш-Гирей (Александр Сафа-Гиреевич) 6.
Номинальная знатность татарских мигрантов, как видим, позволяла им претендовать на высочайшие места в структуре государева двора, считаться «честию бояр выше» 7. Длительное подчинение Золотой Орде выработало в России стойкое почитание Джучидов — династии, правившей в Орде и большинстве наследных ханств. Этим, видимо, можно объяснить лестные эпитеты, расточавшиеся Иваном IV в адрес «царя Шигалея Шигавлеяровича», то есть хана Шах-Али, правившего в разное время по московской указке в Касимове и Казани: «Тои бо есть царь великороден сы и отечеством всех царей болшии стареиши местом, и честнеиши служаших самодержцу» (то есть Ивану IV) 8; тот же Шах-Али удостаивается от самодержца обращений «царю господине» и «брат наш» 9. В «Разрядах» (росписях воевод по полкам) служилые «цари» и «царевичи» всегда упоминаются после русского государя и его сыновей и перед или наряду с высшими представителями московской знати. Данное обстоятельство ясно указывает, что татарские мигранты в России органично включались в среду местной аристократии, в отличие от выходцев из Орды в Великом княжестве Литовском 10. Еще одним показателем служат местнические споры представителей «природных» русских родов и татарских кланов по поводу занятия воеводских должностей и мест в Боярской Думе (Лыковых с Турениными, Трубецких с Глинскими, Шереметевых с Сабуровыми и т.д.) 11.
Многие из указанных выше особенностей русско-тюркских отношений проявлялись в контактах московских властей с переселенцами из Ногайской Орды. На этих контактах мы остановимся подробнее.
Ногайская Орда сформировалась к началу XVI века на территории Западного Казахстана и Нижнего Поволжья. Она была населена тюркоязычными кочевниками, которые принадлежали к различным племенам, но с 1480-х годов обозначались общим политонимом «ногай», происхождение которого достоверно не выяснено. Во главе ногаев стояли правители с титулом «бий» (то есть бек); они не происходили из династии Чингис-хана, поэтому не смогли обзавестись ханским званием. Держава ногаев делилась на западную и восточную провинции — «крылья» под управлением наместников-военачальников нура- дина и кековата 12. Территории крыльев, в свою очередь, были разбиты на улусы, каждый из которых, как правило, был населен определенным племенем и управлялся мангытским мирзой 13. Во второй половине 50-х годов XVI века Ногайская Орда вступила в тяжелый и необратимый кризис. Завоевание русскими войсками Казани и занятие ими Астрахани разрушило восточноевропейский баланс сил, о котором говорилось в начале статьи. Ногайская знать столкнулась с необходимостью выбора между противостоящими гегемонами — Россией и Крымом. В Орде произошел раскол. Сторонников Крыма (и стоящей за ним Османской империи) возглавил бий Юсуф, во главе приверженцев ориентации на Москву встал его младший брат нура-дин Исмаил. Конфликт между этими партиями вылился в вооруженную борьбу. В 1554 году Юсуф погиб в сражении. После череды войн и интриг Исмаил к концу 50-х годов смог утвердиться на бийском престоле, а его противники бежали, разгромленные, кто в Крым, кто на Северный Кавказ, кто к казахам; некоторые прибились к московскому двору. Именно с этого времени начались попытки переселения ногайских мирз, их сородичей и соратников в российские пределы, перехода их на царскую службу.
Особенностью участия ногаев в российской политической жизни являлось их периодическое возвращение на родину. Объясняется это довольно просто: если потомкам казанских, астраханских и позднее сибирских династов просто некуда было возвращаться после присоединения их «юртов» к России, то Ногайская Орда, несмотря на неуклонное ослабление, до 1630-х годов сохраняла территорию собственных кочевий, на которую могли переходить мирзы, почему-либо оставлявшие службу царю. (Отъезды ногаев из России в Крым предпринимались довольно редко.)
Миграции рядовых, незнатных ногаев слабо отражены в источниках и поэтому почти не затронуты в литературе. По различным косвенным свидетельствам можно резюмировать, что переход их на российские земли происходил как стихийно — в обход засечных линий и крепостей, так и в составе дружин «царей», «царевичей» и мирз 14. Причем масса ногаев, расселявшихся при своих высокородных патронах, служила удобным источником информации, многочисленной агентурой, которая снабжала сведениями о России Бахчисарай и Стамбул. Об этом было ясно сказано, в частности, русскому послу в Турцию Ивану Новосильцеву жителем Азова в 1570 году: «Всякие деи вести привозят нагайские татарове, у которых мирз живут на Москве» 15. Тем не менее русское правительство было заинтересовано в увеличении количества подданных, в том числе и тюрок-мусульман. Разумеется, оно стремилось предоставлять им места для поселения не в столице, а на окраинах государства, гарантируя сохранение их жиз- ненного уклада и безопасность: «А мы вам всем (ногайским мирзам. — В.Т.) и вашим людем дадим место на украйне в Мещере, где вам пригоже кочевати, и устрой вам учиним, как вам мочно быти бесскорб-ным» 16.
Как правило, ногаи селились компактно; отрыв от привычного окружения, от своих начальников и соплеменников грозил столкновением не только с дискомфортной для кочевых тюрок культурно-исторической средой «Святой Руси», но и с произволом разномастной местной администрации. В апреле 1623 года в Москве разбиралось дало о «ногайском татарине Баимке». Тот выехал из улуса нурадина Кара Каль-Мухаммеда в Астрахань с намерением поступить на русскую службу. Астраханский воевода, стольник князь С. В. Прозоровский, отправил Баима в свое подмосковное поместье, где насильно перекрестил в Ивана и превратил в своего холопа. Помыкавшись полтора года, «Баимко»-Иван наконец сумел сбежать в недальнюю Москву. Он разыскал Посольский приказ, поведал там о своих злоключениях и заявил, что желает служить не князю Семену Прозоровскому, а великому государю, и жить вместе не с княжеской дворней, а с новокрещенными татарами 17.
Из множества рядовых кочевников, пробовавших осесть в Московском царстве, персональный интерес центральной администрации вызывали разве что лица, связанные с основной статьей ногайского экспорта — лошадьми. Умельцы, способные лечить и выхаживать коней, удостаивались щедрого жалованья и размещались в царском хозяйственном ведомстве. Русским послам и гонцам за Волгу предписывалось выискивать там таких знатоков и переманивать их на Русь, «на государьское имя» 18. В ответ же на требования ногайских правителей выслать специалистов обратно в улусы обычно следовал отказ («пригодился на нашей конюшне, и мы потому ... его не отпустили») или обещание вернуть их только при условии, что они сумеют «учеников научати тому конскому делу» 19.
Основной формой вовлечения ногаев в сферу российской политики являлось соучастие их в военных кампаниях. Чаще всего отряды из Ногайской Орды отправлялись организованно, по решению бия, высших мирз или съезда знати. Инициатива неродовитых ногаев, изъявлявших желание воевать вместе с русскими ратями, была довольно редкой и обыкновенно исходила от ногайских послов. Послы «правили» свои дипломатические обязанности (вручали грамоты, ходили на аудиенции, вели переговоры), а после этого просились на войну в сопровождении десятков всадников своей свиты. Российская сторона не находила оснований возражать, хотя подобный поворот событий — «исчезновение» и запоздалое возвращение восвояси посольских делегаций — вызывал раздражение при бийском дворе 20. Вероятно, первая акция по массовому привлечению ногайской конницы к военным действиям в составе царских войск датируется январем 1563 года, когда в большом походе на Полоцк (в ходе Ливонской войны) принимали участие послы бия Исмаила и «Уразлыевы дети» — четыре мирзы, внуки кековата Ураз-Али 21. До того российско-ногайское военное сотрудничество сводилось в основном к координации действий в борьбе против третьих стран — прежде всего Крымского и Астраханского ханств. Наиболее интенсивно ратники из заволжских степей использовались Москвой в 1560–70-х годах во время напряженного противостояния с Речью Посполитой. После вокняжения в 1578 году бия Уруса отношения между Россией и ногаями резко охладели, и посылка последними войск к царю практически прекратилась. В период вассальной зависимости Орды от России, то есть в первой трети XVII века, конницу биев иногда просили помочь в решении локальных политических задач, главным образом, на Северном Кавказе.
В процессе активного боевого сотрудничества в пору самой драматичной фазы Ливонской войны сформировался определенный протокольный порядок запроса русским правительством военной подмоги из Ногайской Орды. Указывались желательное число воинов и срок, к которому им надлежало прибыть в Москву; определялся театр военных действий («Немцы», «литовского короля земля», «свейского короля земля»); завершалось обращение стандартной формулой: «А как они из войны придут, и мы их, пожаловав, к вам отпустим» 22. Чем хуже обстояли дела на литовском фронте, тем настоятельнее становились просьбы о присылке отрядов. Используя нарастающую усобицу в Орде «Больших Ногаев», Посольский приказ адресовался к самым влиятельным мирзам по отдельности. Запросы зачастую сопровождались раскольнической, объективно подстрекательской оговоркой: «Хотя и... князь (то есть бий. — В.Т. ) не пришлет, а вы б своих людей прислали и без... князя» 23. Теми же мотивами диктовалось и столь же частым было освобождение товаров, ввозимых ногайскими купцами, от всех торговых пошлин 24.
Русские обычно просили ногаев выставить две-три тысячи всадников, но ногайские власти никогда не направляли в Россию более двух тысяч человек за один раз. Самая большая цифра, встреченная мною в архивных документах, — 1957 человек «всех мурз и голов и казаков, и всяких воинских людей» 25. Впрочем, можно предполагать, что незначительные (на фоне огромного земского ополчения) ногайские отряды были призваны служить не столько военным, сколько моральным фактором на западных фронтах. Независимо от численности присылаемых воинов, заявлялось желательным, «толко чтоб конны были и молодцы добры — чтоб нашему (царскому. — В.Т.) имени и вашей Орде в непослушника нашего земле было явно» 26. Факт учас- тия кочевников в московской армии, как и слухи об этом, создавали психологический дискомфорт и сеяли смятение в рядах противника. Российская сторона усугубляла эффект от привлечения ногаев, в десятки раз завышая их численность при переговорах с западными партнерами. В мае 1566 года дьякам было велено известить прибывшее литовское посольство о том, что мирзы «на государеву службу ходят, не отъезжая, тысечь по дватцати и по тритцати, и сколко коли государю нашему надобе» 27. Через три года в «память» (инструкцию) послу, снаряжавшемуся к польско-литовскому королю Сигизмунду-Августу, была включена та же фраза, но с «уточнением»: «тысечь по сороку и по пятидесять»; то же повторилось в 1571 году 28.
Европейские наблюдатели обращали пристальное внимание на тюркский компонент московского воинства. Именно европейские визитеры в Россию заметили принципиальную закономерность: заволжские батыры действовали, главным образом, «в Литве, Польше, Лифляндии и по границам Швеции», поскольку «русские власти используют... татар... против поляков и шведов, почитая безумнейшею мерою употреблять их на противоположной границе» 29 (то есть на границе с татарскими «юртами» — с Крымом, прежде всего). К подобным предосторожностям побуждала и массовая миграция из Ногайской Орды в Крымское ханство. К концу XVI века крымская конница уже в значительной степени состояла из ногаев. Сводить ногайские отряды на русской службе с их единоплеменниками из враждебного лагеря на поле брани казалось правительству и воеводам рискованным.
Перечисленные политические факторы и тактические соображения, равно как и чужеродность мирз по отношению к русской знати, отражались на месте их в военной иерархии. В большинстве случаев мирзы со своими отрядами включались в состав действующей армии вне росписи полков. Имеются лишь единичные упоминания об участии ногаев в походах и боях в составе передового или «ертоульного» полков 30. В жесткой системе распределения армейских командных должностей по местническому принципу для ногайской знати пока не находилось места. Только крестившиеся и обретшие княжеское достоинство выходцы из ногайской среды (ко времени Ливонской войны — князья Канбаровы и Шейдяковы) получали под свое начало крупные подразделения царской рати.
Интерес ногаев к военным мероприятиям государевых воевод объяснялся «правом повольного грабежа» 31, возможностью разжиться трофеями и полоном, предоставлявшейся им русской администрацией. Меркантильные настроения усиливались по мере нарастания кризиса в Ногайской Орде, когда сокращались площадь кочевий и поголовье скота, пустели торговые магистрали. Все больше мирз беднело и оказывалось неспособным существовать в привычных услови- ях, за счет скотоводческой экономики. Конные рейды по польско-литовским владениям под формальным главенством царских военачальников давали мирзам шанс обогатиться и, следовательно, привлечь к себе подданных, «улусных людей». В период российско-ногайского политического сотрудничества бии не препятствовали таким устремлениям мирз и без возражений отпускали их в Россию, иногда сообщая царю истинную причину участия их в войне: «Тот Ахмет мирза убог, и потому у меня отпросился на твою войну» 32.
Еще один путь попадания ногаев на русскую службу — на сей раз постоянную — состоял в высылке биями в Россию своих противников, если те по каким-либо причинам не могли или не желали отправляться в Крым или Мавераннахр. В 1561 году таким образом появились в Москве мирза Тохтар б. Ураз-Али с братьями и семьюдесятью человеками свиты, а в 1564 году сыновья свергнутого Исмаилом бия Юсуфа — родоначальники князей Юсуповых 33. Убедившись в лояльности новоприезжих подданных, царь назначал им большое жалованье, несравнимое с их бывшими скудными доходами в кочевьях. Данное обстоятельство было еще одним стимулом для переезда тюркских аристократов в страну «Белого царя» и предметом ревности и раздражения со стороны правителей Орды. В 1563 году Исмаил просил у Ивана Грозного «годовое» (ежегодные денежные выплаты) для себя в размере 500 рублей со следующей мотивировкой: «Тем мирзам, которые от нас ездят к тебе от голоду и от нужи, и тем (мирзам. — В.Т. ) ...даешь рублев до четырехсот и до пятисот» 34.
Впоследствии, в XVII веке, когда число отъезжих ногаев возросло, центральные власти уже избегали заниматься их расселением и обустройством. Поскольку функция связей с остатками Ногайской Орды была возложена на астраханских воевод, то именно им вменялся в обязанность патронаж над переселенцами. Только в 7127 году (то есть с 1 сентября 1618 по 31 августа 1619) в Россию перебрались 14 мирз с семьями и улусными людьми 35. Дальше Астрахани их обычно не пускали. Новоприбывшего аристократа приводили в Съезжую избу (воеводскую канцелярию), где тот по стандартной «шертной записи» клялся на Коране, присягая по клишированной формуле: «быть под царского величества высокою рукою в прямом холопстве навеки неотступным»; кроме того, давалось обещание жить под Астраханью в так называемых «юртах» — полукочевых селениях местных татар и ногаев, не перекочевывать на «крымскую сторону» — правобережье Волги; мирза был обязан «служить и прямить» государю, что означало в первую очередь быть готовым отправиться в военный поход по приказу воеводы. Астраханская администрация по своему разумению назначала ногайским мирзам месячное жалованье и сразу запрашивала Посольский приказ, из которого через некоторое время поступали деньги и указ с росписью годового оклада для каждого мирзы. Этот гарантированный доход и безопасное проживание под защитой русских стрельцов выглядели весьма привлекательно для знати распадающейся Орды.
Прибывавшие в Россию мирзы сохраняли за собой свой титул. Однако некоторые потомки биев при переходе «в нашу православную крестьянскую веру греческого закона» и соответственно наречении христианским именем получали княжеский ранг. Так, внуки бия Уру-са стали зваться «новокрещенами» и князьями Иваном Арасланови-чем, Андреем Сатыевичем и Петром Канмурзичем Урусовыми 36. В 1618 (или 1619) году правнук бия Исмаила и сын будущего бия Капая «прилучи же ся на Москве... и крестился... и наречен князем Михаилом» Канаевичем Тинбаевым 37. При этом в ногайской «номенклатуре» перечисленные лица продолжали считаться мирзами, отчего для официальных русских документов типичной была формулировка: «князь такой-то, мурза ногайский» 38. Для XVI и XVII веков нам удалось выявить следующие служилые ногайские роды, добившиеся на русской службе княжеского достоинства.
-
1. Князья Байтерековы — от мирзы Байтерека, сына бия Дин-Ах-меда; по линии сына Байтерека — Али 39.
-
2. Князья Канбаровы — от мирзы Канбара, внука Мансура — бия и соправителя золотоордынских ханов Кучук-Мухаммеда и Хаджи-Мухаммеда в начале XV века; по линии сына Канбара — Ураз-Али (Ивана).
-
3. Князья Кутумовы — от мирзы Кутума, внука бия Шейх-Мухам-меда; по линии сына Кутума — Тохтара 40.
-
4. Князья Тинбаевы — от нурадина Динбая, сына бия Исмаила; по линии внука Динбая — Гази (упоминавшегося выше Михаила Канае-вича).
-
5. Князья Тинмаметевы — от бия Дин-Мухаммеда (Тинмаметя); по линии его сына Урака.
-
6. Князья Урмаметевы — от бия Ураз-Мухаммеда (Урмаметя); по линии его сына Арслана.
-
7. Князья Урусовы — от бия Уруса; по линии его внука Касима (упоминавшегося выше Андрея Сатыевича).
-
8. Князья Шайдяковы — от бия Саид-Ахмеда (Шейдяка); по линии его внука Петра Тутаевича.
-
9. Князья Юсуповы — от бия Юсуфа; по линии его сына Эля.
Из девяти перечисленных кланов уже к концу XVII века сохранились не все. После отмены местничества Палата родословных дел и Разрядный приказ собирали родословные росписи для занесения в официальный перечень княжеских семей (будущую «Бархатную книгу»). Изложение своих генеалогий представили Юсуповы (вместе с
Байтерековыми), Кутумовы, Урусовы и Шейдяковы 41. К началу XX века не угасли — и потому широко известны сейчас — только Урусовы и Юсуповы. Остальные роды просто вымерли 42.
Основным путем проникновения во внутрироссийскую аристократическую иерархию для выходцев из Ногайской Орды была ревностная служба престолу. Потомки биев оказали важные услуги русской монархии. Достаточно вспомнить, что один из Урусовых убил Лжедмитрия II, а один из Юсуповых участвовал в казни Г. Распутина. Кроме того, княжеское достоинство позволяло им вступать в брачные связи с местными княжескими и боярскими семьями 43, что также помогало ногаям укореняться в Московском царстве. Важнейшим же средством утверждения в России — земельными владениями — сумела первой обзавестись семья Юсуповых. Царь Иван Васильевич в конце 1560-х или начале 1570-х годов пожаловал в удел «Иль-мурзе Исупову» городок Романов на Волге (позднее Романов-Борисоглебск, ныне Тутаев в Ярославской области). Впоследствии в тех же местах были предоставлены земли также Кутумовым и Шейдяковым.
С распадом Ногайской Орды в первой трети XVII века, с окончательным разгромом «Больших Ногаев» калмыками под Астраханью в 1634 году и откочевкой массы населения на правый берег Волги — в крымские и турецкие владения — отношения с ногаями на правительственном уровне утратили актуальность. Отныне с ними имели дело, главным образом, воеводы южных областей. Контакты с ними стали рассматриваться как составная часть другой системы отношений — русско-крымских, в которой издавна действовали иные принципы и критерии межгосударственных связей, иные традиции отъездов на Русь, иное отношение к переселенцам. Ногаи, приезжавшие из крымских улусов или османских вилайетов, теперь рассматривались Посольским приказом прежде всего как подданные Гиреев или султана, для них уже не существовало льготного режима, который был создан при Иване IV для мигрантов из Ногайской Орды.
Взаимовыгодный русско-ногайский военно-политический альянс отошел в прошлое, оставив о себе память в виде девяти российских княжеских родов ногайского происхождения.
Список литературы Тюркская знать в России (ногаи на царской службе)
- Трепавлов В. В. Россия и кочевые степи: Проблема восточных заимствований в российской государственности//Восток, 1994. № 2. С. 49, 50;
- Trepavlov V. V. Eastern Influences: The Turkic Nobility in Medieval Russia//Coexistence, 1995. Vol. 32. P. 9-11.
- Орлов А. М. Мещера, мещеряки, мишаре. Казань, 1992;
- Шарифуллина Ф. Л. Касимовские татары. Казань, 1991.
- Веселовский С. Б. Последние уделы в Северо-Восточной Руси//Исторические записки. М., 1947. Т. 22. С. 123
- Тихомиров М. Н. Россия в XVI столетии. М., 1960. С. 43-46.
- Патриаршая или Никоновская летопись//Полное собрание русских летописей (далее -ПСРЛ). Т. 13. Ч. I. СПб., 1904. С. 215.
- Александро-Невская летопись//ПСРЛ. Т. 29. М., 1965. С. 215;
- Львовская летопись//ПСРЛ. Т. 20. Ч. 2. СПб., 1914. С. 539.
- Казанский летописец//ПСРЛ. Т. 19. СПб., 1903. Стлб. 185.
- Летописец начала царствования царя и великого князя Ивана Васильевича//ПСРЛ. Т. 29. С. 109
- Думин С. В. Татарские царевичи в Великом княжестве Литовском//Древнейшие государства на территории СССР. М., 1989.
- Разрядная книга 1475-1598 гг. Подгот. текста, вводн. статья и ред. В. И. Буганова. М., 1966
- Разрядная книга 1559-1605 гг. Сост. Л. Ф. Кузьмина. М., 1974;
- Разрядная книга 1475-1605 гг. Сост. Н. Г. Савич. Т. 1-3. М., 1978-1989 (указатели имен)
- Павлов Н. П. Татарские отряды на русской службе//Ученые записки Красноярского пед. института. Красноярск, 1957. Вып. 9.
- Маркевич А. И. О местничестве. Киев, 1879. С. 185, 186.
- Трепавлов В. В. Нурадины Ногайской Орды//Историко-географические аспекты развития Ногайской Орды. Махачкала, 1993.
- Дополнения к Патриаршей или Никоновской летописи//ПСРЛ. Т. 13. Ч. 2. СПб., 1906. С. 391.
- Летописец русский (Московская летопись)//Чтения в имп. Обществе истории и древностей российских при Московском университете (далее -ЧОИДР). 1895. Кн. 3. С. 170.
- Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литовским государством. СПб., 1892. Т. 3. С. 344.
- Флетчер Дж. О государстве Русском. СПб., 1905. С. 64;
- Штаден Г. О Москве Ивана Грозного: Записки немца-опричника. Л. 1925. С. 61, 62, 116.
- Разрядная книга 1550-1636 гг. Сост. Л. Ф. Кузьмина. Кн. 2. М. 1976. С. 19.
- О роде князей Юсуповых. Сост. Н. Б. Юсупов. Т. 1. СПб., 1866. С. 51, 52.
- Новый летописец. Публ. К. М. Оболенского//Временник Московского общества истории и древностей российских. Кн. 17. М., 1853. С. 183.
- Долгоруков П. Д. Российская родословная книга. Ч. 2. СПб., 1855. С. 27;
- Урусовы. Княжеский род//Всемирная иллюстрация. 1873. Т. 9. № 1. С. 17
- Акты времени правления царя Василия Шуйского. Собр. и ред. А. М. Гневушев. М., 1914. С. 234
- Савелов Л. М. Родословные записи. Вып. 1. М., 1906. С. 107
- Антонов А. В. Из истории Палаты родословных дел//Историческая генеалогия. 1994. № 3. С. 103, 106;
- Родословная книга князей и дворян российских и выезжих. Изд. Н. И. Новиков. М., 1787. Ч. 2. С. 414.
- «Роспись, хто был на Москве царей и царевичев розных земель, и хто был черкасских и ногайских мурз и при котором государе, и хто в каком чину был» за XV-XVII вв. Публ. С. А. Белокурова//ЧОИДР. 1899. Кн. 4 (191). С. 7, 8.