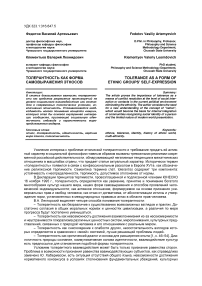Толерантность как форма самовыражения этносов
Автор: Федотов В.А., Клементьев В.Л.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 4, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье доказывается важность толерантности как средства разрешения противоречий на уровне социального взаимодействия или контактов в современных политических условиях, исключивших этничность. Устанавливается необходимость нового понимания концепта «нации», который стал бы основой внутренней интеграции сообществ, признающей социальную идентичность индивида и ограниченность миропредставления модерна.
Этнос, толерантность, идентичность, картина мира этноса, полиэтничность
Короткий адрес: https://sciup.org/14940886
IDR: 14940886 | УДК: 323.1:316.647.5
Текст научной статьи Толерантность как форма самовыражения этносов
Усиление интереса к проблеме этнической толерантности и требование придать ей активный характер в социальной философии главным образом вызваны тревожными реалиями современной российской действительности, обнаруживающей негативные тенденции в межэтнических отношениях в масштабах страны, что придает статье актуальный характер. Исторически термин «толерантность» появился в связи с конфессиональным расколом в Европе XVI в. как обозначение религиозной терпимости. Семантика термина (лат. tolerantia) содержит три компонента: устойчивость к неопределенности, терпимость, допустимое отклонение от нормы.
В Декларации принципов терпимости, провозглашенной и подписанной членами ЮНЕСКО 16 ноября 1995 г., толерантность определяется как уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности; как активное отношение, формируемое на основе признания универсальных прав и свобод человека; как отказ от догматизма, от абсолютизации истины и утверждения норм, установленных в международных правовых актах в области прав человека.
В.А. Лекторский выделяет четыре способа понимания толерантности:
-
– Толерантность как безразличие к существованию всевозможных взглядов и практик. Достаточно согласия в общих моральных нормах и ценностях цивилизации, а различия по мере прогресса будут постепенно уменьшаться.
-
– Толерантность как невозможность достижения взаимопонимания из-за несоизмеримости и неустранимости плюрализма различных ценностных систем, миропонимания, культурных представлений, связанных с природой человека и его отношениями с реальным миром.
-
– Толерантность как снисхождение к слабости других, несостоятельность взглядов которых определяется в сравнении с «моей» системой, лучше решающей проблемы людей.
-
– Толерантность как критический диалог и основа для расширения опыта [1, с. 46–54]. Диалогичность природы сознания, коммуникативная основа идентичности, взаимодействие культур есть предпосылки для становления подобной формы толерантности.
Условием толерантного взаимодействия может быть только признание равенства сторон. Проблема в возможности признания равенства взаимодействующих субъектов, как справедливо замечено Ю. Хабермасом, есть ситуация отсутствия общего языка, невозможности достижения нормативного консенсуса в условиях столкновения фундаментальных убеждений, культурных практик, образов жизни и мышления [2, с. 47]. Описываемая ситуация и есть ситуация «конфликта цивилизаций» в современном мире. Его порождения – этнофобии и мигрантофобии, рост социальной напряженности с одновременным усилением этнокультурной плюрализации обществ, рост ксенофобии, проявлений бытового расизма, появление социокультурного страха утраты идентичности, возрастание социокультурной дистанции между «хозяевами» и «гостями» [3, с. 60]. Тогда и появляется потребность в толерантности ради разрешения противоречий на уровне социального взаимодействия или контактов.
Миропонимание общества, типичные представления людей об окружающем влияют на их деятельность и предопределяют «непреднамеренные» результаты этой деятельности. Установление демократий западного типа взаимосвязано с миропредставлениями эпохи модерна, которые существенно изменили понимание природы человека и общества, социальных взаимосвязей и способствовали утверждению монологического рационализма.
Самосознание «модернистского» западного общества неразрывно связано с идеологией, фундаментальной основой которой является идея общества как мира разумных эгоистов, обладающих автономией действия и сознания. Этнические характеристики как форма коллективного структурирования оказались за пределами этого отвлеченного образа. Они как особенное в человеке стали противоположны универсальному, будучи определены как чуждое ее логике, как покушение на идеалы всеобщего равенства и свободы.
Сам факт роста этнополитических движений свидетельствовал, что исключение на нормативном уровне этнических факторов из политического процесса как отживших, неактуальных явлений не привело к их исчезновению из социальной реальности, и показал теоретическую ошибочность пренебрежения этническим фактором в современном мире.
Этничность – многомерное явление, относится к разряду тех, в которых составляющие накладываются друг на друга, находясь в тесном сцеплении. Сложность заключается в специфике ее формирования на основе непосредственного восприятия окружающего мира, родственного обыденному сознанию, воспринимающему мир таким, как есть, опираясь на «здравый смысл».
Существенным моментом в функционировании этноса является субъективная сторона его бытия – слагаемая им картина мира. Картина мира этноса – это ценностный и самобытно интерпретируемый универсум, при котором этническое «я», адаптируясь к окружающей природной и социокультурной среде, воспроизводит его в своей деятельности, практике и языке [4, с. 42]. Она является синтезирующейся основой системно-функциональной триады: мир – этническое «я» – ценность. Картина мира этноса функционирует как единая система с взаимосвязанностью и взаимообусловленностью всех ее уровней, являясь целостной моделью, синтезирующей все другие картины мира: мифологическую, религиозную, научную, художественную и т. д.
Этнос представляется как творец духовного универсума, который в процессе познания мира осваивает его через собственную интерпретацию и воплощает в созданном им мире ценностей. Картина мира этноса есть та реальность, в которой человек делает свои первые шаги.
Творя мир, человек становится творцом внешних условий своего существования. В этнической культуре концентрируется обобщенный смысл, воспринимающий и организующий реальность в ее динамическом потенциале. Этническая культура имеет, таким образом, антропологическое значение. Этика этноса очеловечивает окружающий мир. На данный момент процесс общения народов в мире проходит очень интенсивно и противоречиво. Необходимость демократизации межэтнических отношений и установления парадигмы толерантности в политической сфере – это уже не политический лозунг, а условие выживания человечества. Взаимопонимание и взаимодоверие культур зависят от их творческого общения и обогащения.
В Российской Федерации идея национального государства реализуется путем обеспечения величайшего уважения и гарантий сохранности основных атрибутов всех национальностей. А лучшим гарантом прав и свобод сограждан является политика межнационального согласия.
Межкультурные коммуникации в условиях глобализации приводят к изменениям базовых, культурных моделей этносов. Адаптация культур друг к другу создает возможность для диалога народов. В результате межкультурной коммуникации рождаются новые ценностные интерпретации мира и образов реальности. Человек в любую историческую эпоху нуждается в социальности и осваивает мир посредством ценностей. Квазисоциальность, социальная аномальность неизбежны при столкновении культурных миров, но они преходящие явления, циклически возникающие время от времени. Этничность не вырождается, а видоизменяет свои культурные стратегии и формы адаптации к изменяющейся реальности. Человеческое существует только в горизонте коллективного опыта, но эта взаимосвязь может осуществляться произвольно, варьироваться, так как сама интерсубъективность находится в непрерывной динамике, только традиция придает ей устойчивость.
Повседневность имеет пространственную структуру, человек вынужден упорядочивать мир, чтобы его освоить, свободно ориентироваться в нем. Но это может осуществиться только с другими, посредством других. Структуры бытия осуществляются в контексте традиции, задающей понимание мира индивидом. Хотя, по М. Хайдеггеру, традиция лишает человека собственной сущности, именно она помогает индивиду озаботиться бытием, формирует такой образ реальности, в котором он мог бы действовать, поддерживать целостность своих взаимосвязей с окружающим и самим собой [5, с. 51].
Этническая идентичность формирует чувство органической принадлежности к «вечной» общности, исторической эпохе. Инструментом служит традиция, которая указывает, что и как следует делать. Она создает внешний барьер и внутреннюю защиту от неопределенности и хаоса посредством языка как знаковой системы мира. Язык предоставляет человеку необходимые объективации и структурирует порядок, в рамках которого приобретают смысл и эти объективации, и сама жизнь. Притом он укоренен в повседневной жизни индивида. Именно в этом значении интерпретируется тезис: «Язык – дом бытия».
Современные государства Европы, а также США на уровне доктрины негативно оценивают этнические формы социальной мобилизации. Формирование наций складывалось у них на основе стандартизации языка, локальных общностей, имевших как региональные, так и этнокультурные различия. Однако идеологемы политических нациообщностей не могли не прийти в противоречие со сложностью социальных форм реальности.
Иммиграционные процессы, получившие развитие со второй половины XX в. в западных странах, актуализировали проблему гетерогенности национальных сообществ и породили ряд социальных явлений. Среди коренного населения в странах, принявших иммигрантов из-за производственной необходимости, оформляется антиарабизм, антиисламизм в отношении неевропей-цев в виде таких стереотипов, как «плохой работник» и т. п., усиливается бытовой расизм. Появляются иммигрантские гетто, этнические анклавы, где иммигранты, чтобы защититься от деструктивных воздействий окружающих, реализуют стратегию внутригрупповой мобилизации, обособления на основе религиозных и этнических ценностей. Эти действия усиливают межэтническую напряженность, вызывая со стороны большинства обвинения в уклонении oт его идентичности.
Изменение этнокультурного и расового облика поставило проблемы реидентификации населения и нового понимания, осмысления и трактовки понятия «нация». На повестке дня проблема признания равной социальной ценности принципа этничности в рамках демократического дискурса, способствующей легитимному приобретению данной идентичности. Это требование напрямую имеет параллель с проблемой толерантности, так как его источник – утверждение равенства как ценности и изживание дискриминационных практик в культурной сфере. Это и проблема коммуникации смысловых легитимаций современного мира, переживающих на данный момент этап конфликтного взаимодействия.
Этносы сегодня вынужденно находятся в условиях чужих «культурных полей». Потому этническая идентификация иммигрантов носит индивидуалистический и конструируемый характер, изначально ставит их в положение этнических маргиналов. «Пробуждение» этничности – это трансформация и адаптация к трендам глобализации.
Этничность, вытесненная из легитимного поля гражданского сообщества, оказавшись в роли маргинала, проявила себя в виде конфликта цивилизаций, различий, столкновений социальных восприятий, «текстов» национальных культур. Ее авангард – маргиналы, чье индивидуалистическое сознание оказалось способно противостоять напору индивидуалистического века. Их выраженный коллективизм – это не коллективное сознание, взращенное в привычной нише этнической родины, так как ее территория в условиях глобализации заселена и другими, все объективные маркеры этноса теряют четкость. Этот коллективизм имеет ярко выраженный индивидуалистический характер: приемлемость споров и конфликтов при взаимодействии с другими и защите «своих» ценностей перед чужими; «коллективное я» автономно и независимо от других; «личные» (коллективные) цели имеют приоритет перед общими; проблема справедливого вознаграждения актуализируется; (коллективные) самодостаточность и самостоятельность становятся ценностями – все эти качества этнопсихологи описывают как индивидуалистические [6].
Факт полиэтнизации обществ, вызванный процессами глобальной интеграции разного рода связей, иммиграционных движений, способствовал формированию консолидированной этнично-сти. Сам факт присутствия в иноэтничной среде мобилизует этническое самосознание индивидов, теряющих естественные этноопределяющие признаки – родину, культурную среду, а в перспективе и родной язык. Нестабильность статуса, неопределенность перспектив, невыносимое для человеческой психики (социального по природе) положение «чужого» становятся катализатором мобилизации этнической идентичности в виде индивидуализации этнического самосознания. В своей естественной среде носитель этнической идентичности – коллективист, но в приграничной ситуации наблюдается персонализация его самосознания. Этнический маргинал – это индивидуалист с выраженной потребностью в «своем» коллективе. Слишком тесное соприкосновение разных, защищающих свою особость миров, обнаружение в этой ситуации «различий», ставящих под сомнение нашу значимость, приводят к усилению напряженности социальных отношений. В полиэтническом обществе любой конфликт может принять манифестационную форму. На межэтнические отношения проецируются культурно-идеологические, политические и социальные противоречия. Напряженность в таком обществе – онтологический атрибут социальной системы, каким бы ни был «минимальным разрыв в параметрах социального неравенства», – считает В. Чагилов [7]. Введение квот в политической сфере, экономические льготы в экономической сфере еще больше обостряют проблему паритета, политизируют проблемы, а не решают их. Потому использование толерантности – это инструмент установления межэтнической коммуникации на уровне политических решений.
Этничность – это мир целостного, в котором органически существуют общее и особенное как характеристики единого феномена. Общее выражается в ее миссии, в антропологическом значении как способа бытия человека, где горизонт «жизненного мира» этноса разворачивает для него точку отсчета, стабилизируя внешнее, хаотическое, неопределенное «внешнее бытие». Сотворенный этносом духовный универсум поддерживает целостность взаимосвязей человека с окружающим миром, с самим собой и другими, снимает проблему фрагментарности индивидуального бытия, сообщает ему конкретность. Мир этноса создает предпосылки для включения человека в мир, задает его активность, снимая проблему отчуждения. Интерсубъективная природа этноса, воплощаясь в коллективном опыте повседневного существования, соединяет «берега» людских жизней, помогает человеку «соприсутствовать» с другими. Чувственное, волевое и рациональное как формы познания окружающего интегрированы в картине мира, творимой этносами. Потому этничность способна поддерживать воспроизводство и динамику человеческого существования, онтологию человека вообще.
Этнос – это социальный феномен, проявляющийся через различные историко-культурные формы. Устойчивость его связывается с вышеуказанной миссией этноса.
Этнос в различной исторической и социальной ситуации реализует разные функции, и формы его существования различны. Функции и формы структурирования этноса, социальной организации, компоненты этнической реальности есть особенное в этносе. Устойчивость присуща только этнической идентичности, что связано с природой человека и этноса как субъекта, творца смысловых значений и мира, в котором он бытийствует. Духовное предшествует онтологическому – такова сущностная природа человека. Из всех форм социальности этничность выделяется именно как творец такой картины мира и культурной идентичности, которая дает человеку возможность «озаботиться бытием», конкретизирует его «историчность» и свидетельствует о его реальности посредством других. Этничность как атрибут личности дает индивиду ощущение сопричастности к фактичности бытия. Качество этничности сопряжено с природой мира повседневного.
Этнической общности присущи специфические культурные модели, обусловливающие характер активности человека, адаптации его к внешней реальности и приспособление «внешнего» к «внутренней» реальности в виде структурированного представления о мироздании и ценностных доминант этноса.
Этнос – это феномен, сущность которого обусловлена природой человека и состоит в созидании онтологических и культурных предпосылок человеческого существования. Динамически реагируя на окружающую среду – природную, социальную, историческую, он воспроизводится в процессе межличностной коммуникации и реализует свои качественные и функциональные характеристики и содержание. «Жизненный мир» этноса обеспечивает стабилизацию индивидуального существования и жизнеобеспечения общности в целом в условиях устойчивого неравновесия внешнего бытия. Миропонимание модерна, где утвердилась парадигма демократического сообщества, абсолютизировало свободу и самодостаточность человека, объективацию вещного и предметного мира. Сфера формально организованных общественных отношений отделилась от сферы повседневносовместной жизни. Утверждаются социальный и культурный активизм, вера в способность человека и общества перестроить мир в соответствии со своей мечтой. Отсюда – харизматизация политических центров и их миссионерской роли по переустройству настоящего и будущего. Данное миропонимание – один из источников легитимации демократического режима. Сущностное противоречие мобилизационной парадигмы – изначальный субъективизм человеческой сущности и мира, всегда воображаемого в интерпретации. Человек не способен преодолеть барьер, предопределенный его онтологией и природой. Чем больше он стремится «объективировать» существующее, тем труднее оно поддается осознанию. Сняв на когнитивном уровне проблему социальности, модернистский дискурс продолжал опираться на наличную природу человека и общества. По мере развития демократического процесса в «новых» сообществах социальное человека обнаружило себя в мобилизации невключенных общественных сегментов – этнических акторов. Практика самодеятельности гражданского общества, политические свободы способствовали их консолидации и активизации вначале в западных, а затем и восточных политиях.
Итак, полиэтническое общество – это сложная, нестабильная система, где особо необходима толерантность как системная составляющая для обеспечения социальной интеракции ее сегментов через признание разнообразия. Толерантность – системообразующий элемент социально-политического порядка в полиэтническом и демократическом обществе. Но необходимы ее предпосылки – признание культурного дискурса как равноправного политическому, равноправности субъектов. Толерантность генерируется на основе определенного социокультурного опыта и традиции этносов как носителей многообразных форм самовыражения и проявлений социальной индивидуальности.
Ссылки:
-
1. Лекторский В.А. О толерантности, плюрализме и критицизме // Вопросы философии. 1997. № 11.
-
2. Хабермас Ю. Когда мы должны быть толерантными? О конкуренции видений мира, ценностей и теорий // Социологические исследования. 2006. № 1.
-
3. Мукомель В.И. Грани интолерантности (мигрантофобии, этнофобии) // Социологические исследования. 2005. № 2.
-
4. Аязбекова С.Ш. Картина мира этноса: Коркыт ата и философия музыки казахов. Алматы, 1999.
-
5. Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997.
-
6. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М., 2003.
-
7. Чагилов В.Р. Политизированная этничность: опыт методологического анализа. М., 2002.
Список литературы Толерантность как форма самовыражения этносов
- Лекторский В.А. О толерантности, плюрализме и критицизме//Вопросы философии. 1997. № 11.
- Хабермас Ю. Когда мы должны быть толерантными? О конкуренции видений мира, ценностей и теорий//Социологические исследования. 2006. № 1.
- Мукомель В.И. Грани интолерантности (мигрантофобии, этнофобии)//Социологические исследования. 2005. № 2.
- Аязбекова С.Ш. Картина мира этноса: Коркыт ата и философия музыки казахов. Алматы, 1999.
- Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997.
- Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М., 2003.
- Чагилов В.Р. Политизированная этничность: опыт методологического анализа. М., 2002.