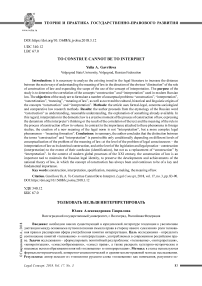Толковать нельзя интерпретировать
Автор: Гаврилова Юлия Александровна
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Теория и практика государственно-правового развития
Статья в выпуске: 3 (40), 2018 года.
Бесплатный доступ
Введение: необходим анализ существующей в юридической литературе тенденции к увеличению дистанции между основными путями познания смысла права в сторону явного «умаления» роли толкования права и расширения сферы употребления понятия интерпретации. Цель исследования - определить соотношение понятий «толкование» и «интерпретация», употребляемых в современном российском праве. Задачи исследования - сформулировать понятийный ряд проблемы: «толкование», «интерпретация», «конкретизация», «смыслообразование», «смысл права», а также раскрыть культурно-исторические и языковые истоки образования понятий «толкование» и «интерпретация». Методы: в статье используются формально-юридический, конкретно-социологический и сравнительно-правовой методы исследования. Результаты: автор исходит из этимологии русского слова «толкование» как понимания, разумного осмысления, объяснения чего-либо уже имеющегося. В этой связи интерпретация в отечественном праве - это творческий момент процесса толкования права, выражающий динамизм мышления интерпретатора либо результат соотнесения текста и смысла нормы в процессе толкования права по объему. В отличие от значения, придаваемого этим явлениям в зарубежных исследованиях, создание нового смысла правовой нормы является не «интерпретацией», а более сложным по составу правовым феноменом - «смыслообразованием». Выводы: в заключение автор формулирует вывод о том, что разграничение терминов «толкование» и «интерпретация» допустимо лишь условно в зависимости от разных уровней концептуализации проблемы смысла права: на уровне проблемы правопонимания - интерпретация права как доктринальное его толкование, а на уровне законодательства и юридической практики - толкование (интерпретация) до степени их смешения (отождествления), но не в качестве замены «толкования» с помощью «интерпретации». В условиях современных глобализационных мировых процессов ХХІ в. толкование права является важнейшим инструментом поддержания российской правовой идентичности, сохранения наработок и достижений отечественной теории права, в рамках которой понятие толкования всегда имело и продолжает сохранять ключевое и фундаментальное значение.
Толкование, интерпретация, конкретизация, смыслообразование, смысл права
Короткий адрес: https://sciup.org/149130210
IDR: 149130210 | УДК: 340.12 | DOI: 10.15688/lc.jvolsu.2018.3.12
Текст научной статьи Толковать нельзя интерпретировать
DOI:
Любая наука рано или поздно проходит переломные этапы своего развития, когда ключевые понятия, уже прошедшие «огонь, воду и медные трубы», начинают подвергаться новому переосмыслению. Такая непростая историческая судьба постигла важнейшие в отечественной юриспруденции понятия толкования и интерпретации права. В современной юридической литературе нарастает тенденция, связанная с отказом от понятия толкования и стремлением к его поглощению и унификации использования как «интерпретации». Настоящая статья представляет собой полемический отклик на статью Е.М. Терехова, опубликованную в журнале «Legal Concept = Правовая парадигма» № 1 за 2018 год. В связи с тем, что некоторые аспекты этой темы освещались автором в монографиях и ряде публикаций по вопросам толкования права и смысла права, автор посчитал необходимым принять участие в актуальной терминологической дискуссии по этой проблеме.
Этимологические и семантические аспекты эволюции терминов «толкование» и «интерпретация»
Исходя из семантических оснований, русский термин «толкование» и латинский «интерпретация» являются синонимичными. Этимологически же термин «толкование» в русском языке означал действие, производное от существительного «толк»: 1) искать пользу, выгоду, прок в бытовых вопросах; 2) осмыслить, дать разумное объяснение, понимание чему-либо имеющемуся [7, с. 411–412]. Латинский термин «интерпретация» (по одной из версий) уходит корнями в исполнение судебных и военно-административных управленческих функций преторов, которые через издание эдиктов приспосабливали древнейшее право Законов ХІІ таблиц (jus quiritium) к изменяющимся условиям жизни римского рабовладельческого общества. Наряду с нормами единого для римских жителей цивильного права (jus civile), такая совместная деятельность преторов (inter) способствовала формированию новых дополнительных источников права: «преторского права» (jus praetorium) и «права народов» (jus gentium), в результате чего была исторически именована как «интерпретация» [9, с. 155–156].
В дореволюционном русском правоведении поддерживалась отечественная языковая и культурная традиция использования термина «толкование», в основном сохранившаяся в советское время. Однако поскольку в советский период развития юридической науки считалось, что толкование не создает новый смысл права, наличие в правотворческой деятельности элементов конструктивной смысловой новизны замещалось термином «конкретизация» [23, с. 5]. При этом понятие интерпретации как бы ушло «в тень» и воспринималось на уровне доктринального правосознания как синоним толкования.
Философско-мировоззренческие предпосылки разграничения терминов «толкование» и «интерпретация» в отечественной литературе
Можно назвать две наиболее общие причины роста познавательного интереса к интерпретации.
-
1. С 90-х гг. ХХ в. в российское научное пространство «хлынул» поток публикаций из западной философии и общественных наук, в которых широко применялся термин «интерпретация». В исследованиях по семиотике, герменевтике, феноменологической и коммуникативной теориях с помощью этого термина описываются интеллектуальные приемы, направленные на понимание самых разнообразных текстов и внеязыковых (невербальных) феноменов: жестов, ритуалов, поведения и т. д., анализируются внутренний психический мир субъектов права и проблемы их взаимодействия в общем смысловом пространстве (дискурсе). Это не могло не сказаться на качестве научных изысканий в отечественном праве, стимулировав «интерпретационный» вектор работ и по вопросам плюрализма право-понимания, и по прикладным аспектам теории права. Отдельные ученые с разными целями активно вводят в оборот термин «интерпретация» [2; 3; 12; 13; 22 и др.]. Однако они понимают интерпретацию и в узком значении – как толкование «имеющегося» смысла права, и в широком значении – как процесс познания права в режиме определенного плюрализма или актуальности, динамики понимания этого смысла. В этом, на наш взгляд, и состоит основной «камень преткновения» в научной дискуссии между сторонниками «толкования» или «интерпретации».
-
2. В отечественном праве затянулась на несколько десятилетий теоретическая дискуссия о соотношении толкования и конкретизации права. Современное знание многоаспектно, разнородно и является дискуссионным. Из-за этого попытки описать эти понятия в четких лаконичных определениях формальной логики чаще всего завершаются неудачей. И это связано с тем, что отсутствует однозначная понятийная матрица их обобщения, не имеется ясных критериев оценки этих феноменов, а выделяемые при этом большинством специалистов основные параметры сходства и различия толкования и конкретизации права имеют исходное спорное и недостаточно конкретное содержание.
Думается, что наделение «интерпретации» какими-либо универсальными свойствами «смыслопорождения», «внесения элементов нормативной новизны» и т. п. не отвечает семантическому потенциалу русского слова «толкование» – «искать смысл». Этот взгляд является результатом заимствования из иностранной, прежде всего американской, доктрины толкования, где противоречие между текстуализмом (буквой закона) и оригинализ-мом (намерениями законодателя) преодолевается динамическим способом толкования, в качестве аналога которого и подразумевается использовать термин «интерпретация» в российском праве. Но это производится без учета российских традиций правопонимания, правовой культуры и менталитета. Более того, в отечественной доктрине существует самостоятельный путь решения проблемы, когда расхождение между текстом и смыслом нормы разрешается с помощью соответствующих приемов толкования права по объему: расширительного или ограничительного [5, с. 106–132].
При оценке герменевтических аспектов правовой интерпретации необходимо различать, по справедливому замечанию Р.А. Ромашова, «герменевтику как метатеорию или метафилософию права», – и с этим вполне можно согласиться как с интерпретацией права на уровне правопонимания, – и «герменевтику как систему конкретных формально-юридических приемов анализа правового текста», которые на уровне законодательства и юридической практики не могут выходить за пределы традиционного толкования [20, с. 87].
Между тем выход из затруднительного положения, в котором оказалась теория права, многим ученым и юристам-практикам видится в своеобразной «реанимации» понятия интерпретации права как исторического проекта, в котором запрограммирована сама возможность операций с правовыми смыслами. В подтверждение сказанного интерпретация понимается как «установление воли законодателя, а также языковой анализ юридического текста с учетом историко-политических условий создания и действия нормы» [16, с. 68], «раскрытие содержания правового текста с выведением из него юридических конструкций» [21, с. 726], «разворачивание нормы права в действительности без изменения ее текста» [14, с. 559] и т. д.
На наш взгляд, во всех названных случаях под единым термином «интерпретация» фактически отождествляются два разных понятия – «толкование» и «конкретизация». Дело в том, что исходным пунктом смысло-образования в праве всегда является толкование, дополняемое в дальнейшей практике с помощью усмотрения, аналогии, субсидиарного правоприменения и других правовых средств. Они усиливают или ослабляют регулятивный потенциал толкования и, действуя в сочетании с ним и друг с другом, вызывают эффект состоявшейся конкретизации-«ак-туализации» во времени, которая и приводит к модификации существующего или конструированию нового смысла действующего законодательства. Следовательно, объединение столь сложных и разнородных операций в рамках понятия «интерпретация» значительно нивелирует специфику последних и создает предпосылки для их рассмотрения в качестве своеобразных «придатков» или видов интерпретации, что по отношению к этому технико-юридическому инструментарию было бы несправедливо.
В этой связи следует скептически отнестись к позиции Е.М. Терехова, который различает правоинтерпретационную деятельность и толкование права вообще и Верховного суда Российской Федерации в частности. Различие между этими терминами строится, на наш взгляд, не в соответствии с правовым статусом субъекта толкования или его юридическими последствиями (официальное и неофициальное), а состоит в том, что динамизм мышления интерпретатора не всегда тождественен динамизму результатов его деятельности. Поэтому так нелегко порой бывает заключить, чем мы занимаемся в процессе познания смысла права: мы толкуем право или мы его интерпретируем.
Если динамизм мышления не выходит, по меткому выражению А.С. Пиголкина, «за пределы сознания интерпретатора» [15, с. 8–9], то интерпретация – это творческий аспект процесса толкования права, реализующий идею автономии и свободы суждений интерпретатора по уяснению смысла правовых велений, но в определенных пределах: пока они не формализуются в виде разъяснения и не получают внешнее выражение в соответствующем акте толкования [4, с. 453]. Интерпретация в этом случае полностью охватывается понятием толкования права.
Если же динамический компонент выходит за пределы мышления, то он объективируется в результатах практической деятельности интерпретатора, которые могут характеризоваться сравнительной новизной (абсолютной или относительной). При относительной новизне результатов, например, интерпретатор мог стремиться к совпадению текстуальной формулировки и действительного смысла нормативного предписания. Интерпретация в данной ситуации представляет собой сам процесс толкования права по объему. При наличии абсолютной смысловой новизны в понимании содержания действующего предписания такая деятельность выходит за пределы понятия толкования, но в отличие от значения, придаваемого ему в зарубежных исследованиях, является уже не «интерпретацией», а «смыслообразованием», в рамках которого совместное использование толкования и других правовых инструментов чаще всего приводит не только к обновлению, но и к созданию новых юридических смыслов.
Теоретико-методологические основания использования термина «интерпретация» в зарубежной литературе
Современные взгляды на соотношение толкования и интерпретации формируются на пересечении философских, политических и конституционно-правовых проблем. В частности, идеи представителей зарубежной герменевтики можно оценить в контексте соответствующих типов научной рациональности: классики, неклассики и постнеклассики [24, с. 35; 11, с. 17, 24].
Например, итальянский юрист и философ Э. Бетти придерживался классического подхода к толкованию, согласно которому внутренние намерения законодателя как автора всегда находят внешнее выражение в юриди- ческом тексте закона. Это поле преимущественно психологической, субъективно ориентированной интерпретации, где автор выделил четыре основополагающих принципа (канона) герменевтической интерпретации: во-первых, «автономия объекта интерпретации», во-вторых, «целостность или смысловая связность этого объекта», в-третьих, канон «актуальности понимания» и, наконец, в-четвертых, принцип «смыслового соответствия или смысловой адекватности понимания» [1, с. 22–27, 29, 32, 33, 40, 117–119].
В отличие от Э. Бетти, Г.Х. Гадамер разделял неклассические представления о толковании, в соответствии с которыми не важно, что хотел сказать автор (законодатель), главное – то, что написано в самом тексте закона и что нам говорят об этом языковые знаки и символы («объективный смысл текста» или «объективная воля закона»). «...Мы можем считать общим для всех форм герменевтики следующее: подлежащий пониманию текст обретает конкретность и завершенность лишь в истолковании, и тем не менее это последнее крепко держится за смысл самого текста» [6, с. 391].
Неклассическая позиция П. Рикера характеризуется дуализмом. Он различал «толкование» по отношению к языку как «закрытому универсуму знаков, соотносящихся друг с другом значениями (тексту)», и «интерпретацию» бытия человека и его сознания, которые он воспринимал как «открытый универсум, работающий в режиме раскрытия смыслов» и подлежащий уже неограниченной трактовке [19, с. 104].
Постнеклассический или постмодернистский подход к толкованию окончательно смещает его целевые ориентиры с автора и самого текста на интерпретатора (читателя). Отказ от идеи обусловленности интерпретации каким-либо критерием правильности или адекватности, то есть отсутствие «нормы» интерпретации, и отсутствие первоначальной структурной упорядоченности познавательной информации в сознании интерпретатора означают, что процесс интерпретации – это создание каждый раз нового текста с новым смыслом. Об этом свидетельствует терминологический аппарат исследований: «децентриро-ванное смысловое поле», «означивающая про- дуктивность» и «значащая структура» и пр. [8, с. 354; 10, с. 294].
Вместе с тем в юридических отношениях центр часто необходим, чтобы люди могли договариваться, например, об общем понимании тех или иных ценностных идей в судебной практике. И, перефразируя старую мудрость, жить в определенном социально-историческом контексте действия права и быть свободным от этого контекста в процессе толкования права невозможно. Именно в этом ключе в современном российском праве начали формироваться элементы концепции «динамической корректировки Конституции Российской Федерации» [17].
Выводы
-
1. Смысл права является единым понятием, сочетающим стабильные и динамические компоненты. Из этого следует, что искусственно противопоставлять семантически сходные термины «толкование» и «интерпретация» по этому основанию вряд ли целесообразно, поскольку «интерпретация» – это все-таки момент толкования либо явление, совпадающее с процессом толкования по объему. Напротив, разграничение по данному основанию семантически различных терминов «толкование» и «конкретизация» имеет свои предпосылки, но это является уже предметом отдельного обсуждения.
-
2. На уровне проблемы правопонимания термин «интерпретация» вполне может использоваться самостоятельно в значении доктринального толкования для построения общенационального образа смысла права. На уровне же законодательства и юридической практики термин «интерпретация», как показывает судебная практика [18], должен использоваться параллельно с «толкованием» до степени смешения (отождествления), но не как альтернативная его замена. В противном случае каждый субъект может под видом интерпретации выдавать созданный им в процессе правопонимания субъективный смысл права в целом за объективный смысл конкретных норм законодательства или правоположений юридической практики и на этом основании утверждать в постмодернистском духе, что его субъективный образ права – это и есть «истинное» право, что в условиях российской
-
3. В условиях глобализационных мировых процессов ХХІ в. толкование права является важнейшим инструментом поддержания российской правовой идентичности, сохранения наработок и достижений отечественной теории права, в рамках которой понятие толкования всегда имело и продолжает сохранять ключевое и фундаментальное значение.
правовой действительности нельзя признать правильным.
Список литературы Толковать нельзя интерпретировать
- Бетти, Э. Герменевтика как общая методология наук о духе / Э. Бетти. - М.: Канон РООИ «Реабилитация», 2011. - 144 с.
- Варламова, Н. В. Типология правопонимания и современные тенденции развития теории права / Н. В. Варламова. - М.: ГУВШЭ: ИГПРАН, 2010. - 136 с.
- Веденеев, Ю. А. Интерпретации права как культурно-исторический феномен: категория и институт / Ю. А. Веденеев // Актуальные проблемы российского права. - 2016. - № 5. - С. 32-46.
- Вопленко, Н. Н. Очерки общей теории права: монография / Н. Н. Вопленко. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2009. - 898 с.
- Гаврилова, Ю. А. Толкование права по объему: дис.... канд. юрид. наук / Гаврилова Юлия Александровна. - Саратов, 2008. - 210 с.
- Гадамер, Г. Г. Истина и метод: основы философской герменевтики / Г. Г. Гадамер; общ. ред. и вступ. ст. Б. Н. Бессонова. - М.: Прогресс, 1988. - 704 с.
- Даль, В. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. Т. 4 / В. Даль. - М.; СПб.: Издание книгопродавца-типографа М. О. Вольфа, 1882. - 683 с.
- Деррида, Ж. Письмо и различие / Ж. Деррида. - СПб.: Академический проект, 2000. - 430 с.
- История государства и права зарубежных стран: учебник для студентов юридических вузов и факультетов. В 2 ч. Ч. 1 / под общ. ред. О. А. Жидкова, Н. А. Крашенинниковой. - М.: ИНФРА-М: НОРМА, 1997. - 480 с.
- Кристева, Ю. Избранные труды: Разрушение поэтики / Ю. Кристева. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - 656 с. - (Серия «Книга света»).
- Лазарев, В. В. Толкование права: классика, модерн и постмодерн / В. В. Лазарев // Журнал российского права. - 2016. - № 8. - С. 15-28.
- Малиновская, Н. В. Интерпретация в праве: генезис, эволюция, актуализация: дис.... канд. юрид. наук / Малиновская Наталья Владимировна. - М., 2010. - 216 с.
- Нарутто, С. В. Конкуренция конституционных прав и свобод человека в интерпретациях Конституционного суда Российской Федерации / С. В. Нарутто // Конституционное и муниципальное право. - 2010. - № 2. - С. 56-65.
- Павлов, В. И. Судебное правотворчество в контексте теории интерпретации и антропологической концепции права / В. И. Павлов, Н. М. Дубрава // Юридическая техника. - 2014. - № 8. - С. 553-559.
- Пиголкин, А. С. Толкование нормативных актов в СССР / А. С. Пиголкин. - М.: Госюриздат, 1962. - 166 с.
- Пишина, С. Г. О методологической основе способов юридической интерпретации / С. Г. Пишина // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2011. - № 2. - С. 65-68.
- Постановление Конституционного Суда Российской Федерации «По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации” в связи с жалобами ряда граждан» от 21 дек. 2005 г. № 13-П // Собрание законодательства РФ. - 2006. - № 3. - Ст. 336.
- Решение Верховного суда Российской Федерации от 27 нояб. 2017 г. по делу № АКПИ17-892. - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
- Рикер, П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике / П. Рикер; пер. с фр. и вступит. ст. И. Вдовиной. - М.: Канон-Пресс-Ц: Кучково поле, 2002. - 624 с.
- Ромашов, Р. А. Интернет - правовая среда герменевтики / Р. А. Ромашов // Ленинградский юридический журнал. - 2016. - № 4. - С. 84-96.
- Сорокина, Ю. В. Юридическая конструкция как результат правовой интерпретации / Ю. В. Сорокина, Н. В. Малиновская // Юридическая техника. - 2013. - № 7 (ч. 2). - С. 721-726.
- Степанов, С. А. Интерпретация интерпретации / С. А. Степанов // Российский юридический журнал. - 2017. - № 6. - С. 23-33.
- Ткачева, С. Г. Конкретизация закона и его судебное толкование: автореф. дис.... канд. юрид. наук / Ткачева Светлана Георгиевна. - М., 1973. - 20 с.
- Хабриева, Т. Я. Доктринальное значение российской Конституции / Т. Я. Хабриева // Журнал российского права. - 2009. - № 2. - С. 34-38.