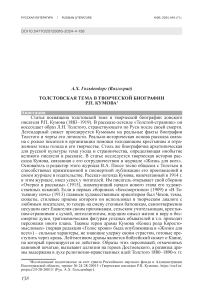Толстовская тема в творческой биографии Р.П. Кумова
Автор: Гольденберг А.Х.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 4 (71), 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена толстовской теме в творческой биографии донского писателя Р.П. Кумова (1883-1919). В рассказе-легенде «Толстой-странник» он воссоздает образ Л.Н. Толстого, странствующего по Руси после своей смерти. Легендарный сюжет проецируется Кумовым на реальные факты биографии Толстого и черты его личности. Реально-историческая основа рассказа связана с ролью писателя в организации помощи голодающим крестьянам и отражением темы голода в его творчестве. Столь же биографична архетипическая для русской культуры тема ухода и странничества, определяющая инобытие великого писателя в рассказе. В статье исследуется творческая история рассказа Кумова, связанная с его сотрудничеством в журнале «Жизнь для всех». Основатель и редактор этого журнала В. А. Поссе тесно общался с Толстым и способствовал прижизненной и посмертной публикации его произведений в своем журнале и издательстве. Рассказ-легенда Кумова, напечатанный в 1914 г. в этом журнале, имел успех у читателей. Им писатель открывает свой сборник «Очерки и рассказы» (1915), знаменующий начало нового этапа его художественных исканий. Если в первых сборниках «Бессмертники» (1909) и «В Татьянину ночь» (1913) главным художественным ориентиром был Чехов, темы, сюжеты, стилевые приемы которого он использовал в творческом диалоге с любимым писателем, то теперь на смену степным батюшкам, самоотверженно несущим свет Евангелия своим прихожанам, сельским учительницам, крестьянам-странникам с сумой, интеллигентам, ищущим смысл жизни и веру в бессмертие души, трагикомическим фигурам уездных обывателей и т. п. приходят персонажи иного плана. Таковы герои драмы Кумова «Конец рода Коросто-мысловых» (первая редакция «Голос крови» была опубликована в «Жизни для всех») - сильные характеры, не знающие удержу своим страстям, готовые преступить через кровь. Лейтмотивом драмы является библейский сюжет о Каине, на который проецируется ее действие. Образы этих персонажей, отмеченных каиновой печатью, вызывают аллюзии на героев Достоевского, а развязка драмы выдержана в духе религиозно-нравственных идей Толстого 1880-1890-х гг. об устройстве жизни на основе братства, любви, прощения. Жертвы отказываются от мести, берут вину на себя, разрывая цепь зла. Убийцы сводят счеты с жизнью и умирают, не выдержав бремя своего греха. Мотивы покаяния и душевного прозрения перекликаются с дидактическим пафосом толстовской пьесы «Власть тьмы» и его народных рассказов 1880-х гг. Влияние идей Тол -стого обнаруживается и в ряде других произведений Кумова. Его литературное наследие впервые вводится в круг толстоведческих исследований.
Кумов, творческая биография, литературное наследие, легенда, голод, странничество, толстой, религиозная философия
Короткий адрес: https://sciup.org/149147183
IDR: 149147183 | DOI: 10.54770/20729316-2024-4-138
Текст научной статьи Толстовская тема в творческой биографии Р.П. Кумова
Статья посвящена толстовской теме в творческой биографии донского писателя Р.П. Кумова (1883–1919). В рассказе-легенде «Толстой-странник» он воссоздает образ Л.Н. Толстого, странствующего по Руси после своей смерти. Легендарный сюжет проецируется Кумовым на реальные факты биографии Толстого и черты его личности. Реально-историческая основа рассказа связана с ролью писателя в организации помощи голодающим крестьянам и отражением темы голода в его творчестве. Столь же биографична архетипическая для русской культуры тема ухода и странничества, определяющая инобытие великого писателя в рассказе. В статье исследуется творческая история рассказа Кумова, связанная с его сотрудничеством в журнале «Жизнь для всех». Основатель и редактор этого журнала В.А. Поссе тесно общался с Толстым и способствовал прижизненной и посмертной публикации его произведений в своем журнале и издательстве. Рассказ-легенда Кумова, напечатанный в 1914 г. в этом журнале, имел успех у читателей. Им писатель открывает свой сборник «Очерки и рассказы» (1915), знаменующий начало нового этапа его художественных исканий. Если в первых сборниках «Бессмертники» (1909) и «В Татьянину ночь» (1913) главным художественным ориентиром был Чехов, темы, сюжеты, стилевые приемы которого он использовал в творческом диалоге с любимым писателем, то теперь на смену степным батюшкам, самоотверженно несущим свет Евангелия своим прихожанам, сельским учительницам, крестьянам-странникам с сумой, интеллигентам, ищущим смысл жизни и веру в бессмертие души, трагикомическим фигурам уездных обывателей и т.п. приходят персонажи иного плана. Таковы герои драмы Кумова «Конец рода Коросто-мысловых» (первая редакция «Голос крови» была опубликована в «Жизни для всех») – сильные характеры, не знающие удержу своим страстям, готовые преступить через кровь. Лейтмотивом драмы является библейский сюжет о Каине, на который проецируется ее действие. Образы этих персонажей, отмеченных каиновой печатью, вызывают аллюзии на героев Достоевского, а развязка драмы выдержана в духе религиозно-нравственных идей Толстого 1880–1890-х гг.
об устройстве жизни на основе братства, любви, прощения. Жертвы отказываются от мести, берут вину на себя, разрывая цепь зла. Убийцы сводят счеты с жизнью и умирают, не выдержав бремя своего греха. Мотивы покаяния и душевного прозрения перекликаются с дидактическим пафосом толстовской пьесы «Власть тьмы» и его народных рассказов 1880-х гг. Влияние идей Толстого обнаруживается и в ряде других произведений Кумова. Его литературное наследие впервые вводится в круг толстоведческих исследований.
ючевые слова
Кумов; творческая биография; литературное наследие; легенда; голод; странничество; Толстой; религиозная философия.
A.Kh. Goldenberg (Volgograd)
TOLSTOY’S THEME IN THE CREATIVE BIOGRAPHYOF R.P. KUMOV1
stract
The article is devoted to the Tolstoy theme in the creative biography of the Don writer R.P. Kumov (1883–1919). In the legend story “Tolstoy the Wanderer”, he recreates the image of Leo Tolstoy, wandering through Russia after his death. The legendary plot is projected by Kumov onto the real facts of Tolstoy’s biography and his personality traits. The real-historical basis of the story is connected with the writer’s role in organizing assistance to starving peasants and reflecting the theme of hunger in his work. The theme of departure and wandering, archetypal for Russian culture, which defines the great writer’s otherness in the story, is equally biographical. The article explores his creative history related to Kumov’s collaboration in the magazine “Life for All”. Its founder and editor, V.A. Posse, communicated closely with Tolstoy and contributed to the lifetime and posthumous publication of his works in his magazine and publishing house. Kumov’s legend story, published in 1914 in this magazine, was a success with readers. With them, the writer opens his collection “Essays and Short Stories” (1915), marking the beginning of a new stage of his artistic quest. If in the first collections “Immortelles” (1909) and “Tatiana’s Night” (1913) Chekhov was the main artistic reference point, themes, plots, stylistic techniques of which he used in a creative dialogue with his beloved writer, now he has replaced the steppe priests, selflessly bringing the light of the Gospel to their parishioners, rural teachers, peasant wanderers with the sum, intellectuals looking for the meaning of life and faith in the immortality of the soul, tragicomic figures of the county inhabitants, etc. come characters of a different plan. These are the heroes of Kumov’s drama “The End of the Korostomyslov family” (the first edition of “The Voice of Blood” was published in “Life for All”) – strong characters who do not know how to restrain their passions, ready to transgress through blood. The leitmotif of the drama is the biblical story of Cain, on which its action is projected. The images of these characters, marked with the Cain seal, evoke allusions to Dostoevsky’s heroes, and the denouement of the drama is sustained in the spirit of Tolstoy’s religious and moral ideas of the 1880s–1890s about the structure of life based on brotherhood, love, forgiveness. The victims refuse to take revenge, take the blame on themselves, tearing apart the value of evil. Murderers commit suicide and die unable to bear the burden of their sin. The motives of repentance and spiritual insight echo the didactic pathos of Tolstoy’s play “The Power of Darkness” and his folk stories of the 1880s. The influence of Tolstoy’s ideas is also found in a number of other works by Kumov. His literary legacy is being introduced into the circle of Tolstoy studies for the first time.
K
ey words
Kumov; creative biography; literary heritage; legend; famine; pilgrimage; Tolstoy; religious philosophy.
В 1914 г. в петербургском журнале «Жизнь для всех» был опубликован рассказ «Толстой-странник. Легенда» донского писателя Романа Петровича Кумова (1883–1919). Год спустя им открывался, указывая на его программный характер, сборник Кумова «Очерки и рассказы» [Кумов 1915, 9–12].
Действие рассказа происходит во время поездки повествователя на пароходе по Каме и основано на личных впечатлениях автора. Журнальный текст сопровождался его комментарием: «Въ сокращ. виде легенда была напечатана въ “Каме”, откуда взята столичн. и провинц. изданиями. В полном виде легенда появляется здесь впервые» [Кумов 1914, 91]. Речь идет о сарапульской газете, в которой печатался Кумов, ежегодно приезжавший в этот вятский город по служебным делам в качестве присяжного поверенного. Однако в газете обнаружить рассказ о Толстом не удалось. В 1913 г. в ней был опубликован лишь очерк Кумова «Кама. Из дорожного альбома» [Кумов 1913, 4] (за поиск газетных публикаций писателя приношу глубокую благодарность Елене Сергеевне Опалевой, главному научному сотруднику Сарапульского музея-заповедника). И в нем тоже есть легенда – поэтическая местная татарская легенда о том, как Аллах выбирал для реки имя. Автор очерка любуется ширью реки и восхищается ее красотой.
В рассказе-легенде о Толстом рисуется совсем другой, прямо противоположный образ Камы – реки народного горя. Повествователь и его попутчики – немец-инженер и мещанин видят на каждой пристани одну и ту же картину – группы донельзя оборванных мужиков «поют Лазаря», чтобы получить подаяние на хлеб. Причем с каждой новой стоянкой их количество растет, что свидетельствует о массовом голоде в этих краях. Немец восхищается музыкальностью русского народа, пока ему не объясняют, зачем поют духовный стих о Лазаре. «А что, Лёв Толстов у вас еше? – вдруг кричит мещанин, стараясь перекричать поднявшийся шум машины. – Не. Об Ивана Постнаго уше-ди… – Куда? Мужик махнул рукой куда-то в сторону от реки» [Кумов 1914, 92]. На недоуменный вопрос попутчиков мещанин, едущий с реки Белой, говорит, что наблюдал там еще более страшную картину («полки стоят мужичьи на пристанях и поют») и рассказывает о Льве Толстом, который в лаптях и крестьянской одежде странником ходит от одной голодающей деревни к другой и расспрашивает мужиков об их жизни. Мещанин даже однажды сошел с парохода, чтобы увидеть Толстого, но в ближайших деревнях ему никак не удавалось его застать, поскольку он уходил накануне его прихода. Согласно легенде, народ верит, что Толстой странствует по Руси, чтобы узнать о его нуждах.
В основу рассказа Кумов кладет реальные факты и темы творческой и личной биографии Толстого. Это тема голода и тема ухода и странничества. Первая сопровождает благотворительную деятельность Толстого с самарского голода 1873 г., продолжается голодом 1891–1892 гг., 1898–1899 гг. и завершается 1907 г.
Проблема крестьянского голода не оставляла Толстого с 1870-х гг. до конца его жизни. Ей посвящены публицистические статьи «Голод или не голод» (1889), «О голоде» (1891), «Страшный вопрос» (1891), «Среди нуждающихся» (1891, 1892), «Письма о голоде» (1892), «Заключение о помощи голодающим» (1893) и др. [Лев Толстой и голод 1912]. Он и члены его семьи приняли участие в устройстве столовых для голодающих в Тульской и Самарской губерниях.
Великий писатель одним из первых обратился к обществу с призывом о реальной помощи голодающим крестьянам, сам во всю силу своего таланта включился в борьбу за спасение народа от голодной смерти. Целый ряд его печатных выступлений носил эпистолярный характер. Первое – «Письмо к издателю (О Самарском голоде)» (1873), в котором он нарисовал ужасающую картину положения крестьян Самарской губернии, было адресовано издателю газеты «Московские ведомости».
Под впечатлением от «Письма» Толстого с призывом о помощи голодающим начали поступать пожертвования, как со стороны частных лиц, так и со стороны различных учреждений и организаций. За короткое время удалось собрать около двух миллионов рублей пожертвований деньгами и более 20 тысяч пудов хлеба [Ахметова 2018, 87].
Еще несколько лет спустя местные жители с благодарностью вспоминали о помощи, оказанной им Толстым в этом деле. «Когда в 1881 году, – пишет А.С. Пругавин, – нам пришлось посетить Бузулукский уезд, то от крестьян Патровской волости мы слышали много рассказов о сердечной заботливости, которую проявлял Толстой, живя среди них во время голодовки 1873 года, как он лично обходил наиболее нуждающиеся крестьянские дворы, с каким вниманием входил он в их интересы и нужды, как он помогал беднякам, снабжая их хлебом и деньгами, как он давал средства на покупку лошадей и т.д. Воспоминание об этой деятельности знаменитого писателя и до сих пор сохраняется в среде крестьянского населения Патровки, Гавриловки, Землянок» [Пругавин 1911, 34].
Письмо «О Самарском голоде» стало результатом статистического обследования, проведенного самим писателем, обходившим крестьянские дворы и записывавшим число едоков в каждой хате и количество имеющегося хлеба. Толстой писал: «Проехав по деревням <…> я сделал опись каждого десятого двора <...> и верность этой описи подтверждается подписями старшин и священников» [Толстой 1936a, 62]. Толстовское письмо издателю «Московских ведомостей» было перепечатано целым рядом периодических изданий и вызвало многочисленные комментарии. Обратили на себя внимание и необычный стиль письма, и образ его автора. Толстой, по словам «Петербургской газеты», «в осязательных и ярких красках», показал бедственное положение Самарской губернии. Обозреватель газеты «Голос» писал: «Самая сильная часть картины, набросанная мастерской рукой, составляет опись каждого десятого двора, сделанная гр. Толстым. Такого приема я не встречал при описании положений, почему-нибудь подходящих к описанному в самарском письме. Это уж целая история или, лучше, сборник отдельных историй каждой десятой семьи за трехлетний период, очень маленьких историй очень маленьких людей за очень маленький период. Но пиши целый том с миллионом восклицательных знаков, текстов и афоризмов – и все-таки не сравнишься с неотразимой убедительностью этой “подворной описи”» (25 августа 1873 г., № 234). Журнал «Гражданин», выходивший в то время при участии Достоевского, в заметке «Из текущей жизни» (3 сентября 1873 г., №36), цитируя статью «Голоса», также задался вопросом: «Что же это за прием, который пробудил общество, много раз уже читавшее о голоде в Самарской губернии и тем не менее никак не откликавшееся на него? Опись, занимающая половину письма, и составляет этот поражающий прием». Ее могло составить либо лицо официальное, либо «человек совсем близкий», на которого крестьяне смотрят «как на самого себя или как на доверенного собрата» [Цит. по: Гусев 1963, 144]. Этой взаимной близостью между голодающими и составителем письма и объясняет автор силу производимого им впечатления.
Именно таким «доверенным лицом» предстает Толстой в рассказе-легенде Кумова: «сядет на лавку, лапотки переобует и начнет выспрашивать – как мужики живут. Мужики уважают его. За вечерю его сажают, – честь честью. Только едокъ онъ плохой. Вот этакий кусочек хлебца и – сыт. Наставляет. Только зубов у него нет, а усы в рот лезут. Говорит – фам, фам, – по стариковски. Мужичьи ребятишки хохочут, и он сам весел...» [Кумов 1914, 93]. Крестьянский облик писателя тоже достоверен: он был хорошо известен его современникам по многочисленным газетным и журнальным портретам. Обращает на себя внимание простой и ясный язык рассказа Кумова, стиль которого, как нам представляется, ориентирован на «народные рассказы» Толстого.
Картины народного голода нашли отражение не только в публицистике, но и в художественном творчестве писателя. Изображая в рассказе «Два старика» (1885), входящем в цикл «народных рассказов», умирающую от голода крестьянскую семью, Толстой показывает, что они могут надеяться лишь на подаяния добрых людей: «…тут не родилось ничего, стали с осени проедать, что было. Проели все – стали у соседей и добрых людей просить. Сперва давали, а потом отказывать стали. Которые-бы и рады дать, да нечего… Стали старуха с девчонкой ходить в даль побираться. Подаяние плохое, ни у кого хлеба нет. Все-таки кормились кое-как, думали пробьемся так до новины. Да с весны совсем подавать перестали, а тут и болезнь напала. Пришло совсем плохо. День едим, а два нет» [Толстой 1937, 88]. Герой рассказа Елисей, совершающий вместе с односельчанином паломничество в Иерусалим, не может остаться безучастным к отчаянному положению семьи, в дом которой он зашел, чтобы попросить воды. На деньги, собранные для паломничества, покупает им муку, лошадь и телегу, возвращает заложенные у богатого мужика пашню и покос. Когда семья оправилась от беды, он возвращается домой. Другой старик-паломник Ефим не стал дожидаться отставшего Елисея и дошел до Гроба Господня. К своего удивлению, он несколько раз видел около него Елисея, но не мог к нему пробиться в тесной толпе паломников. Эти мотив «неуловимости» праведника, его чудесного перемещения в сакральное пространство наделяет рассказ чертами религиозной легенды. Он утверждает многократно повторяемую мысль Толстого, что вовсе не соблюдение постов и церковных обрядов, а деятельная любовь к людям и милосердие угодны Богу. В них обретается истинная близость к нему, выраженная толстовской формулой «Царство Божие внутри нас» [Мелешко 2006].
Кумов не раз обращался в своем творчестве к жанру религиозной легенды. Можно указать на такие его произведения, как «Сказание о старце Зосиме и Марии из Египта», «Игумен Иосаф. Из донских преданий», «Старохоперский поход», «Ясмень-трава». Примыкает к ним и рассказ-легенда «Толстой-странник». Бытовой, на первый взгляд, образ Толстого в своем посмертном существовании невольно сакрализуется, обретая в народном сознании жизнь вечную.
Тема ухода и странничества – одна из ведущих в позднем творчестве Толстого. До статочно назвать «Посмертные записки старца Фёдора Кузьмича»,
«Отец Сергий», «Воскресение», «Ассирийский царь Асархадон» и др. Она неоднократно возникает в дневниках и письмах Толстого, его публицистике. Своей кульминации она достигает в драматическом уходе Толстого из Ясной Поляны. Не исключено, что сюжет посмертного странничества героя в рассказе Кумова восходит к «Посмертным запискам старца Фёдора Кузьмича». Для русской культуры сюжет ухода и странничества является архетипическим [Виролайнен 2003, 389–399; Смирнов 2005]. В творчестве Кумова он тоже был весьма значим. Странствуют, спасаясь от голода, герои очерка «Мужики», уходит из пустыни и странствует герой «Сказания о старце Зосиме и Марии из Египта». В основу рассказа «На родине», написанного на сюжет чеховского «Архиерея», положен уход преосвященного Иоанна, возвращающегося в родные места, от своей социальной роли, ощущение им свободы и счастья быть обыкновенным человеком [Кумов 2008, 137–155]. Странствует по святым местам после ухода из дома наследник богатого купеческого рода Степан в драме «Конец рода Коростомысловых».
Кумов никогда не встречался с Толстым. Но один литературный контакт нам удалось обнаружить. В 1910 г. началось длительное сотрудничество писателя с журналом «Жизнь для всех». Опубликованные в нем произведения составили второй сборник Кумова «В Татьянину ночь» (1913). Писатель продолжает здесь художественное исследование религиозно-философской проблемы бессмертия человеческой души, поставленной в его первом сборнике «Бессмертники» (1909).
Редактор журнала «Жизнь для всех», известный литератор, журналист, издатель, общественный деятель В.А. Поссе не раз бывал у Л.Н. Толстого в Москве и Ясной Поляне и написал воспоминания об этих встречах, опубликованные при жизни писателя. Он сочувствовал многим идеям Толстого и стремился их поддерживать на страницах редактируемых им изданий. Для первого номера своего нового журнала «Жизнь для всех» (1910–1918) он получил от великого писателя его публицистическое произведение «Письмо польке». «Буду рад, – писал Л.Н. Толстой, – если оно в каком бы то ни было виде пригодится вашему изданию, которому, по тому, что вы пишете об его задачах, всей душой сочувствую» [Поссе 1929, 206]. Первый номер, посланный в Ясную Поляну, Толстой «читал и очень подробно о нем высказался» [У Толстого 1979, 156]. В нем был опубликован рассказ Кумова «В Татьянину ночь». Что именно говорил Толстой, Д. Маковицкий, к сожалению, не записал, но на его возможное знакомство с рассказом Кумова этот факт указывает.
После смерти великого писателя журнал стал издавать в виде приложения собрание сочинений Толстого, включая в него наиболее «опасные», с точки зрения цензоров, произведения. В конце 1912 г. полиция конфисковала один из томов собрания, в котором были помещены полностью «Исповедь» и «В чем моя вера». Редактор был привлечен к суду по статье 73-й за кощунство . «В своем последнем слове, – вспоминал В.А. Поссе, – я от обороны перешел к нападению п резко клеймил судебные власти, осмелившиеся в моем лице посадить на скамью подсудимых Льва Николаевича Толстого» [Поссе 1929, 450]. Несмотря на преследования властей, толстовская тема не исчезла со страниц журнала. В первом номере 1914 г. в нем был опубликован рассказ Р. Кумова «Толстой-странник. Легенда».
Сборник «Очерки и рассказы» (1915), которым открывается этот рассказ, знаменует начало нового этапа художественных исканий Кумова. Если в первых его книгах главным художественным ориентиром был Чехов, темы, сюжеты, стилевые приемы которого он использовал в творческом диалоге с любимым писателем [Гольденберг, Медведева 2016], то теперь на смену степным батюшкам, самоотверженно несущим свет Евангелия своим прихожанам, обнищавшим крестьянам, идущим по миру с сумой, сельским учительницам, интеллигентам, ищущим смысл жизни и веру в бессмертие души, трагикомическим фигурам уездных обывателей и т.п. приходят персонажи иного плана.
Таковы герои драмы Кумова «Конец рода Коростомысловых» (первый ее вариант «Голос крови» был опубликован в «Жизни для всех») – сильные характеры, не знающие удержу своим страстям, готовые преступить через кровь. Лейтмотивом драмы является библейский сюжет о Каине, на который проецируется ее действие. Главный герой пьесы – необузданный в своих чувствах и желаниях владелец миллионного состояния камский лесопромышленник Кузьма Коростомыслов, в образе которого слились черты предков – речных разбойников, засеченных в один год со Стенькой Разиным, и религиозных подвижниц, основательниц монастырей в заволжском крае. Кузьма – двойной грешник: хочет жениться на девушке, которая, как выясняется в конце драмы, является его племянницей. Он готов отдать за нее опекуну девушки Хлудову свое состояние. Есть на нем и каинова печать: Кузьма убивает в припадке ревности своего племянника Николая. Каинову печать носит на себе ктитор городского собора Хлудов, убивший беременную жену во время ее тайного свидания в лесу с любимым человеком. Он хочет убить и родившегося в этот момент ребенка, но пугается неожиданного свидетеля. Хлудов берет девочку на воспитание и много лет живет мечтой о мести любовнику жены, которого он не успел разглядеть и узнать.
В драме можно обнаружить некоторые мотивы и сюжетные аллюзии на роман Достоевского «Идиот»: чтобы искупить грех покупки невесты, Кузьма бросает в огонь свои миллионы, его конфликт с религиозным и нравственно чистым племянником соотносится с сюжетной линией Рогожин – князь Мышкин. Автор одной из самых проницательных рецензий на пьесу писал о «смутном влиянии Достоевского» на образы драмы: «Кузьма… как новый Яго, «крови хочет», неотразимо тянется к убийству, жаждет проверить себя, действительно ли «через это перейти можно» [Айхенвальд 1916, 3]. Не менее значимы в драме и художественные темы Толстого (ревность как гибельная страсть в «Анне Карениной», «Крейцеровой сонате» и др.). Важную роль в мелодраматическом сюжете играет образ брата Кузьмы Степана, ставшего на двадцать лет странником по святым местам и вернувшегося домой в самый острый момент конфликта его сына с дядей из-за любви к главной героине драмы Татьяне. Кузьме приходится отдать брату его долю семейного наследства, за счет которого Степан хочет основать монастырь на месте убийства ее матери, которую он любил. Хлудов, опекун главной героини, убивший в припадке ревности изменившую ему жену и мать Татьяны, продающий ее Кузьме, узнает, что она дочь Степана, которого он собирался убить за прелюбодеяние с его женой. Он, как и Степан, собирался основать монастырь на месте убийства, чтобы замолить пролитую кровь.
Развязка драмы выдержана в духе религиозно-нравственных идей учения Толстого 1880–1890-х гг. об устройстве жизни на основе братства, любви, прощения, самопожертвования [см.: Мелешко 2006]. Жертвы отказываются от мести, Николай, умирая, берет вину на себя, зло наказано изнутри. Хлудов повесился, Кузьма отдает себя на суд Божий и умирает. Так прерывается цепь зла, но кровавые следы его остаются на страницах старинной библии, по кото- рой Николай читает Кузьме историю Каина и Авеля. «Люди наказываются не за грехи, а наказываются самими грехами, – писал Толстой в трактате «Путь жизни». – И это самое тяжелое и самое верное наказание» [Толстой 1956, 94].
Центральной в пьесе является проблема соотношения мирского и духовно-религиозного начал в земной жизни человека, одна из ключевых в творчестве и религиозной философии Толстого. Мотивы покаяния и душевного прозрения перекликаются с дидактическим пафосом толстовской пьесы «Власть тьмы», его рассказов «Фальшивый купон», «Карма», «Бог правду видит, да не скоро скажет», «народных рассказов», воплощающих нравственную доктрину писателя.
Толстовские мотивы прослеживаются и в более раннем рассказе Кумова «Алексей Петрович». Горожане называли его героя «странным человеком» за безмерную доброту: «Если к кому-либо в городе зайдет погорелец и попросит денег на одежонку, его отсылают к Алексею Петровичу» [Кумов 2008, 60]. Небогатый одинокий старик живет трудами рук своих, возделывает большой грушевый сад и одаряет его плодами детей. Соседской семье он часто помогает деньгами, хлебом, грушами. Их отец Лаврентий готов на любую работу, чтобы избавить многодетную семью от нищеты. Накануне Пасхи он берется отвезти со станции купца и по дороге убивает его: «Деньжат хотелось к празднику. Затмение нашло» [Кумов 2008, 66]. Исповедуясь перед Алексеем Петровичем, он просит его не оставить без попечения детей. Чтобы спасти Лаврентия от каторги, а его семью от потери кормильца, Алексей Петрович берет вину за убийство на себя, следуя евангельскому завету: «Бо́ лши сея́ любве́ никто́ же и́ мать, да кто́ ду́ шу свою́ положи́ тъ за дру́ ги своя́ » (Ин, гл. 15, 13). Жители городка, знающие его как самого кроткого и доброго человека, не могут в это поверить. Совесть и раскаяние мучают Лаврентия, и на суде он заявляет о своей вине. Растерянные судьи выносят решение отправить обоих в тюрьму, а «небывалое дело» передать на рассмотрение в сенат. Через год оттуда поступает заключение о прекращении дела и освобождении обвиняемых, «ввиду того, что в нем содержатся мотивы, побудившие одного из двух поступить так самоотверженно, мотивы, не поддающиеся точному юридическому исследованию» [Кумов 2008, 69].
Показательно, что необычное решение сената основано не на юридических, а на моральных основаниях. В нем отражается особенность писательской манеры Кумова, в которой, по словам Ю.И. Айхенвальда, «есть вообще искреннее религиозное чувство, внутреннее благочестие», «чувство любов-ности, почти без укора людям» [Айхенвальд 1916, 3]. В этом Кумов близок толстовскому понимаю истинной природы христианской любви: «И нет иной любви, как той, чтобы положить душу свою за други своя. Любовь – только тогда любовь, когда она есть жертва собой... И только тем, что есть такая любовь в людях, только тем и стоит мир » («О жизни») [Толстой 1936b, 324].
Сохранилось прямое свидетельство интереса Кумов к толстовскому учению. В фонде В.Г. Черткова находится письмо Кумова от 16 января 1917 г. неустановленному лицу. Нам удалось атрибутировать адресата. Это А.С. Зо-нин, редактор-издатель журнала «Единение», печатного органа толстовцев. Кумов благодарит его за журнал и за доброе слово о драме «Конец рода Ко-ростомысловых», победившей на Всероссийском конкурсе драматургов им. А.Н. Островского 1916 г.: «Я же журналом доволен. В нем уже сейчас чувствуется этакая главная теплота душевная – признак хорошего ясного живого дела. Дальше, я уверен, теплота эта будет расти еще больше». Видимо, в ответ на просьбу редактора он готов предложить журналу свои произведения: «Моя рукопись – “Король улыбок”» [Кумов 1917]. Однако этот кумовский текст пока не обнаружен. Нет сомнений, что он должен был отвечать программе журнала, пропагандировавшего идеи Толстого.
Таким образом, можно говорить о значительной роли толстовской темы и комплекса его художественных и религиозно-философских идей в творчестве Кумова. Это позволяет ввести литературное наследие донского писателя в круг толстоведческих исследований.
Список литературы Толстовская тема в творческой биографии Р.П. Кумова
- Айхенвальд Ю.И. О Романе Кумове // Речь. Пг, 1916. № 195 (18 июля). С. 3.
- Ахметова М.А. «Помощь людям может быть только живой.» (о деятельности Л.Н. Толстого в голодные годы) // Ученые записки Орловского государственного университета. 2018. № 4 (81). С. 86-90.
- Лев Толстой и голод / Сборник под ред. Ч. Ветринского. Нижний Новгород: Изд-во «Нижегородский ежегодник», 1912. 218 с.
- Виролайнен М.Н. Речь и молчание: Сюжеты и мифы русской словесности. СПб.: Амфора, 2003. 503 с.
- Гольденберг А.Х., Медведева М.А. Чеховские сюжеты и мотивы в творчестве Р. П. Кумова // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2016. № 1 (105). С. 170-179.
- Гусев Н.Н. Л.Н. Толстой. Материалы к биографии с 1870 по 1881 год. М.: Изд-во АН СССР, 1963. 694 с.
- Кумов Р. Кама. Из дорожного альбома // Кама (Сарапул). 27.07.1913. № 164. С. 3-4.
- Кумов Р. Толстой-странник. Легенда // Жизнь для всех. 1914. №1. С. 91-93.
- Кумов Р. Очерки и рассказы. Пг.: Жизнь для всех, 1915. 183 с.
- Кумов Р.П. Избранное / сост. В.И. Супрун. Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2008. 564 с.
- Кумов Р. Письмо неустановленному лицу // РГАЛИ, Ф. 552. Оп. 1. Ед. хр. 4738. 2 л.
- У Толстого. «Яснополянские записки» Д.П. Маковицкого. Книга четвертая. М.: Наука, 1979. 486 с.
- Мелешко Е.Д. Христианская этика Л.Н. Толстого. М.: Наука, 2006. 309 с.
- Поссе В.А. Мой жизненный путь. Дореволюционный период (1864-1917 гг.). М. - Л.: «Земля и фабрика», 1929. 548 с.
- Пругавин А.С. О Льве Толстом и о толстовцах: очерки, воспоминания, материалы. М.: Издание автора, 1911. 323 с.
- Смирнов И.П. Странничество и скитальчество в русской культуре // Звезда, 2005. № 5. С. 205-212.
- (a) Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. Т. 17. М.: Художественная литература, 1936. 821 с.
- (b) Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. Т. 26. М.: Художественная литература, 1936. 949 с.
- Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. Т. 25. М.: Художественная литература, 1937. 914 с.
- Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. Т. 45. М.: Художественная литература, 1956. 601 с.