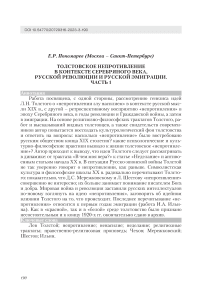Толстовское непротивление в контексте Серебряного века, русской революции и русской эмиграции. Часть 1
Автор: Пономарев Е.Р.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 3 (66), 2023 года.
Бесплатный доступ
Работа посвящена, с одной стороны, рассмотрению генезиса идей Л.Н. Толстого о «непротивлении злу насилием» в контексте русской мысли XIX в., с другой - ретроспективному восприятию «непротивления» в эпоху Серебряного века, в годы революции и Гражданской войны, а затем в эмиграции. На основе религиозно-философских трактатов Толстого, работ и высказываний видных толстовцев, а также свидетельств современников автор попытается воссоздать культурологический фон толстовства и ответить на вопросы: насколько «непротивление» было востребовано русским обществом конца XIX столетия? какие психологические и культурно-философские практики вызвало к жизни толстовское «непротивление»? Автор приходит к выводу, что идеи Толстого следует рассматривать в динамике: от трактата «В чем моя вера?» к статье «Неделание» и антивоенным статьям начала XX в. В ситуации Русско-японской войны Толстой не так уверенно говорит о непротивлении, как раньше. Символистская культура и философские школы XX в. радикально перечитывают Толстого: показательно, что Д.С. Мережковскому и Л. Шестову «непротивление» совершенно не интересно; их больше занимает понимание писателем Бога и добра. Мировая война и революция заставили русских интеллектуалов по-новому взглянуть на идею «непротивления», заговорить об идейном влиянии Толстого на то, что происходит. Последнее перечитывание «непротивления» относится к первым годам эмиграции (работа И.А. Ильина). Как в «красной», так и в «белой» среде толстовство было признано несостоятельным и к концу 1920-х гг. окончательно сдано в архив.
Лев толстой, непротивление, ненасилие, неделание, религиозные трактаты, нравственно-религиозная проповедь, чехов, мережковский, шестов, ильин
Короткий адрес: https://sciup.org/149143535
IDR: 149143535 | DOI: 10.54770/20729316-2023-3-190
Текст научной статьи Толстовское непротивление в контексте Серебряного века, русской революции и русской эмиграции. Часть 1
Русское общество 1880–1890-х гг. видело в Л.Н. Толстом не только великого писателя (каковым после публикации «Анны Карениной» его признали практически во всем мире), но и выдающегося мыслителя. Идеи толстовства, о которых в советское время постарались благополучно забыть (Лев Толстой воспринимался в рамках другой парадигмы – борьбы за права крестьянства и разного рода «зеркал русской революции»), показались его современникам исключительно важными. «Он стал почти всероссийским фаворитом и при том не в качестве художника только, а главным образом в качестве мыслителя <...>» [Михайловский 1897, 360], – пишет в 1886 г. о Толстом один из лидеров народничества Н.К. Михайловский. «Любимый баловень нашей читающей публики <...>, граф Л.Н. Толстой сделался теперь настоящею злобою дня. <...> Никогда еще популярность писателя не достигала у нас таких размеров. Очевидно, Лев Толстой далеко оставил за собою славу, приобретенную “Войной и миром” и “Анною Карениною” <...>» [Слонимский 1886, 808], – вторит ему далекий от народников юрист и экономист Л.З. Слонимский.
Основные идеи толстовства витали в воздухе эпохи и органически выросли из народничества – основного идейного течения предшествующего десятилетия. В 1860-е гг. сам Толстой считался «народником» за педагогическую деятельность в Ясной Поляне (в те годы народниками именовали всех, кто сочувствовал идее долга интеллигенции перед народом; уже позднее этот термин был переформатирован в советской исторической парадигме). Народнический призыв, обращенный к образованному сословию, – отправиться в деревню и начать жить мужицким сельскохозяйственным трудом – был близок Толстому изначально. В 1870-е гг. он подвел под эту идею религиозный принцип, но формы его собственной усадебной жизни от этого практически не изменились. Интересно, что идея интеллигентских колоний в деревне тоже принадлежит народническому движению; многие поселения интеллигентов в деревне появились намного раньше, чем идеи толстовства. Под влиянием проповеди Толстого целый ряд народнических колоний превратился в толстовские. А собственно толстовские поселения создавались с учетом обширного народнического опыта, так что социальные формы жизни толстовцев во многом были сформированы в период народничества. Наконец, важнейшие идеи толстовства во многом коррелировали с народнической идеей и логически развивали ее. Так, непротивление злу насилием появилось из глубин народнической идеологии, о чем свидетельствует фигура Александра Капитоновича Маликова – одного из первых проповедников ненасилия, на некоторое время увлекшего своей проповедью даже Н.В. Чайковского (cм. о нем прежде всего в третьей части «Истории моего современника» В.Г. Короленко). Этот момент представляется чрезвычайно значимым: демократическая идеология народничества, впервые применившая (в процессе логического развития одной из своих ветвей) теорию и практику революционного террора, имела и иной путь развития: к политически окрашенному ненасилию и неделанию.
Впрочем, как известно, для самого Л.Н. Толстого идеи толстовства были глубоко личными, многократно обдуманными и выстраданными. Толстовская идея непротивления давно привлекает самое пристальное научное внимание [см., например: Мелешко 2006; Лев Николаевич Толстой 2014], мы в данной работе ограничимся лишь одним аспектом ее восприятия – культурно-историческим, указав на те моменты, которые не были отмечены ранее. Как известно, толчком для духовного переворота Толстого послужил страх смерти, испытанный им в Арзамасе в 1869 г. Этот страх стимулировал в нем мужицкое (детское, непосредственное) осмысление религии и привел к тому толкованию Нагорной проповеди, из которого вырастают, так или иначе, все толстовские постулаты [см. об этом: Евлампиев, Матвеева 2020, 167]: «И только изверившись одинаково и во все толкования ученой критики, и во все толкования ученого богословия, и откинув их все, по слову Христа: если не примете Меня, как дети, не войдете в Царствие Божие... я понял вдруг то, чего не понимал прежде. <…> Место, которое было для меня ключом всего, было место из V главы Матфея, стих 39-й: “Вам сказано: око за око, зуб за зуб. А я вам говорю: не противьтесь злу”... Я вдруг в первый раз понял этот стих прямо и просто. Я понял, что Христос говорит то самое, что говорит» [Толстой 1957, 310].
Собственно, проповедь Толстого не была созданием новой религии, как утверждали некоторые адепты. В ней нет ни онтологии, ни метафизики, ни мистического начала. И.И. Евлампиев и И.Ю. Матвеева полагают, что учение Толстого во многом напоминает «религию человечества» Л. Фейербаха и религию философов-просветителей, имеющую факультативное значение, – за тем исключением, что для Толстого важно непосредственное «общение с Богом», которого эти рациональные учения не признают [Евлампиев, Матвеева 2020, 168]. Вся проповедь Толстого сводится к очень личному вопросу: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» (Мк. 10:17; Мф. 19:16; Лк. 18:18). Учение затрагивает исключительно вопросы личной морали, ответы на которые позволяют противопоставить смерти праведную жизнь. В отличие от народничества, толстовство предлагает не конечную цель осуществления правды-справедливости (как выражался Н.К. Михайловский), а формы каждодневной жизни, благодаря которым мир постепенно преобразится, а смерть перестанет восприниматься всеобъемлющим уничтожением.
Отказ от любого насилия становится в центр этой системы моральных принципов. По мнению Толстого, в нем заключается главная идея Христа (и подлинного христианства), способная перевернуть не только жизнь каждого христианина, но и всю историю человечества. В трактате «В чем моя вера?», едва сформулировав принцип «непротивления злу насилием» в плане личной морали, Толстой почти сразу переходит к морали общественной – и утверждает отрицание Христом судов (а затем и прочих государственных институтов, поскольку все они осуществляют принцип насилия). Показательно, что в системе своих аргументов писатель неизменно сводит общественное и массовое к личному: «Ни один судья не решится задушить веревкой того, кого он приговорил к смерти по своему правосудию. Ни один начальник не решится взять мужика из плачущей семьи и запереть его в острог. Ни один генерал или солдат без дисциплины, присяги и войны не убьет не только сотни турок или немцев и не разорит их деревень, но не решится ранить ни одного человека» [Толстой 1957, 332]. Как и в исторических рассуждениях «Войны и мира», общество у Толстого – механическая сумма индивидов, общественный поступок – сумма векторов поступков личных. Поэтому «ненасилие» и «непротивление» – в первую очередь, выбор каждого отдельного человека. Превращение их в общественную позицию происходит механически – по мере увеличения количества людей, осознавших благо ненасилия.
Толстовство и толстовская колония для многих ее жителей становилась выходом из общества и мира в сферу личной нравственности, поддерживаемой кругом единомышленников. См. в воспоминаниях В.А. Маклакова, посетившего в свое время толстовскую колонию Новоселова в Тверской губернии: «Я прожил в ней <колонии. – Е.П.> очень недолго и вернулся в Москву “очарованный”. Иллюзии, будто они дали пример, за которым весь мир постепенно последует, у меня не было; но я видел, что то, чего жаждали эти люди, то есть найти такой образ жизни, который удовлетворял бы их “совесть”, ими был действительно найден. Они все были счастливы этим. <...> Все это делалось ими с радостью и убеждением, что за то зло, которое господствует в мире, они более не “ответственны”; то, что лично они могли сделать, чтобы в нем не участвовать, они теперь сделали. Все это было предметом горячих бесед, которые велись в колонии вечером. Была общая атмосфера какого-то всеобщего “медового месяца” наступившего счастья» [Маклаков 1954, 83]. Не менее показательно категорическое нежелание Толстого оформить толстовство в качестве общественного движения (как предлагал ему в 1892 г. известный полтавский толстовец И.Б. Файнерман [Файнерман]): основатель учения посчитал бессмысленным не только проводить учредительные съезды, но и «толковать» с большим количеством людей в форме докладов и дискуссий.
Таким образом, толстовец как бы выпадал из грешного мира, обретая свой личный рай в своем личном монастыре («келье под елью», как удачно выразился Н.К. Михайловский [Михайловский 1897, 399]). Непротивление злу насилием хорошо работает в рамках этой монастырской жизни: любое несогласие в колонии единомышленников решается всеобщим обсуждением, принципиально несогласные покидают колонию (отмечены многочисленные случаи временного «послушания», которые заканчивались возвращением в мир – например, случай И.А. Бунина, в юности несколько лет увлекавшегося толстовством) [Пономарев 2000]. Но во всеобщей жизни, сложной и многогранной, непротивление оказывалось под вопросом.
Собственно, при выходе во внешний мир непротивление превращается в последовательное отрицание основных функций государства (от охраны правопорядка и защиты суверенитета до регулирования финансово-экономических отношений) – и тут проповедь Толстого сближается с анархической повесткой. Показательно, что Ленин посчитал это радикальное снятие Толстым всех государственных функций (как «ненужных» подлинному христианскому обществу) революционной декларацией. Толстой же легко обходится без государства и общества: общественную и государственную сферы он подменяет индивидуальным размышлением и личной беседой. Идеальное общество в его представлении состоит из индивидов, которые вступают в какие-то отношения друг с другом только по мере необходимости – или в силу идейной близости, для обмена мнениями.
Толстовская проповедь выстраивается всякий раз как обращение к многочисленным индивидам-единомышленникам, которые размышляют над теми же вопросами, но еще не до конца сформулировали то, к чему Л.Н. Толстой уже пришел сам. Всякие иные формы проповеди Толстой не одобряет, ибо проповедь – это насилие над свободным размышлением индивида. Важным элементом толстовской повестки становится неучастие в насильственных действиях любого рода, в том числе – неучастие в любых сферах государственной деятельности: толстовец не может быть не только полицейским, но и чиновником. Государство как инструментарий насилия не позволяет толстовцу иметь с ним хоть что-то общее. Толстовец, по сути, выходит из государства. До этого момента толстовство не слишком отличается от магистральных идейных течений русской интеллигенции, противопоставляющих аморальную и антинародную «власть» высокоморальному и объединяющему народ-нацию «обществу» (воплощенному интеллигентским кружком, крестьянской общиной или институтом толстого журнала).
Однако мысль Л.Н. Толстого движется дальше: его филиппики направлены не столько против государства, сколько против общества (и общественного мнения, заклейменного им еще в «Анне Карениной»). Ибо общество есть выражение все той же безликой силы, которая заставляет человека делать то, чего он вне общества – перед лицом собственной совести – никогда не сделал бы: ни один судья не решится задушить веревкой того, кого он приговорил к смерти, и т.д. (см. цитату выше). Если любое сотрудничество с государством – преступно, то любая общественная деятельность – бессмысленна. Равно как светская жизнь и формы повседневного общения, усвоенные городской интеллигенцией (когда Федор Протасов в «Живом трупе» говорит, что ему мучительно стыдно за всю свою прежнюю жизнь, он говорит именно об этом). Имеющий руссоистские корни призыв Толстого к жизни на природе трудами рук своих, подающийся как педантичное следование библейской формулировке («в поте лица придется тебе добывать хлеб свой», Быт. 3:19), в первую очередь решает задачу выхода человека из общества (и только потом свидетельствует о нравственной пользе физического труда и «естественной жизни», а также освобождении мужика от обязанности кормить интеллектуалов и чиновников).
Здесь к «непротивлению» и «ненасилию», с которых начиналась нравственная проповедь Толстого, добавляется третье «не-» – неделание. «Неделание» стало заглавием статьи 1893 г., построенной как развернутый комментарий к программным высказываниям Э. Золя и А. Дюма. По мысли Толстого, банальные рецепты будущего вроде «труда» (завет Золя студентам) или «взаимного понимания, взаимной любви», предотвращающей войну (реакция Дюма на речь Золя) не могут изменить жизнь к лучшему. Для того, чтобы что-то реально изменилось, нужно отказаться от «ложного понимания жизни» [Толстой 1954, 198]. Если бы люди хоть ненадолго остановились в своей жизненной суете и перестали делать то, что каждый из них делает в данную минуту (речь идет и о профессиональной и об общественной деятельности), то, полагает Толстой, им удалось бы осознать главную заповедь Христа («любить друг друга без различия личностей, семей, народностей» [Толстой 1954, 200], забывая о собственном благе) и заново выстроить жизнь согласно этой заповеди. В этой новой жизни многие профессии перестанут существовать как ненужные; ненужной окажется и вся общественная деятельность (это подразумевается, хотя сам Толстой больше рассуждает о бессмысленности науки), поскольку «языческая» жизнь будет радикально перестроена.
Итак, обязательная предпосылка толстовской «христианизации» языческого мира – остановка любой деятельности. Во-первых, деятельность, по мнению писателя, мешает спокойному размышлению. Размышление в толстовстве заменяет молитву – и оказывается формой «духовного делания» (в терминах традиционного христианства). Во-вторых, вся деятельность человечества (ориентированная на поддержание «языческой» жизни) не имеет никакого значения: не делать ничего лучше, чем делать пустые и вредные вещи – не говоря о том, что привычная деятельность каждого способствует поддержанию и воспроизводству «языческой» жизни. Если интерпретировать этот тезис Толстого в духе ленинской парадигмы, то писатель, по сути, предлагает всеобщую забастовку во имя разрушения неправильного мира и последующего построения мира правильного (близость этой идеи тексту «Интернационала» очевидна). Здесь кроется тот важный момент, когда ненасилие и неделание становятся оружием, разрушающим сложившийся порядок вещей. Толстовство типологически смыкается с революционным народничеством: если политический террор народников стал ответом на запрет правительством всякой политической публичности, то Толстой предлагает столь же радикальную идею, но повернутую на 180 градусов – отказаться жить по привычным правилам, где умеренное насилие признается обязательным средством поддержания общественного порядка, признавать только собственные «правила игры». Поборникам насилия предлагается либо выпасть из жизни, либо принять новые правила. Эту сторону ненасилия и неделания (перевод духовной силы в сферу политического противостояния) – в контексте собственной культуры и политической ситуации – позднее осмыслил Махатма Ганди, большой поклонник и в какой-то мере идейный последователь Толстого [Гусейнов 2019; Серебряный 2009]. Диалектическое превращение духовного ненасилия-неделания в материальную силу, оказывающую воздействие на политику и самое устройство мира, лучшим образом проявилось в гандизме.
Большинство современников Толстого восприняло толстовскую проповедь позитивистски-прямолинейно: ненасилие в их сознании нередко оказывалось синонимом добра (ибо и сам Толстой практически не разделяет одно и другое), отказ от ненужных дел – вариантом общественного блага. Лишь некоторые рецепции толстовского учения подчеркивали диалектическую сложность очень простых на первых взгляд идей. Так, например, повесть А.П. Чехова «Моя жизнь» (1896), главный герой которой самостоятельно пришел ко многим толстовским убеждениям, завершается трагическим несчастьем для всех персонажей, несмотря на то что основные толстовские рецепты ими выполнены. Столь же несчастными делают эти рецепты всех окружающих (ненасилие Мисаил Полознев не декларирует, но по умолчанию практикует: есть в повести эпизод, когда он с наслаждением бьет деревенского заимодавца-управляющего Моисея, но потом осуждает себя. А ко всем обидевшим его самого и любимую сестру он относится без злобы). Чувство выполненного долга не заменит Мисаи-лу потерянную любовь, умершую сестру, разрушенную семью. При этом именно он в глазах окружающих кажется первопричиной несчастий, ибо он навязывает всем собственные правила жизни, а принимать чужие не намерен. Таким образом, сам сюжет произведения вступает в спор с гуманистической направленностью толстовской проповеди и самого принципа ненасилия-неделания.
Открытие оборотной стороны толстовства – насилующей ненасилием и творящей зло во имя добра – стимулировало перечитывание Толстого представителями русского философского ренессанса начала XX в. Одна из центральных символистских идей о двух путях достижения Истины – через добро и через зло, сформулированная в первом символистском романе Д.С. Мережковского «Смерть богов: Юлиан Отступник» (1895), задала новую перспективу восприятия толстовства в русской культуре. Прочтение Толстого философами новых школ придало идеям ненасилия и неделания новые смыслы.
Список литературы Толстовское непротивление в контексте Серебряного века, русской революции и русской эмиграции. Часть 1
- Гусейнов А.А. Толстой и Ганди // Вопросы философии. 2019. № 11. C. 153–163.
- Евлампиев И.И., Матвеева И.Ю. Принцип «непротивления злу насилием» Л.Н. Толстого в контексте русской религиозной философии конца XIX – начала ХХ в. // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Философия. 2020. Т. 24. № 2. С. 165–180.
- Лев Николаевич Толстой / под ред. А.А. Гусейнова, Т.Г. Щедриной. М.: РОС-СПЭН, 2014. 574 с.
- Маклаков В.А. Из воспоминаний. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1954. 485 с.
- Мелешко Е.Д. Христианская этика Л.Н. Толстого. М.: Наука, 2006. 308 с.
- Михайловский Н.К. Сочинения. Т. 6. СПб.: Русское богатство, 1897. 1046 стб.
- Пономарев Е.Р. И.А. Бунин и Л.Н. Толстой: автореф. дис. … к. филол. н.: 10.01.01. СПб., 2000. 23 с.
- Серебряный С.Д. Лев Толстой в восприятии М.К. Ганди // Вопросы литературы. 2009. № 5. C. 333–362.
- Слонимский Л.З. Новые теории графа Л.Н. Толстого // Вестник Европы. 1886. № 8. С. 808–836.
- Толстой Л.Н. В чем моя вера? // Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Т. 23. М.: ГИХЛ, 1957. С. 304–465.
- Толстой Л.Н. Неделание // Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. Т. 29. М.: ГИХЛ, 1954. С. 173–201.
- Толстой Л.Н. Одумайтесь! // Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. Т. 36. М.; Л.: ГИХЛ, 1936. С. 100–148.
- Файнерман И.Б. Письма к Толстому // ОР ГМТ. Ф. 1. 194/11. Письмо 3.