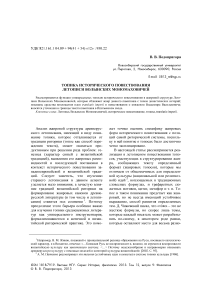Топика исторического повествования Летописи Волынских Мономаховичей
Автор: Подопригора Василий Вячеславович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 9 т.12, 2013 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются функции универсальных топосов исторического повествования в жанровой структуре Летописи Волынских Мономаховичей, которые сближают жанр данного памятника с типом династических историй; показаны средства воплощения идеи translatio imperii в повествовании о княжении Владимира Васильковича; вносятся уточнения в границы текста памятника в Ипатьевском своде.
Летопись волынских мономаховичей, историческое повествование, топика
Короткий адрес: https://sciup.org/147218953
IDR: 147218953 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Топика исторического повествования Летописи Волынских Мономаховичей
Анализ жанровой структуры древнерусского летописания, имеющий в виду понимание топики, которое отталкивается от традиции риторики (топос как способ порождения текста), может оказаться продуктивным при решении ряда проблем: генезиса (характер связей с византийской традицией), выявления его жанровых разновидностей и последующей постановки в контекст исторического повествования западноевропейской и византийской традиций. Следует заметить, что изучению старшего летописания в данном аспекте уделяется мало внимания, а зачастую влияние традиций византийской риторики на формирование жанровых канонов древнерусской литературы (в том числе и летописания) ставится под сомнение 1. Поэтому преодоление этого барьера особенно важно для изучения топики средневековых литератур как универсального инструментария, формализовавшегося в античной и византийской риторической практике. Это помо- жет точнее оценить специфику жанровых форм исторического повествования с позиций самой риторической системы, поскольку в ней понятие о топосах было достаточно четко эксплицировано.
В настоящей статье рассматривается реализация в летописном повествовании топосов, участвующих в структурировании жанра, сообщающих тексту определенный формат (жанровых топосов), которые мы отличаем от общезначимых для определенной культуры (национальной или религиозной) идей 2, воплощаемых в традиционных словесных формулах, и трафаретных сюжетных мотивов, цитат, метафор и т. п. Топос в таком понимании предстает как жанровый, но не всегда имеющий устойчивое выражение, способ развития определенных тем. Д. Чижевский писал, что «τόποι – это не жесткие формулы, но скорее лишь темы, которые каждый писатель может разрабатывать по-своему, в некотором роде рамки, которые оставляют место для весьма разно- образного содержания, оправа, в которую можно и должно заключить всевозможные конкретные украшения» 3.
Во-вторых, важным для нашей работы является положение о системности топосов в историческом повествовании. Рассматривая конкретную разновидность древнерусского летописания как концептуально выстроенное повествование, мы опираемся на понимание средневековой истории как синтетической системы, в которой все жанровостилистические элементы скреплены единой историософской концепцией, выдвинутое Е. И. Дергачевой-Скоп [1974. С. 16–17].
Представление о системности топосов в средневековых исторических сочинениях не является модернизированным, но в значительной мере может быть адекватно средневековому историческому сознанию. Примером средневекового понимания истории могут служить слова одного из авторов жизнеописаний византийских царей (хроника Продолжателя Феофана): «Феофан завершил повествование царствованием куро-палата Михаила <…> Мы же, как бы добавляя к голове прочие члены, представляем свою историю не полузаконченной, но полной и передаем для потомков следующих поколений» 4 [Продолжатель Феофана…, 2009. С. 7].
Изучаемый нами памятник, Летопись Волынских Мономаховичей 5, может быть описан именно как история (правления династии) со своими константными признаками (которые придают ей повествовательную целостность), имеющая свое концептуальное начало и завершение. Это отличает такой тип исторического повествования от традиционного летописания, развертывающегося линейно, тенденцию которого не всегда возможно явно проследить или реконструировать (см.: [Дергачева-Скоп, 1997. С. 161]).
Наблюдения над реализацией топики исторического повествования в летописании показывают, что введение такого универсального для него топоса, как «начало истории», представляющего собой краткий или пространный ретроспективный экскурс, который объясняет происхождение какой-либо области, города, племени, рода или истоки исторической коллизии, не всегда строго связано с определенным словесным или мо-тивным воплощением. Необходимость описать начальные этапы истории осознавалась древнерусскими авторами даже в тех случаях, когда они не располагали достаточным материалом 6.
Похвальное слово Роману Галицкому и Владимиру Мономаху в начальной статье Галицко-Волынской летописи, соотносимое некоторыми исследователями с типом посмертных некрологов 7, резко отличается от них в жанровом отношении 8. Напротив, похвала предкам Волынской династии построена как ретроспективный экскурс в историю рода Романовичей и выполняет определенные функции 9. Воплощение в этой экспозиции топоса «начало истории» позволяет говорить о ее принадлежности именно автору, ставившему задачу апологии деяний
Волынской ветви Мономаховичей от Романа Галицкого до Мстислава Даниловича, когда могла окончательно сложиться летописно-династическая направленность волынского летописания. Предположение о ее присутствии в протографе Галицко-Волын-ской летописи 10, таким образом, выглядит менее вероятным.
Типологически данная экспозиция может быть соотнесена со вступительными сообщениями о деяниях основателей династий как в западноевропейской хронистике (в том числе польской), так и в исторических повествованиях, связанных с древнерусским летописанием (например, экскурсы о происхождении рода литовских князей в белорусско-литовском летописании), которые всегда оказываются значимыми в их исторической концепции 11. Ту же функцию выполняет легендарный экскурс в сочинении Продолжателя Феофана (Жизнеописании Василия), рассказывающий о величии предков Василия I, первого царя Македонской династии, род которого автор (предположительно Константин Багрянородный) возводит к Константину Великому и Александру Македонскому 12.
Соматопсихограммы 13, еще один универсальный топос исторического повество- вания, в Летописи Волынских Мономахови-чей представлены и в кратком виде, и в качестве структурного компонента панегирика. Так, очень краткая соматопсихограмма князя Василька Романовича 14 лишь механически вставлена в рассказ о войне с ятвяга-ми под 1248 г. (в Ипатьевском списке). По всей видимости, составитель рассматривал братьев Романовичей как представителей одной степени (соправителей) и поэтому только дополнил текст Летописца Даниила некоторыми подробностями о деяниях владимирского князя post factum 15.
Кроме того, в Летописце Даниила (как в византийских исторических сочинениях) характеристиками, сходными с типом сома-топсихограмм, наделяются отрицательные персонажи. Так, о мятежном боярине Жирославе летописец сообщает: «бе бо лоукавыи льстець нареченъ и всихъ стропотливее и ложь пламянъ, всеименитыи оцемь доб-рымъ, оубожьство возбраняше злобоу его, лъжею питашеся языкъ его, но моудростию возложаше вероу на лжю, красяшеся лестью паче венца, лжеименець зане прелщаше не токмо чюжихъ, но и своихъ возлюблены(х) имения ради ложь» (748), о ятвяжском вожде Скомонде: «…бе волхвъ и кобникъ наро-читъ, борзъ же бе яко и зверь, пешь бо ходя повоева землю Пиньскоую, иныи страны…» (799–800).
Что касается проблемы разграничения Летописца Даниила Галицкого и его волынского продолжения, то, по нашему мнению, нет достаточных оснований считать текст Летописца Даниила незавершенным 16 (т. е. обрывающимся на 1260 г. в Ипатьевском списке). Возможно, как предполагали некоторые исследователи 17, его фрагменты со- хранились в тексте, который считается принадлежащим уже волынскому книжнику. Такой фрагмент можно выделить в рассказе о встрече послов князя Василька Романовича Даниилом, в котором последний именуется «королем» (что характерно для «галицкой» части летописи), а также использована антитеза в описании состояния героя, свойственная 18 стилю Галицкой летописи: «король же бяше печалуя о брате по велику и о сыновце своем Володимере <…> быс радость велика королеви о здоровьи брата своего и сыновца, а ворози избити» (857).
На примере Летописи Волынских Моно-маховичей можно наблюдать расширение повествовательного пространства летописного текста и сближение с типом династической хроники за счет введения экфраси-са (descriptio) 19. Развернутое и детальное описание построек, воздвигнутых правителями, мы также рассматриваем как жанровый топос исторического повествования 20. Рассказы о строительной деятельности, содержащие описания церквей, в сочинениях каролингского биографа и Продолжателя Феофана 21 (как и в Летописи Волынских Мономаховичей – 843–847; 925–927) входят в структуру повествования о деяниях правителей и составляют отдельные композиционные разделы.
На формирование топосов исторического повествования в Византии 22 оказали силь- ное влияние жанры риторики (энкомий и его противоположность – «псогос», поношение), их воздействие сказывалось еще сильнее в повествованиях о деяниях императоров (Kaiserchronik), которые противопоставляются исследователями типу хронографии 23. К риторической форме (которую сами византийцы, например Михаил Пселл, отличали от хронографической) в той или иной степени тяготели византийские исторические сочинения 24. Для древнерусского автора разграничение «повествовательного» и «панегирического» плана летописи вовсе не было актуально 25.
Топика энкомия неоднократно эксплицировалась в античных риторических трактатах (руководства Менандра, Афтония). Так, в трактате Менандра «О красноречии» выделяются следующие топосы похвальной речи, посвященной правителю (так называемая «царская речь»): вступление, страна, город и народ, происхождение героя, обстоятельства его рождения, природные качества, воспитание и образование, образ его жизни, деяния, судьба и заключительная часть, содержавшая сравнение восхваляемого героя с персонажами античной истории и мифологии (synkrisis) и эпилогом, представлявшим собой молитву о благоденствии героя, либо обращением к нему во втором лице 26.
Рассмотрим воплощение топики энкомия в Летописи Волынских Мономаховичей в сопоставлении с классической схемой. Похвальные слова правителям в Летописи Волынских Мономаховичей (особенно в шаяся уже в поздней античности схема <…> предписывала упорядоченное следование определенных сведений о герое, перечисление жестко фиксированных его качеств» [2009. С. 337].
завершение истории княжения Владимира Васильковича) в разной степени воспроизводят форму своего византийского прототипа. Достаточно краткая похвала Даниилу Романовичу, автором которой принято считать уже волынского, а не галицкого летописца, воплощает лишь малую часть этих топосов. Не вводя соматопсихограмму Даниила, Летописец перечисляет качества характера героя («добрыи, хоробрыи и моуд-рыи»), деяния («иже созда городы многи и церкви постави и украси е различными красотами»), заканчивается похвала краткой формой синкрисиса (translatio nomini): Летописец называет Даниила «вторым по Соломоне». Этот панегирик, по нашему мнению, в целом встраивается в систему топосов Летописца Даниила Галицкого 27, поэтому сам его текст может принадлежать и одному из авторов его Летописца, а не волынскому продолжателю. Его автором мог быть холмский епископ Иоанн, которому атрибутируется завершающая часть Летописца [Пашуто, 1950. С. 98; Ужанков, 2009. С. 371] и который особенно акцентировал участие Даниила в церковном строительстве.
В панегирике Владимиру Васильковичу, завершающем повесть о его болезни и преставлении, топосы внешнего энкомия могут быть выделены достаточно четко, соблюдена в целом и последовательность их расположения в сравнении с классической схемой. Отсутствие пролога и рубрики genos может указывать на то, что похвала создавалась именно в рамках летописного повествования, а не вошла в него как самостоятельное ораторское произведение. Летописец не сообщает о происхождении и предках героя (что в летописном повествовании скомпенсировано естественным образом), а начинает с перечисления его внешних качеств, вводя развернутую сома-топсихограмму, детально описывающую внешность князя (что в византийской традиции называлось soma): «Сии же благовер-ныи князь Володимерь возрастомь бе высок, плечима великъ, лицемь красенъ, волосы имея желты кудрявы, бороду стригыи…» (920–921).
Вторая часть соматопсихограммы (ethos, нравственные качества) содержит достаточно традиционные характеристики, представляющие Владимира как благоверного князя, исполнившего евангельские заповеди (кротость, смирение, правдолюбие и т. д.). Своеобразие манеры волынского летописца сказывается в противопоставлении добродетелей в характеристике героя страстям (кроток, смирен, правдив – не злобив, не мздоимец, не лжив, питья не пи; <…> «моужьство и ум в немь живяше, правда же и истинна с нимь ходяста, иного добродеянья в нем много беаше – гордости же в немь не бяше, зане уничижена есть гордость пред Богом и человекы»).
В соответствии с каноном византийского энкомия летописец говорит об образовании (anatrofe) своего героя: «глаголаше ясно от книгъ, зане быс философъ великъ» (921).
Панегирический топос praxeis (деяния), в античных риторических предписаниях подразумевавший восхваление деяний, выводимых из определенного набора добродетелей 28, может быть прослежен и в похвале Владимиру: летописец говорит о милостыне князя, его покровительстве монастырям, воздержании от пьянства, мужестве и уме.
После краткого перечисления деяний в панегирике можно выделить и следующую рубрику (по Менандру: судьба, tyche), кратко характеризующую жизненный путь героя (обобщающий пассаж «возлюбивъ нетленная паче тленьных, и небесная паче временных и царство со святыми у вседержителя Бога паче притекущаго царства земнаго», что в данном случае является дословным заимствованием из похвалы Андрею Бого-любскому, но вряд ли содержит отсылку к исходному тексту), после чего летописец переходит к эпилогу.
Синкрисис в панегирике Владимиру Васильковичу не составляет отдельного раздела 29, но заимствованное у Илариона сравнение князя с императором Константином, читающееся ранее: «подобниче великого Костянтина, равнооумне, равнохристолюб-че, равночестителю слоужителемъ его…» (914) и развиваемое в эпилоге, особенно важно для понимания концепции летописи 30. А. А. Пауткин дает следующий комментарий к этому месту: «…если уподобление Владимира Крестителя человеку, провозгласившему христианство государственной религией, было вполне правомерным, то в данном случае оно выглядит явным преувеличением. Здесь все сводится к книжной премудрости, постоянным беседам с епископами и игуменами <…>. И хотя исходная параллель с Никейским собором в случае Владимира утрачивает свое прежнее значение, важные исторические аналогии княжеской святости, предложенные еще Иларионом, остаются в силе» [Пауткин, 2002. С. 205].
Изменяющее акценты авторитетного текста (образ благоверного князя вместо правителя-законодателя 31 у Илариона), сопоставление Владимира Васильковича с Константином подчеркивает значимость фигуры князя в иной парадигме (преемство «освященного» царства Волынским княжеством вместо преемства апостольской веры) и выполняет принципиально важную роль в исторической концепции всего Галицко-волынского повествования, так как реализует идею translatio imperii 32. Эта идея дополнительно акцентируется в завершение панегирика, молитвенном обращении к князю Владимиру, практически дословно цитирующем похвалу Владимиру Святославичу митрополита Илариона («аки Соломон Давида иже домь Божии великыи и святыи его мудростью созда <…> яже церкви дивна и славна всемъ окружным сторонам, акаже ина не обрящется во всеи полунощной земля от востока и до запада и славныи город твои Володимерь величеством аки венчемь обложен…»). Выбранные летописцем цитаты из Илариона (сравнение князя и его наследника с Давидом и Соломоном 33 и величество «славного города» Владимира, вписываемого таким образом в ассоциативный ряд Иерусалим – Константинополь – Киев) как раз подчеркивают значимость фигуры и деяний Владимира Васильковича в парадигме translatio imperii 34.
Можно указать также на другое место Волынской летописи, возможно, отсылающее к образу Константина как избранного Богом основателя христианского царства. Интересно, что известие о построении не столь важного для политической и церковной жизни княжества города Каменца Владимиром Васильковичем имеет некоторые сюжетные параллели с хронографическим рассказом об основании Константинополя. Константин, замысливший «создати град», во сне получает повеление от Бога основать город на месте старого Византия: «И обнови град Византии, древле создан Визом, царем тракиискым, стена создана, и приложи в едино поприще и нарече Костянтин, град» 35. Волынский летописец сходно повествует о создании Каменца: вначале у князя Владимира появляется мысль «абы кде за Берестьемь поставити городъ», затем, открыв «книги пророческыя», князь читает слова пророка Исайи и, «уразуме милость Божию до себе», начинает искать место для будущего города. Князь остановил свой выбор на земле, «опустевшей по 80 лет по Ро- мане», где приказал заложить город и «на-рече имя ему Каменец, зане быс земля камена» (875–876).
Завершающая часть Волынской летописи частью исследователей считается фрагментом особого летописца Мстислава Даниловича с утраченным окончанием [Пашуто, 1950; Лихачева, 1987. С. 240], другими – непосредственным продолжением повествования о княжении Владимира Васильковича [Еремин, 1957. С. 108 и далее; Толочко, 2003. С. 270], принадлежащим тому же автору. Однако при чтении летописного текста становится очевидным изменившееся отношение летописца ко Льву Даниловичу. Это отмечает П. П. Толочко: «Заметно изменилось в этой части летописи (имеется в виду рассказ о начале правления Мстислава Даниловича. – В. П. ) отношение ко Льву Даниловичу, авантюры которого как будто больше не раздражали летописца. Наоборот, он с воодушевлением замечает, что из польского похода князь вернулся “с честью великою и со множеством полона”» [Толочко, 2003. С. 271]. Между тем известие о вокня-жении Мстислава на Волыни, по нашему мнению, как раз является концептуальным завершением той повествовательной системы, которую мы называем Летописью Волынских Мономаховичей: летописец не продолжил повествование как рассказ о деяниях Мстислава. Следующий за ним текст отражает, по нашим наблюдениям, тенденцию старшего Даниловича, галицкого князя Льва. Завершающие Ипатьевский свод погодные известия уже выглядят и тематически (кроме известия о создании Мстиславом Даниловичем усыпальницы «княгини Романовой» и каменного столпа в Чарто-рыйске), и жанрово (а возможно, и по своему происхождению) инородными.
Вероятно, что, обозначив Мстислава Даниловича как преемника Владимира Волынского и описав его вокняжение, летописец счел нужным завершить повествование, которое затем, как показывают последние приписки в Ипатьевском своде (погодные записи о кончине пинского князя Юрия Владимировича и степанского Ивана Глебовича), продолжалось как обычная летопись 36. Вполне вероятно, что Волынская летопись после смерти не оставившего наследников Мстислава (умер после 1292 г.) была дополнена при дворе наследовавшего его владения Льва Даниловича, т.к. рассказ о его в целом неудачном походе на Краков под 1291 г., подчеркнуто комплементарен по отношению к нему и даже содержит краткий панегирик Льву 37, тогда как владимирский летописец настроен ко Льву Даниловичу и его сыну Юрию недружественно (именно на притязания галицких Даниловичей на волынские земли содержится намек в цитированном выше месте из плача княгини Ольги).
Участие редактора, близкого галицко-холмским Даниловичам, косвенно подтверждается тем фактом, что в завершение статьи 1289 г. подчеркивается внешнеполитическое значение вступления Мстислава на престол, что он «миръ держа с околными сторонами, с Ляхы и с Немци, с Литвою, одержа землю свою величеством олны по Тотары, а семо – по Ляхы, по Литву» (Ипат., 933). Далее следует сообщение, что с помощью войска Мстислава его польский союзник Конрад Семовитович получил Судомирское княжение. Следующий летописец, по нашему мнению, близкий Льву Даниловичу, попытался подчеркнуть не меньшую роль своего князя 38 в польских делах, рассказав о его участии в борьбе за краковское княжение («Лев князь, брат Мстиславль, сын королев, внук Романов сам иде в помощь Болеславу…») 39.
Итак, мы определяем Летопись Волынских Мономаховичей как летописно-дина-
А. Н. Насонова [1969. С. 230–231]. Противоположной точки зрения придерживался В. Т. Пашуто, относивший записи о турово-пинских князьях к тексту летописи Мстислава Даниловича [1950. С. 132].
стическое повествование, которое сохраняет жанровые константы летописания (в том числе традиционные литературные формулы, прямые речи, диалоги и т. п.), но в то же время имеет черты жанра исторического повествования, объединенного единой темой и историософией (от утверждения династии волынских князей, происходящей от героизируемых предков, до завершающей летопись идеи translatio imperii через соотнесение образа Владимира Волынского с богоизбранными правителями, царем Давидом, Константином Великим и Владимиром Святославичем) и характеризующееся концептуальным воплощением образов князей: Романа Мстиславича и Владимира Мономаха как героического предка, Даниила и Василька Романовичей как князей-воинов, воплощающих «светский» идеал правителя, Владимира Васильковича – благоверного князя и Мстислава Даниловича как его преемника.
Как повествование об истории династии Летопись Волынских Мономаховичей имеет аналогии в западноевропейской хронистике (каролингский цикл биографий Карла Великого и Людовика Благочестивого 40, в своей рукописной традиции объединявшейся с Хроникой Адемара). Этот же жанр династических историй с X в. получает развитие в византийской литературе (часть сочинения Продолжателя Хронографии Феофана, излагающая историю правления Македонской династии от основателя, Василия I, до Константина Багрянородного, выведенного благоверным (eusebes) правителем) 41. Императорские хроники Продолжателя Феофана вполне могли послужить ориентиром (или даже жанровым прототипом) для летописцев Юго-Западной Руси 42.
Описанный тип исторического повествования (исторический материал, подающийся через личность правителя, наделяемого значимыми атрибутами) позднее получит развитие на Руси в виде Степенной книги.
HISTORICAL NARRATION TOPIC OF VOLYNIAN MONOMAKHOVICH’S CHRONICLE
This study examines functions of some universal topoi of historical narration in the genre structure of Volynian Monomakhovich’s Chronicle, which brings together the genre of the document and the type of dynastic histories; author analyzes the ways of implementation of the translatio imperii idea in the narrative devoted to Vladimir Vasilkovitch ruling; also author specifies textual boundaries of given document within Hypatian codex.
Список литературы Топика исторического повествования Летописи Волынских Мономаховичей
- Аверинцев С. С. Плутарх и античная биография. К вопросу о месте классика жанра в истории жанра. М., 1973.
- Балаховская А. С. Христианский энкомий в агиографических произведениях, написанных в честь Иоанна Златоуста // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2012. № 6 (17). С. 27-31.
- Буланин Д. М. Античные традиции в древнерусской литературе XI-XVI вв. München, 1993.
- Вайнштейн О. Л. Западноевропейская средневековая историография. М.; Л., 1964.
- Васильев В. К. Сюжетная типология жанра жития в русской литературе XI-XVI вв.: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Томск, 2008. 26 с.
- Войтович Л. До волинського лiтописання // Дрогобицький краєзнавчий збiрник. Дрогобич, 2004. Вип. 8. С. 71-76.
- Дергачева-Скоп Е. И. Заметки о жанре «Истории Сибирской» С. У. Ремезова. Статья 2 // Проблемы литературы Сибири XVII-XX вв. (материалы к «Истории русской литературы Сибири»). Новосибирск, 1974. С. 5-23.
- Дергачева-Скоп Е. И. К проблеме поведения текста в контексте: древнерусская повесть в летописных сводах и летописно-хронографических компиляциях // Гуманитарные исследования: итоги последних лет: Тез. науч. конф., посвящ. 35-летию ГФ НГУ. Новосибирск, 1997. С. 158-160.
- Еремин И. П. Волынская летопись 1289-1290 гг. // ТОДРЛ. М.; Л., 1957. Т. 13. С. 102-117.
- Еремин И. П. Литературное наследие Кирилла Туровского // ТОДРЛ. М.; Л., 1958. Т. 15.
- Ермоленко С. М. Апокрифическое сказание «О Лествице, юже виде Иаков» в составе Толковой Палеи: система риторических приемов, жанровые характеристики // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2012. Т. 11, вып. 12: Филология. С. 145-154.
- Живов В. М. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М., 2002.
- Истрин В. М. Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе. Текст, исследование и словарь. Пг., 1920. Т. 1: Текст.
- Каждан А. П. История византийской литературы (850-1000 гг.). Эпоха византийского энциклопедизма. СПб., 2012.
- Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1988.
- Летописец Еллинский и Римский. СПб., 1999. Т. 1. Лихачева О. П. Летопись Ипатьевская // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1987. Вып. 1. С. 231-241.
- Любарский Я. Н. Герои «Хронографии» Иоанна Малалы // Любарский Я. Н. Византийские историки и писатели. СПб., 2012. С. 21-30.
- Любарский Я. Н. О жанровой и композиционной специфике «Хронографии» Михаила Пселла // Византийский временник. М., 1971. Т. 31. С. 23-37.
- Любарский Я. Н. Сочинение Продолжателя Феофана. Хроника, история, жизнеописания? // Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей. СПб., 2009. С. 293-368.
- Майоров А. В. Царский титул Галицко-Волынского князя Романа Мстиславича и его потомков // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2009. № 1-2. С. 250-261.
- Мельничук В. А. Летописание двух ветвей династии Ольговичей в составе Киевского свода XII века: текст и контекст // Изв. УрФУ. Екатеринбург, 2012. С. 170-179.
- Мельничук В. А. Летописец Всеволода Ольговича в Киевском своде XII в. (к проблеме литературных границ) // Книга и литература в культурном пространстве эпох (XI-XIX века). Новосибирск, 2011. С. 535-555.
- Насонов А. Н. История русского летописания XI - начала XVIII в. Очерки и исследования. М., 1969.
- Панченко А. М. Топика и культурная дистанция // Историческая поэтика. Итоги и перспективы изучения. М., 1986. С. 236-250.
- Панченко О. В. Поэтика уподоблений (к вопросу о «типологическом» методе в древнерусской агиографии, эпидейктике и гимнографии) // ТОДРЛ. СПб., 2003. Т. 54. С. 494-495
- Пауткин А. А. Беседы с летописцем. Поэтика раннего русского летописания. М., 2002.
- Пашуто В. Т. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. М., 1950.
- Подопригора В. В. О презентации образа Романа Мстиславича в Галицко-Волынской летописи // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2012. Т. 11, вып. 12: Филология. С. 163-167.
- Поляковская М. А. Энкомии Николая Кавасилы как исторический источник // Античная древность и Средние века. Свердловск, 1973. Вып. 9. С. 77-88.
- Приселков М. Д. История русского летописания XI -XV вв. СПб., 1996.
- Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей / Изд. подг. Я. Н. Любарский. СПб., 2009.
- ПСРЛ. 2-е изд. М., 2001. Т. 1: Лаврентьевская летопись.
- ПСРЛ. 2-е изд. М., 2001. Т. 2: Ипатьевская летопись.
- ПСРЛ. М., 2001. Т. 7: Летопись по Воскресенскому списку.
- ПСРЛ. СПб., 1903. Т. 19: История о Казанском царстве (Казанский летописец).
- Руди Т. Р. Топика русских житий (вопросы типологии) // Русская агиография: исследования, публикации, полемика. СПб., 2005. С. 59-101.
- Столярова Л. В. Свод записей писцов, художников и переплетчиков древнерусских пергаменных кодексов XI-XIV вв. М., 2000.
- Толочко П. П. Русские летописи и летописцы X-XIII вв. СПб., 2003.
- Ужанков А. Н. Проблемы историографии и текстологии древнерусских памятников ХI-XIII веков. М., 2009. С. 287
- Фонт М. «Житие» Даниила Романовича // Княжа доба: iсторiя та культура. Львiв, 2008. Вып. 2. С. 98-108.
- Чичуров И. С. Политическая идеология Средневековья. Византия и Русь. М., 1991.
- Щавелева Н. И. Древняя Русь в «Польской истории» Яна Длугоша (книги I-VI): Текст, перевод, комментарий. М., 2004.
- Эйнхард. Жизнь Карла Великого / Пер. М. С. Петровой // Памятники средневековой латинской литературы. VIII-IX века / Под ред. М. Л. Гаспарова. М., 2006. С. 178-202.
- Burgess Th. Epideictic Literature. N. Y., 1902.